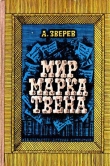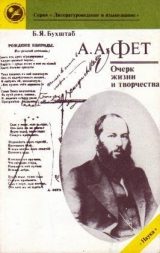
Текст книги "А.А. Фет. очерк жизни и творчества"
Автор книги: Борис Бухштаб
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
1
Поэзия Фета – одна из вершин русской лирики. Сейчас в этом вряд ли возможны сомнения. Но современники Фета оценивали его поэзию далеко не так высоко, как мы. Только один из них сказал о творческой силе Фета проникновенные слова, которые, наверное, многим тогда показались странными. Эти слова принадлежат величайшему поэту эпохи – Некрасову. Вот что он писал
«Смело можем сказать, что человек, понимающий поэзию и охотно открывающий душу свою ее ощущениям, ни в одном русском авторе после Пушкина не почерпнет столько поэтического наслаждения, сколько доставит ему г. Фет. Из этого не следует, чтобы мы равняли г. Фета с Пушкиным; но мы положительно утверждаем, что г. Фет в доступной ему области поэзии такой же господин, как Пушкин в своей, более обширной и многосторонней области»11
Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений и писем В 12 т. М., 1948–1953. Т. 9. С. 279.
[Закрыть].
Это было сказано в 1856 г. Позднее Некрасов так о поэзии Фета не написал бы и, можно думать, так ее уже не оценивал.
Оценка поэзии Фета в литературном кругу, как мы увидим, резко менялась, но вне литературного круга Фет не был популярен на протяжении всего своего более чем полувекового творческого пути. В 1857 г., в пору апогея литературных успехов Фета, такой пропагандист его поэзии, как В. П. Боткин, писал «Все журналы наши встретили книжку г. Фета сочувствием и похвалами, но тем не менее, прислушиваясь к отзывам о ней публики не литературной, нельзя не заметить, что она как-то недоверчиво смотрит на эти похвалы ей непонятно достоинство поэзии г. Фета. Словом, успех его, можно сказать, только литературный»22
Боткин В. П. Сочинения В 3 т. СПб., 1890–1893. Т. 2. С. 368.
[Закрыть].
Но и в литературном кругу положение Фета резко изменилось в 60-е годы, в результате чего он оказался совсем оторванным от литературной жизни.
Вышедшее в 1863 г. собрание стихотворений Фета, итоговое для первых двух десятилетий его литературной деятельности, не разошлось до самой его смерти.33
2 июля 1889 г. Фет писал Я. П. Полонскому «…мое солдатенковское издание разошлось в течение 26-ти лет только в тысяче двухстах экземплярах». – Письма Фета Полонскому хранятся в Архиве Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской Академии наук
[Закрыть] Свой последний сборник семидесятилетний поэт выпустил в шестистах экземплярах – тираж для маститого поэта крайне мизерный и по тому времени.
Литературная карьера Фету совершенно не удалась, но это было лишь звено в цепи неудач и невзгод, преследовавших его с первых лет жизни.
Уже самое рождение Фета произошло при обстоятельствах, грозивших ему большими бедами, которые затем и начали обрушиваться на него.
Фет был сыном Шарлотты-Елизаветы Фет (Foeth), жены дармштадтского чиновника Иоганна-Петера-Карла-Вильгельма Фета. Но родился будущий поэт не в Германии, а в России, в Орловской губернии, в имении Новоселки, принадлежавшем помещику Афанасию Неофитовичу Шеншину. Младенец был окрещен в православную веру, наречен Афанасием и записан в метрическую книгу законным сыном неженатого Шеншина.
Этим странным обстоятельствам предшествовали события еще более странные.
В начале 1820 г. (или, может быть, в самом конце 1819-го) в Дармштадте появился лечившийся в Германии 44-летний русский помещик, отставной ротмистр Афанасий Неофитович Шеншин. Из-за отсутствия мест в гостинице он поселился в доме оберкригскомиссара Карла Беккера. Вдовый Беккер жил с дочерью Шарлоттой, зятем и внучкой. Дочери было в то время 22 года. За полтора года до этого она вышла замуж за амт-асессора Иоганна Фета, имела уже дочь Лину (Каролину) и была беременна вторым ребенком.
Шеншин прожил у Беккеров до осени, а в сентябре 1820 г. Шарлотта бежала с ним в Россию, в его имение. Трудно понять, чем так пленил молодую женщину пожилой – вдвое ее старше – небогатый, некрасивый, угрюмый иностранец, что она бросила мужа, отца, годовалую дочь, свою страну, все родное и близкое. В недоумении и ужасе отец Шарлотты писал Шеншину (7 октября 1820 г.) «Употреблением ужаснейших и непонятнейших средств прельщения лишена она рассудка и до того доведена, что без предварительного развода оставила своего обожаемого мужа Фета и горячо любимое дитя…».44
Григорович А. К биографии А. А. Фета (Шеншина) // Русская старина. 1904. № 1. С. 167. – Это перевод выписки из письма, перлюстрированного московским почт-директором, следившим за перепиской русских людей с иностранцами.
[Закрыть]
Поступок Шарлотты Фет можно было бы понять, если бы ожидаемый ребенок был от Шеншина. Но такая возможность исключалась, как видно из писем Шеншина и Шарлотты к ее брату Эрнсту Беккеру.55
С этими письмами получил возможность ознакомиться покойный исследователь биографии Фета Г. П. Блок. Местонахождение их в настоящее время неизвестно. Я привожу цитаты по неизданному труду Г. П. Блока «Летопись жизни А. А. Фета». Машинописный экземпляр этого труда хранится в Архиве Пушкинского Дома.
[Закрыть] Так, после смерти Иоганна Фета в 1826 г. Шеншин писал Э. Беккеру «Очень мне удивительно, что Фет в завещании забыл и не признал своего сына. Человек может ошибаться, но отрицать законы природы – очень уж большая ошибка».
Сам Фет называл своим отцом Шеншина. В написанных им в конце жизни мемуарах, где многое утаено и искажено, он старается не оставить в этом сомнений. Но своей будущей жене он решился открыть тайну своего рождения. За месяц до свадьбы он отправил ей письмо, в котором называет своим отцом И. Фета и рассказывает о том, как Шеншин увез от него его беременную жену. Фет дважды просит сжечь письмо. На конверте его рукой написано «Читай про себя» и рукой его жены – «Положить со мной в гроб».
В Новоселки Шарлотта Фет прибыла в конце сентября 1820 г., а 29 октября (по другим данным 29 ноября) родился будущий поэт. Сыном Шеншина записал его местный священник, горький пьяница, страшно поэтому бедствовавший. Надо думать, он получил хорошую мзду за дерзкий подлог.
Через два года Шеншин обвенчался с Шарлоттой – теперь уже Елизаветой Петровной. Удалось ли предварительно добиться развода с И.-П. Фетом или решились на уголовно наказуемое двоемужество? Вероятнее первое, поскольку (согласно «Летописи» Г. П. Блока) и И.-П. Фет затем, в 1824 г., вторично женился. С другой стороны, в письмах матери Фета к брату упоминаний о разводе, видимо, нет, – иначе сведения об этом попали бы в упомянутую «Летопись». Как бы то ни было, братья и сестры Фета невозбранно звались Шеншиными. Не так получилось с ним. Фамилию Шеншин он носил до четырнадцати лет, а затем лишился ее.
Что-то и в эти годы было неладно. В 1823 г. Елизавета Петровна жалуется брату на то, что бывший муж ее шантажирует, требуя денег за «усыновление» Афанасия; в 1826 г. она просит брата помочь мальчику получить «честную фамилию». «Должен же он получить фамилию», – повторяет она, а Шеншин при этом просит как-нибудь «втиснуть» в желаемый документ частицу «фон», чтобы можно было выдавать Афанасия за потомственного дворянина.
Все это как-то неясно. Во всяком случае мальчик, надо думать, ни о чем этом не знал и рос в имении Шеншина, считаясь и сам себя считая старшим сыном помещика.
Детство было нерадостным, вспоминалось впоследствии невесело.
Самым близким и интимным другом Фета был с детских лет и навсегда остался Иван Борисов – мальчик из соседнего поместья. Когда крепостные убили его отца – приятного шутника в обществе и свирепого деспота дома, – А. Н. Шеншин стал опекуном детей Борисовых. Впоследствии И. П. Борисов женился на сестре Фета, Надежде Шеншиной.
Вот что писал Фет этому другу в 1850 г.
«…С тобой, мой друг, я люблю окунаться душой в ароматный воздух первой юности, только при помощи товарища детства душа моя об руку с твоей любит пробегать по оврагам, заросшим кустарником и ухающим земляникой и клубникой, по крутым тропинкам, с которых спускали нас деревенские лошадки, – но один я никогда не уношусь в это детство – оно представляет мне совсем другие образы – интриги челяди, тупость учителей, суровость отца, беззащитность матери и переживание в страхе изо дня в день. Бог с ней с этой, как выражается капитан Крюднер, паршивой молодостью».
Учили юного Афанасия очень плохо. Его образование было предоставлено постоянно сменявшимся семинаристам, равно невежественным и не способным учить.
«Если бы я, – вспоминал впоследствии Фет, – обладал и первоклассною памятью, то ничему бы не мог научиться при способе обучения, про которое можно сказать только стихом из Энеиды
Несказанную скорбь обновлять мне велишь ты, царица».
Серьезное ученье началось только на пятнадцатом году жизни Фета, когда его отвезли в пансион Крюммера, находившийся в Лифляндии, в маленьком городке Верро (ныне Выру в Эстонии). Учили и учились там одни немцы. Русский язык, видимо, входил в число учебных предметов, однако говорить по-русски не умел и сам ученый директор школы. Питомцев кормили скудно, но учили серьезно, с утра до ночи, особенно налегая на математику и латынь.
На каникулы Фета – единственного в школе – домой не брали, «по отдаленности», как он объяснял впоследствии. «Оставаясь один в громадной пустой школе и пустом для меня городе, я слонялся бесцельно каждый день, напоминая более всего собаку, потерявшую хозяина». Этим лишний раз подтверждалось мнение товарищей, что «отец-то выпихнул его за дверь».
Для чего, в самом деле, было отдавать Фета в такую дальнюю, чисто немецкую школу, когда в Москве были хорошие пансионы? Не было ли это связано с переменами в его судьбе?
Незадолго до отправления его в школу Орловское губернское правление, по чьему-то доносу, запросило Орловскую духовную консисторию о рождении сына ротмистра А. Н. Шеншина Афанасия. Получив в ответ выписку из метрической книги, губернское правление затребовало справку о браке родителей Афанасия. Духовному начальству пришлось произвести следствие, на котором крестивший Фета священник показал, что записал младенца сыном Шеншина «по уважению, оказываемому в оном доме». После этого епархиальным властям не оставалось ничего другого, как постановить, что «означенного Афанасия сыном г. ротмистра Шеншина признать не можно»; священника же с причтом «хотя бы и следовало подвергнуть наказанию, но поелику сие было до состояния всемилостивейшего манифеста, то за силою оного учинить их свободными».
Мальчик в самом деле оказался «без фамилии». Пришлось кланяться дармштадтским родственникам. Фет в своих мемуарах упоминает о том, «каких усилий стоило отцу моему (т. е. А. Н. Шеншину. – Б. Б.), чтобы склонить опекунов сестры Лины к признанию за мной фамилии ее отца…». «…Опекуны Лины Фет, – сказано в свидетельстве Орловского губернского правления от 21 января 1853 г., – признают рожденного оною бывшею Шарлотою Фет Афанасия сыном вышеозначенного умершего асессора Иогана Петра Карла Вильгельма Фет <…>. Следовательно, и нет сомнения, что упомянутый Афанасий имеет происхождение от родителей его амт-асессора Иогана Петра Карла Вильгельма Фет и его бывшей жены Шарлотты Фет».
Мальчик получил «честную фамилию», ставшую для него источником бесчестья и несчастья.
Превращение из русского столбового дворянина в немца-разночинца лишало Фета не только социального самоощущения, дворянских привилегий, права быть помещиком, возможности наследовать родовое имение Шеншиных. Он лишался права называть себя русским; под документами он должен был подписываться «К сему иностранец Афанасий Фет руку приложил».66
Впоследствии, уже в 25-летнем возрасте, Фет был принят в русское подданство.
[Закрыть] Но самым главным было то, что он лишался возможности без позора объяснить свое происхождение почему он сын Шеншина; почему он иностранец Фет, если он сын Шеншина; почему он Афанасьевич, рожден в Новоселках и крещен в православие, если он сын Иоганна-Петера Фета. Недоуменные и издевательские вопросы, на которые нечего было ответить, посыпались на Фета еще в пансионе Крюммера, когда стало известно, что Шеншин больше не Шеншин.
Всю жизнь Фет старался отмолчаться от рокового вопроса и «тщательно избегал его, замечая его приближение», а когда это не удавалось, «вынужден был прибегать ко лжи», «чтобы не набрасывать <…> неблагоприятной тени» на свою мать. Так, в объяснение своего рождения в Новоселках он выдумывал, «что первый муж ее Фет вывез ее в Россию, где и умер скоропостижно».
Но ведь такое объяснение не «набрасывало тени» лишь в том случае, если Фет признавал себя при этом сыном И.-П. Фета, а не А. Н. Шеншина.
Противоречивость, недосказанность, неохотность объяснений Фета вместе со странностью и запутанностью обстоятельств его рождения способствовали постепенному распространению третьей версии его происхождения. Согласно этой версии, Фет не был сыном ни ротмистра Шеншина, ни асессора Фета, а был сыном безвестного корчмаря-еврея, продавшего Шеншину свою жену.
Рассказывая в автобиографии о директоре Третьяковской галереи H. H. Черногубове, художник И. Э. Грабарь между прочим пишет
«Давно было известно, что отец Фета, офицер русской армии двенадцатого года, Шеншин, возвращаясь из Парижа через Кенигсберг, увидел у одной корчмы красавицу еврейку, в которую влюбился. Он купил ее у мужа, привез к себе в орловское имение и женился на ней. Не прошло несколько месяцев, как она родила сына, явно не Шеншина, который и стал впоследствии знаменитым поэтом <…>. Официально считалось, что Фет – законный сын Шеншина. Что он был сыном кенигебергского корчмаря, было секретом полишинеля, но сам поэт это категорически отрицал однако объективных доказательств противного не существовало».
Доказательство, по словам Грабаря, удалось обнаружить Черногубову, интересовавшемуся биографией Фета. Он будто бы еще при жизни Фета узнал, что тот завещал вскрыть после своей смерти конверт с письмом его матери, в котором раскрывалась тайна его происхождения. После смерти Фета его родные так и поступили, а затем положили письмо в гроб умершего. Удачливый Черногубов не только об этом проведал, но и ухитрился вытащить письмо из гроба и прочесть его. Письмо доказывало правильность бытовавшей версии происхождения поэта.
Сообщение И. Э. Грабаря не получило до сих пор определенной оценки. Осторожное отношение к малоправдоподобному рассказу Грабаря объясняется, вероятно, тем, что Черногубов занимался биографией Фета серьезно и притом был близок с художником Остроуховым, женатым на племяннице жены Фета и поддерживавшим отношения с поэтом. Однако Грабарь не говорит, что передает слышанное от самого Черногубова. Черногубов же через несколько лет после смерти Фета напечатал статью, в которой опубликовал документы, явно противоречащие версии, изложенной Грабарем (они частично цитированы выше). Черногубов подтверждает здесь распространенность слуха о покупке матери Фета Шеншиным у ее мужа,77
«Знакомые и дворовые Аф. Неоф. Шеншина говорили мне, что жену свою Елисавету Петровну он купил за сорок тысяч рублей у ее мужа» (Н. Черногубов. Происхождение А. А. Фета С. 530).
[Закрыть] не высказывается определенно о достоверности этого слуха, но под мужем имеет в виду асессора Фета, а не какого-то корчмаря.
Легенда о письме матери Фета кратко изложена и в известной книге И. Г. Эренбурга «Люди, годы, жизнь», – но уже с изменением и места, откуда происходил Фет («Его отцом был гамбургский еврей»), и времени обнаружения письма («После революции кто-то вскрыл гроб и нашел письмо»).
Версия Грабаря (или схожие с ней) противоречит не только документам. Если принять ее, – все, что в своих воспоминаниях рассказывает Фет о немецких родственниках, к которым он ездил в 1844 г., должно быть признано сплошной выдумкой, начиная с самого их существования. Но возьмем, скажем, такую деталь по рассказу Фета, его сестра Лина Фет гостила у Шеншиных и вышла замуж за их дальнего родственника – врача А. П. Матвеева, получившего профессуру в Киеве. Фет касается и неудачной семейной жизни Матвеевых. Но ведь А. П. Матвеев – это не мифический персонаж, это видный профессор, впоследствии декан медицинского факультета, а затем проректор и ректор Киевского университета. Если бы Фет все выдумал, он, очевидно, назвал бы мужем Лины не такого человека, сведения о котором нетрудно было проверить. Да и какие могли бы быть у Шеншиных сношения с первой семьей матери Фета, если бы эта мать была купленной Шеншиным шинкаркой?
Полагаю, что легенда о купленной шинкарке – при всей ее распространенности – вздорная. Быть может, поскольку И.-П. Фет шантажировал бывшую жену, требуя денег, он получил их за развод (если таковой имел место) – и отсюда пошла легенда? Другой ее источник – резко выраженный еврейский тип наружности Фета. С. Л. Толстой, старший сын Льва Толстого, пишет в своих мемуарах «Наружность Афанасия Афанасьевича была характерна <…>. Его еврейское происхождение было ярко выражено». П. И. Бартенев также пишет о том, что еврейское происхождение Фета «ярко и несомненно высказывалось его обличием». О том же свидетельствуют и другие мемуары, дневниковые записи, дошедшие до нас устные рассказы лиц, знавших Фета. Да это видно и на портретах и фотографиях.
Но еврейское происхождение вряд ли было совместимо с тем высоким социальным положением семьи Беккеров, как оно рисуется в мемуарах Фета.88
Так, он рассказывает о приезде в Москву в 1841 г. своего дяди Эрнста Беккера в качестве адъютанта принца Александра Гессенского (Ранние годы моей жизни. С. 197.
[Закрыть] Быть может, еврейская кровь была у Фета не с материнской, а с отцовской стороны, со стороны И.-П. Фета? Наличные материалы не дают возможности решить этот. вопрос; да он и не существен. Существенно, что даже близкие друзья Фета – Полонский,99
Мать его была немкой еврейского происхождения» (Полонский Я. П. Мои студенческие воспоминания // Ежемесячные литературные приложения к «Ниве». 1898. № 12. С. 643.
[Закрыть] Лев Толстой – считали Фета евреем или полуевреем, и можно себе представить, как это терзало с детства раненное самолюбие Фета, тем более что, какова бы ни была истина, он не мог раскрыть ее, а мог только лгать. «Он всю жизнь страдал, – пишет свояченица Льва Толстого Т. А. Кузминская, – что он не Шеншин <…>, а незаконный сын еврейки Фет».1010
Н. П. Лузин, дальний родственник Шеншиных и крестник, племянницы Фета О. В. Шеншиной-Галаховой, пишет «От моей матери я слышал такой рассказ в молодые годы О. В. Шеншина, моя мать, Д. А. Офросимов, бывая в имении у Фета, говорили ему, что он похож на еврея… По словам мамы, он очень сердился и всегда им говорил „Я – не еврей, а потомственный дворянин – Шеншин"» (Письмо Н. П. Лузина ко мне от 27 января 1971 г..
[Закрыть]
Всю жизнь Фет считал свое переименование тяжелейшей катастрофой. Тридцать лет проносив имя Фет и прославив его, (из Фёта в Фета он переименовал себя в студенческие годы) он пишет жене «Если спросить как называются все страдания, все горести моей жизни, я отвечу имя им – Фет».
Видимо, не было в жизни Фета события, которое оказало бы большее влияние на формирование его характера и выбор жизненных целей и путей. Разумеется, все это произошло и сказалось не сразу.
2
Проучившись у Крюммера три года и проведя еще полгода в очень скверном московском пансионе профессора Погодина, Фет в 1838 г. поступил на словесное отделение философского факультета Московского университета.
Приезды на каникулы в Новоселки сталкивали Фета с новой бедой. Мать была тяжело больна, ей становилось все хуже и хуже, и вскоре после окончания Фетом университета она умерла. Чем она болела – из мемуаров Фета не ясно. Говорит он об «истерических припадках», о «меланхолии», о том, что она жила то в Орле, «чтобы находиться под ежедневным надзором своего доктора Вас. Ив. Лоренца», то в Новоселках, в особом флигеле, где всегда царила ночь и куда даже дети ее допускались лишь на несколько минут.
Через двадцать лет после ее смерти И. П. Борисов отвез свою жену – сестру Фета – Надежду, несколько раз сходившую с ума и теперь впавшую в уже неизлечимое безумие, в психиатрическую больницу под Петербургом, «и там, – пишет Борисов И. С. Тургеневу, – пришлось сдать ее доктору Лоренцу, старому знакомцу. Он 15 лет лечил ее мать, которая все эти годы была в сильнейшей меланхолии, – вот где и разгадка несчастной болезни – а мы никто этого вначале и не подозревали».
Наследственный характер болезни стал несомненным, когда один за другим сошли с ума оба брата Фета и Борисовой. Впоследствии сошел с ума и сын Борисовых. У старшей сестры Фета, Каролины Матвеевой, к пожилым годам также проявились признаки умственного расстройства.
В 1872 г. Тургенев, возмущаясь взглядами Фета, пишет Я. П. Полонскому «…он теперь иногда такую несет чушь, что поневоле вспоминаешь о двух сумасшедших братьях и сумасшедшей сестре этого некогда столь милого поэта. У него тоже мозг с пятнышком».
Когда Фет понял, что его мать сходит с ума, когда заподозрил и когда убедился, что она – носитель наследственной болезни, что, значит, и ему грозит сумасшествие, – этого мы не знаем. Этот круг душевного ада Фет особенно оберегал от посторонних взглядов. Не все ему, очевидно, открылось сразу. Но и того, что было пережито уже в первые два десятилетия его жизни, было достаточно, чтобы образовать резко выраженные черты характера и отношения к миру. Черты скепсиса, неверия в людей, в добро и справедливость выделяли Фета из круга молодежи, в котором он вращался в студенческие годы.
Характерный факт уже студентом-первокурсником Фет был непоколебимо убежденным атеистом. Для юноши 30-х годов, поэта-романтика, принадлежавшего к кругу молодежи, увлеченной идеалистической философией, это позиция необычная там были мучительные сомнения в религиозных истинах, были настроения «богоборчества» – здесь было спокойное и твердое отрицание.
Еще в пансионе Погодина Фет близко сошелся с учителем этого пансиона Иринархом Введенским. Впоследствии Погодин назвал Введенского «одним из родоначальников» русских нигилистов. И Фет в своих мемуарах называет Введенского «типом идеального нигилиста». В дальнейшем Введенский был связан с петрашевцами, сам он и его кружок оказали несомненное влияние на молодого Чернышевского.
Через тридцать лет после смерти Введенского из его бумаг был извлечен и напечатан в малораспространенном журнале «контракт», который 1 декабря 1838 г. заключили между собой Введенский и «г. Рейхенбах (имя вымышленное), который теперь отвергает бытие Бога и бессмертие души человеческой». Введенский утверждает, а «Рейхенбах» отрицает, что через двадцать лет он изменит атеистическим убеждениям. Г. П. Блок с полной убедительностью доказал, что под «вымышленным именем» Рейхенбаха скрылся Фет.
Г. П. Блок справедливо замечает при этом, что если бы пари было заключено не на двадцать, а на пятьдесят лет, Фет и тогда выиграл бы его. Непреклонным атеистом он остался до конца жизни. Когда, незадолго до его смерти, врач посоветовал его жене вызвать священника, чтобы причастить больного, она «ответила, что Афанасий Афанасьевич не признает никаких обрядов и что грех этот (остаться без причастия) она берет на себя». Этот факт сообщает биограф Фета Б. А. Садовский, который дает к цитированным словам такое примечание «Фет был убежденным атеистом. Когда он беседовал о религии с верующим Полонским, то порой доводил последнего, по свидетельству его семьи, до слез». Об атеизме Фета, о спорах, в которых он опровергал догматы религии, рассказывает в своих воспоминаниях старший сын Льва Толстого.
Ранняя трезвость скептической мысли исключала для Фета серьезное увлечение и религиозно-философскими концепциями и социальными утопиями, завоевывавшими умы и сердца его сверстников. Другое мощное увлечение противостояло в его душе «прозе жизни» упоение поэзией и жажда творчества, начавшиеся еще в пансионе Крюммера. Поэзия, казалось бы, была далека от того склада личности, какой вырабатывался в Фете под ударами судьбы. И одним из непреложных догматов стало для Фета на всю жизнь отделение глухой стеной «поэта» от «человека».
Погодин показал тетрадь стихов Фета Гоголю. Гоголь сказал «Это несомненное дарование». По указанию Фета в письме к Полонскому от 23 мая 1888 г., это произошло в декабре 1838 или в январе 1839 г.
Увлечение поэзией, возникшая вера в свое поэтическое призвание были, конечно, причиной выбора факультета. Впрочем, «словесные науки» мало захватывали Фета учился он плохо и вместо полагавшихся тогда четырех провел в университете шесть лет. Но эти годы были периодом большой поэтической работы и быстрого роста поэта. «Вместо того, чтобы ревностно ходить на лекции, я почти ежедневно писал новые стихи», – вспоминал впоследствии Фет об этом времени.
Большую роль в развитии таланта и интереса к поэзии сыграло сближение Фета со студентом-однокурсником Аполлоном Григорьевым, даровитым поэтом, впоследствии выдающимся критиком. Подружившись с ним, Фет стал просить А. Н. Шеншина поместить его к родителям Григорьева на полный пансион. В мезонине григорьевского дома в Замоскворечье, бок о бок с Аполлоном, Фет прожил свои студенческие годы.
Аполлон Григорьев был центром кружка молодых студентов, из которых многие впоследствии создали себе имя в науке, литературе, публицистике (Я. П. Полонский, С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин, В. А. Черкасский и другие). В кружке господствовали философские, эстетические и поэтические интересы. Философией Фет в те годы не интересовался, гегельянской атмосфере григорьевского кружка остался чужд; с Григорьевым его сближала преданность поэзии «Связующим нас интересом оказалась поэзия, которой мы старались упиться всюду, где она нам представлялась, принимая иногда первую лужу за Ипокрену».
Было у друзей нечто сходное и в социальной биографии, столь мучительной для Фета. Аполлон был незаконным сыном своих законно женатых родителей. Он родился от связи своего отца с дочерью крепостного кучера. Когда это стало возможным, отец Григорьева женился на ней. Сын потомственного дворянина, Аполлон Григорьев числился мещанином. Его это, вероятно, нимало не беспокоило, но Фету, надо думать, легче дышалось в семействе тоже «неправильном».
Для Григорьева, юного идеалиста, склонного к мистицизму, Фет был демоном-искусителем, разрушавшим его веру своими сарказмами. «Помнишь, – пишет Фету Полонский, – как ты нашел Григорьева в церкви у всенощной, и, когда тот, став на колена, простерся ниц, ты тоже простерся рядом с ним и стал говорить ему с полу… что-то такое Мефистофельское, что у того и сердце сжалось и в голове замутилось…».
Никто в те годы не знал Фета так близко, как Григорьев. «Я и он – мы можем смело и гордо сознаться сами в себе, что никогда родные братья не любили так друг друга», – записывает Григорьев в 1844 г. в своих дневниковых «Листках из рукописи скитающегося софиста». Тем значительнее для нас характеристика личности Фета, написанная Григорьевым через год с чем-то после конца их совместной жизни.
В 1-м номере журнала «Репертуар и пантеон» за 1846 г. Григорьев поместил рассказ «Офелия. Одно из воспоминаний Виталина». Рассказ этот очень точно биографичен, что подтверждается полным совпадением событий, описываемых в нем и в автобиографической поэме Фета «Студент» (1884), где главными персонажами являются Фет и Аполлон Григорьев.1111
В рассказ Григорьева включены отрывки, быть может, литературно обработанные, но несомненно восходящие к личным дневникам Григорьева. Это вообще характерно для его беллетристики. См. об этом в комментарии В. Н. Княжнина в книге «Аполлон Александрович Григорьев Материалы для биографии», с. 370. Фет изображен в рассказе Ап. Григорьева «Другой из многих» (1847). В этот рассказ включены и подлинные письма Фета. См. об этом в моей статье «„Гимны" Аполлона Григорьева» (Бухштаб Б. Я. Библиографические разыскания по русской литературе XIX века. М., 1966. С. 34.
[Закрыть]
В рассказе Григорьева Фет выведен под именем Вольдемара. Вот что говорит о нем Григорьев
«Он был художник в полном смысле этого слова; в высокой степени присутствовала в нем способность творения <…>. С способностию творения в нем росло равнодушие. Равнодушие ко всему, кроме способности творить, – к Божьему миру, как скоро предметы оного переставали отражаться в его творческой способности, к самому себе, как скоро он переставал быть художником. Так сознал и так принял этот человек свое назначение в жизни… Страдания улеглись, затихли в нем, хотя, разумеется, не вдруг. Этот человек должен был или убить себя, или сделаться таким, каким он сделался <…>. Я не видал человека, которого бы так душила тоска, за которого бы я более боялся самоубийства <…>. Я боялся за него, я проводил часто ночи у его постели, стараясь чем бы то ни было рассеять это страшное хаотическое брожение стихий его души».
Начать ту беспрерывную тяжбу со злой судьбой, которая красной нитью прошла через его дальнейшую жизнь, Фет не спешил. Пока в его жизни был один центр – поэзия. Видимо, думая о будущем, он еще надеялся на свой талант, быстро крепнувший и получавший признание. Поэзия, мечталось, принесет и «громкую славу», и «независимую будущность». «…Теперь мечты о литературной деятельности проникли и заняли все мое существо, иначе бы мне пришлось худо», – пишет Фет И. Введенскому в ноябре 1840 г.
Уверенность в своем будущем поддерживалась в студенческие годы Фета еще следующим обстоятельством. Брат А. Н. Шеншина Петр Неофитович, богатый холостяк, очень любивший Фета, не раз говорил ему, что «для уравнения» его с братьями и сестрами он оставит Фету по завещанию сто тысяч рублей. «…Он, – вспоминает Фет, – под веселую руку не раз обращался ко мне, указывая на голубой железный сундук, стоявший в его кабинете „не беспокойся, о тебе я давно подумал, и вот здесь лежат твои сто тысяч рублей"». А. Н. Шеншин не мог включить Фета, как недворянина, в раздел своих имений, но, резонно замечает биограф Фета В. С. Федина, «нельзя думать, чтобы он не нашел способа разделить свое состояние поровну между всеми детьми <…>. Не доказывает ли поэтому вмешательство П. Н. Шеншина того, что Афанасий Неофитович, в сущности, не смотрел на Фета как на своего сына и на этом основании решил не оставлять ему равной части в наследстве?». Не следует ли из этого, добавлю, и то, что Фет был осведомлен о намерениях своего отчима?
В 1840 г. девятнадцатилетнему поэту удалось выпустить книжку стихов. Дав ей претенциозное заглавие «Лирический пантеон», автор укрылся за инициалами А. Ф.
Это типичный юношеский сборник – сборник перепевов. Особенно ярко запечатлелся в нем ходовой байронизм конца 30-х годов. Преобладает тема «холодного разочарования». Увлекаясь Шиллером и Гете, Байроном и Лермонтовым, Фет одновременно увлекается и модным поэтом Бенедиктовым – эпигоном романтизма, прельщавшим смелостью образов и имитацией бурных страстей. Есть в стихах «Лирического пантеона» отзвуки и Баратынского, и Козлова, и Жуковского; есть и совсем архаические стихи в стиле ранних карамзинистов, с обилием мифологических имен и сплошными перифразами
Вчера златокудрявый,
Румяный майский день
Принес мне двух душистых
Любовниц соловья
Одна одета ризой
Из снежных облаков,
Другая же – туникой
Авроры молодой.
(«Две розы»)
Во всяком случае сборник Фета выделялся среди подобных ему юношеских сборников. Он был высоко оценен в «Отечественных записках», руководимых Белинским. Рецензент, естественно, нашел в книге «много недозрелого, неопытного многое, что задумано верно, не нашло себе верного отзвука; иное неполно, другому недостает ровного колорита, а кое-что даже и вовсе бесцветно». В то же время отмечается «благородная простота», «особенная ловкость, оборотливость и даже грация в стихе», «изобразительность». Общий вывод «…г. А. Ф. целою головою выше наших дюжинных стиходелателей».
Рецензия написана П. Н. Кудрявцевым. Белинский одобрил ее и даже нашел, что Кудрявцев еще «чересчур скуп на похвалы». «А г. Ф. много обещает», – добавляет он.
Зато редактор «Библиотеки для чтения» – беспринципный зубоскал Сенковский («Барон Брамбеус») – предал в своей рецензии «Лирический пантеон» беспощадному осмеянию.
Еще до выхода «Лирического пантеона» Фет настойчиво старался завязать связи с журналами, но терпел неудачи, и лишь с конца 1841 г. его стихи стали постоянно печататься в журнале «Москвитянин», который с этого года начали издавать университетские профессора Фета Погодин и Шевырев.
С середины 1842 г. Фет становится плодовитым сотрудником «Отечественных записок». За 1842 и 1843 гг. он напечатал в «Москвитянине» и в «Отечественных записках» 85 стихотворений.
Фет быстро созрел некоторые стихотворения, напечатанные в 1842 г., типичны для фетовской манеры и известны до сих пор в числе лучших произведений Фета.
Талант молодого поэта ценил Белинский. «Из живущих в Москве поэтов всех даровитее г-н Фет», – пишет он в 1843 г. В обзоре «Русская литература в 1843 году» Белинский, кроме посмертно напечатанных стихотворений Лермонтова, считает возможным указать только «на довольно многочисленные стихотворения г. Фета, между которыми встречаются истинно поэтические», да на стихотворения Тургенева, «всегда отличающиеся оригинальностью мысли», а в обзоре «Русская литература в 1844 году» он отмечает как выдающиеся два посмертных стихотворения Лермонтова и стихотворение Фета «Колыбельная песня».