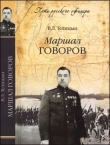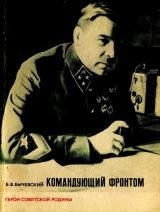
Текст книги "Командующий фронтом"
Автор книги: Борис Бычевский
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
На командных пунктах пульс всегда лихорадочен, когда первые цепи солдат достигают вражеских траншей. Казалось бы, операция неглубокая. Командарм Духанов и его штаб четко и уверенно довели подготовку войск до начала атаки, они достаточно опытны по прошлым боям. Но то – в прошлом. Слишком велико значение, военное и политическое, успеха или неуспеха операции. И она первая с начала войны с фронтальным прорывом сильной позиционной обороны, создававшейся фашистами полтора года. Вот почему формы руководства сражением со стороны командования фронтом носят специфичный характер. И Говоров, и члены Военного совета, и большая часть руководящего состава штаба находятся или у командиров дивизий, или на командном пункте армии. Это и опека, и контроль, и беспокойство. Теперь в каждый новый час боя надо предвидеть, что произойдет дальше.
Острота создалась уже в первые часы, когда Тру-бачев донес, что преодолеть семьсот метров Невы под Шлиссельбургом его полкам не удалось: на середине реки их встретил шквальный огонь и уложил на снег, только некоторым батальонам удалось прорваться к берегу. Срыв атаки дивизии Трубачева опасен для соседней справа дивизии Симоняка. Она протаранила первые линии траншей и дзотов и углубилась до трех
километров. Но теперь ее фланг открыт со стороны Шлиссельбурга!
Духанов докладывает Говорову: вынужден отвести полки Трубачева назад. Резкий, острый разговор:
– Легче всего дать команду «назад»... А что дальше? Удар гитлеровцев по Симоняку?
– Я полагаю ввести части Трубачева в прорыв на участке Симоняка, а затем развернуть его на Шлиссельбург.
– Немедленно приводите в порядок части Трубачева и вводите быстрей в бой на левом фланге Симоняка! Дорог каждый час!
Возвратившись на исходные позиции, части 86-й дивизии быстро доукомплектовываются, пополняют боеприпасы и во второй половине дня переправляются на другой берег в полосе 136-й дивизии.
Неудачи и на правом фланге, в дивизии Краснова. Говоров ждал, что она, наступавшая впритык к массиву железобетона 8-й ГЭС и каменным зданиям рабочих городков, встретит особо сильное сопротивление. Однако надеялся на опыт Краснова в сентябрьских боях. Молодой генерал-гвардеец был дерзким, уверенным. С осени он сохранил на левом берегу небольшой плацдарм и сейчас рассчитывал частью сил нанести удар, сразу направленный на окружение 8-й ГЭС. Командарм Духанов выделил для Краснова почти в полтора раза больше артиллерии, чем для соседа – 268-й стрелковой дивизии полковника Борщева.
Увы, в первые дни боев 45-я гвардейская дивизия не добилась успеха, и отнюдь не по вине ее солдат и командиров. Ибо именно там, на местах осенних боев, фашисты и ожидали главный удар, именно туда они направили ббльшую часть огня своих батарей, оживших после первоначального шока.
Телефонные разговоры командарма в подобных случаях непередаваемы. У всех нервы подобны натянутой тетиве лука. И Говорову не хватает уже выдержки. Духанов молча проглатывает почти грубые реплики командующего. Суть не в словах. Атака гвардейской дивизии сорвана, и это опять фланг в полосе прорыва! Фланги, фланги... От них зависит судьба вершины клина, вбитого центральными дивизиями Симоняка и Борщева.
И через тридцать лет ветераны будут иногда спорить на тему – в чем причина неудачи сильнейшей дивизии фронта в первые дни прорыва? Может быть, просчет командующего? А может быть, какая-то дивизия и должна была принять на себя ббльший огонь противника и тем самым обеспечить успех на главном направлении? И этой дивизией оказалась 45-я гвардейская?..
Двое суток кипит поле боя еще совсем вблизи Невы. Яростны и скоротечны воздушные бои истребителей и, наоборот, длительны штурмы зданий, дотов, блиндажей, где с упорством обреченных дерутся фашисты.
Но уже проложены понтонерами по льду Невы колейные настилы для тяжелых танков, выдвинуты на помощь пехоте тяжелые орудия, реактивные минометы.
Клин Симоняка упрямо вбивается все глубже и глубже, невзирая на открытые фланги. Продвигается в направлении Шлиссельбурга и дивизия Трубачева, снова введенная в бой из-за фланга 136-й дивизии.
И снова пульс боя резко лихорадит: на 268-ю дивизию Борщева, соседнюю с Симоняком, обрушивается сильная контратака резерва Линдемана. Опять предметный урок всем командирам, управляющим
i.
боем в глубине вражеской обороны: отстает в снегу артиллерия, оставляя пехоту одну. Вечером 13 января полки дивизии Борщева неожиданно откатываются на два километра назад, не выдержав танкового удара гитлеровцев. Это значит – снова обнажен, теперь правый фланг дивизии Симоняка.
До войск Волховского фронта, до 2-й ударной армии генерала В. 3. Романовского, тоже прорвавшей фронт противника навстречу ленинградцам,– еще восемь километров. По карте – один прочерк карандаша. Но какие усилия на поле боя, на командных пунктах! Все концентрируется в такие кризисные моменты– воля и ум командующего, четкость работы штабов, безотказность связи.
Едва ли Говоров, командарм Духанов, личный состав штабов спали, точнее урывали час-другой на отдых в течение этих дней и ночей. Пришлось изменять время и направление ввода второго эшелона армии и танковых бригад, выезжать к командирам дивизий, чтобы оценивать обстановку и давать указания на месте. Нельзя было выпускать из-под контроля ни один час боя, Фашисты пытались спасти положение единственно возможным методом – бросали и бросали в контратаки резервы. Наше командование в противовес этому непрерывно наращивало удары авиации, артиллерии и тоже вводило свежие резервы.
Семь суток нарастал накал наступления и от Невы и из района южнее Ладоги. Хроника боев содержит бесчисленное количество подвигов отдельных солдат, взводов и батарей, батальонов и полков во всех дивизиях. Об остроте, напряжении и упорстве можно судить по темпам продвижения: один-два километра в сутки, причем бои не прекращались и ночью. На 14 января расстояние между частями Ленинградского
и Волховского фронтов составляло четыре километра, 16 января – один километр.
Дрались уже дивизии вторых эшелонов. Советские воины окружили Шлиссельбург, затем ворвались в него, вели уличные бои, штурмовали отдельные здания. В попытке вырвать оттуда остатки гарнизона Линдеман снова бросил в бой новые части и ввел в контратаку два полка с танками против частей дивизии Симоняка, продолжавших пробиваться к заданному пункту соединения с волховчанами в районах станций Подгорная, Синявино, Рабочий поселок № 5.
В кульминационном бою Симоняк наголову разгромил и эти резервы врага.
И вот наступил наконец день 18 января, вошедший в летопись легендарной Ленинградской эпопеи яркой солнечной страницей. Соединились войска двух фронтов. Кольцо блокады Ленинграда разорвано!
«...Люди высыпали на улицу. Улыбки и слезы. Город украшен флагами. Рядом с выжженными домами и кварталами эти флаги – символ будущего, символ восстановления, строительства Ленинграда»,– писала «Правда» в те дни.
В историю Великой Отечественной войны вписаны часы и минуты: в 9 часов 30 минут 18 января 1943 года у Рабочего поселка № 1 встретились бойцы батальона капитана Собакина из 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта, которой командовал полковник Шишов, и батальона капитана Демидова 372-й дивизии Волховского фронта, которой командовал полковник Радыгин.
В тот же день, 18 января, в Москве было принято решение о немедленном строительстве железнодорожной линии Шлиссельбург – Поляны с мостом через Неву. И уже 6 февраля в Ленинград прибыл эшелон с продовольствием из глубины страны.
65
В. В Вычевский
Что может вызвать более глубокое удовлетворение у военачальника, как не такое реальное, зримое воплощение победы! В подготовку, в осуществление ее вложены духовные и физические силы тысяч и тысяч людей, в том числе и его – командующего. Большой личный вклад Леонида Александровича Говорова в победу был отмечен высокой наградой. Он получил орден Суворова I степени. 15 января 1943 года, в разгар боев по прорыву, Говорову было присвоено звание генерал-полковника.
Военно-политический резонанс прорыва блокады Ленинграда, как и итогов великой битвы под Сталинградом, был огромен и в Европе, и в Америке.
А перед войсками Ленинградского и Волховского фронтов и их полководцами стояли уже новые проблемы.
Весь 1943 год на северо-западе шли затяжные бои. Великие Луки, Любань, Красный Бор, Синявино... После прорыва блокады вызревал разгром северного крыла Восточного фронта гитлеровцев. Вызревал в целой серии частных операций, которые именуют «боями местного значения». На северо-западе, среди болот и лесной глухомани, шло «перемалывание» живой силы противника в небольших по масштабам боях, но на многих участках.
У Мерецкова и Говорова после прорыва блокады не было еще такого перевеса над группой армий «Север», чтобы в одной операции разгромить ее главные силы. Основная задача в этот период: не допустить переброски на другие фронты ни одной из десятков фашистских дивизий Кюхлера.
И вот идут непрерывные изнурительные бои...
Один из командиров дивизий, генерал А. В. Бат-лук, рассказывал, вспоминая синявинские бои 1943 года:
«Если зимой торфяные болота там хотя немного замерзали, то летом настал какой-то кромешный ад... На узких тропках между бесчисленными торфяными ямами ни укрыться, ни разойтись даже санитарам с носилками. Все просматривается и простреливается немцами с занятых еще в 1941 году высот. «Чертовы высоты». А у нас трясина засасывает орудия до четырех метров в глубину. Жара, болотные испарения и постоянно тлеющий от пожаров торф вызывает рвоту; за неделю преют и расползаются гимнастерки. «Прогрызание» длится больше месяца. Говоров принял решение: ограничить участие каждой дивизии в таких боях десятью сутками. Мы, командиры дивизий, называли это «поурочной системой Говорова». И, откровенно, не могли тогда оправдывать непрерывности лобовых атак без перевеса в силах. А сейчас, вспоминая ход последующих событий, я думаю, что Говоров сумел все же сохранить в таких условиях боеспособность всех дивизий к моменту главного удара».
Ж' Добавим – и выполнить долг полководца: не дать противнику перебросить отсюда на центральный участок советско-германского фронта под Курском ни одной дивизии. А итоги Курской битвы, в свою очередь, приблизили разгром главных сил группы армий «Север».
Разгром 18-й армии 9 сентября 1943 года Л. А. Говоров и А. А. Жданов представили в Ставку первые соображения по замыслу будущей операции. В них было написано: «...Военный совет Ленинградского фронта считает своевременным поставить вопрос о разгроме 18-й ар–
мии, как основы северного крыла восточного фронта противника, и не только окончательно освободить Ленинград, но и овладеть всем лужским плацдармом с выходом на рубеж р. Луга от устья до г. Луга, как предпосылки дальнейших действий на Прибалтику».
14 сентября послал в Ставку свои соображения и Военный совет Волховского фронта.
Общий замысел операции, утвержденный Ставкой, сводился к тому, чтобы ударом ленинградцев с севера в направлениях на Гатчину и Кингисепп, а волховчан с юго-востока на Чудово, Дивенский и Новгород, Луга рассечь немецко-фашистскую группу армий «Север» на стыке 18-й и 16-й армий, выйти на основные коммуникации вражеских войск южнее Ленинграда и окружить главные силы 18-й армии противника. Не дать 16-й немецко-фашистской армии перебросить соединения под Ленинград вменялось в задачу 2-го Прибалтийского фронта. Для этого войска его левого крыла должны были перерезать железные дороги Полоцк – Идрица и Новосокольники – Дно и тем сковать главные силы 16-й армии.
Такое решение вполне отвечало взглядам Говорова. Он считал, что армию Линдемана до сих пор спасала возможность маневра силами своей и 16-й армий, потому что Ленинградский и соседние фронты наносили удары на узких участках, не угрожая окружением больших группировок.
Теперь, после крупнейших поражений гитлеровской армии на многих фронтах, коренным образом изменилась обстановка и в группе армий «Север». Разведывательный отдел фронта давал сведения, что 20 немецких дивизий перед Ленинградским и Волховским фронтами стоят, по существу, в одном оперативном эшелоне. В районе Псков, Чудово, Остров расположено всего три-четыре дивизии.
1 – Кюхлер уже не имеет крупных резервов,—
® докладывал Евстигнеев Говорову в те дни.
S Для Говорова и Мерецкова было крайне важно ? разгадать планы противника в этих условиях. Что ' намерен делать командующий 18-й фашистской армией Линдеман? Появились характерные симптомы: гитлеровцы спешно создают тыловую оборонительную полосу на рубеже Нарва, Псков, Порхов. Она уже названа ими «Пантерой». Пленный офицер-сапер рассказал и о промежуточных рубежах, о подготовке к разрушению мостов, дорог, к минированию населенных пунктов... Не собирается ли Линдеман, понимая шаткость своей позиционной обороны на широком фронте с малыми резервами, уйти из-под Ленин града раньше, чем его «подсекут под корень»?
■ Ставка располагала еще более полными разведывательными данными и считала очень вероятным вариант преднамеренного отвода 18-й армии на сокращенную линию фронта под Нарву и Псков.
Но в таком случае надо готовить не прорыв, а пре-.КУгедование. Не дать фашистам уйти безнаказанно Из-под стен Ленинграда! Необходимо иное построение нашей группировки, создание подвижных сил. И Ставка требует обязательного учета этих обстоятельств.
Такой «кроссворд» командующий фронтом и штаб решали долго. Они скрупулезно разрабатывали план одновременно в двух вариантах.
Говоров склонялся к тому мнению, что Линдеман не уйдет сам с позиций, которые создавались два с половиной года.
– Конечно, после сталинградского котла и разгрома под Курском у немцев нет генерала, который бы не боялся подобного,– говорил он, слушая доклад начальника разведотдела,– но в подготовке промежуточных рубежей позади «Пантеры» должен быть какой-то оперативный замысел. Какой?
бремя шло, но не было признаков, что Линдеман вот-вот начнет преднамеренный скрытный отход на тыловую полосу. Однако партизаны, боровшиеся с оккупантами в этих местах, доносили: немцы вывозят оборудование промышленных предприятий, переводят крупные склады, базы в более глубокий тыл, за рубеж «Пантеры».
– А что вы по этому поводу думаете? – опять пытал Говоров Евстигнеева.
Разговор шел в присутствии Жданова и других членов Военного совета. Генерал Евстигнеев, отличавшийся умением всесторонне анализировать сведения из различных источников, избегал поспешных выводов. Он высказался осторожно:
– Все дивизии противника на местах... Получают пополнение... Линдеман тоже ведет разведку. Нашу подготовку трудно от него скрыть. Возможно, он готовит себе свободу маневра в своих тылах. На тот случай, если не удержится на долговременных позициях...
– Вот-вот,– ухватился за эту мысль Жданов.– Разрабатывайте-ка эту версию дальше, товарищ Евстигнеев. Фашисты не могут не понимать, что теперь мы намного сильнее их, но так запросто бросить все и бежать?! Очень непохоже на них... А Финляндия? Пока это союзник гитлеровцев. А в случае их бегства?
Только впоследствии вскрылось, что командующий группы армий «Север» Кюхлер и Линдеман действительно боялись окружения 18-й армии. Поэтому «разгружали» ближний тыл, чтобы облегчить быстроту передвижения войск по всему фронту. В то же время Гитлер категорически отверг вариант преднамеренного отхода, предложенный Кюхлером, и дал директиву – удерживать позиции под Ленинградом до последнего солдата. Для Гитлера группа армий «Север» была основой левого крыла Восточного фронта.
В дни, о которых идет речь, Ставка Советского Верховного Главнокомандования, разрабатывая общий план кампании 1044 года, предусматривала, что наступательная операция на Ленинградском направлении будет одной из серии мощных, последовательных и нарастающих ударов на всем советско-германском фронте, ударов, исключающих попытки гитлеровских генералов удержать позиции на своих операционных направлениях. Календарно операции войск Ленинградского и Волховского фронтов планировались как первый из таких ударов в самом начале 1944 года.
Предложения Мерецкова и Говорова были утверждены в октябре. Для большей силы удара с ораниен-бауманского плацдарма Ставка приказала Говорову передислоцировать туда 2-ю ударную армию. Этим решением определялось окончательное содержание и цель будущей операции Ленинградского фронта во взаимодействии с Краснознаменным Балтийским флотом: вначале встречными ударами 42-й армии из Пулкова и 2-й ударной армии с ораниенбаумского плацдарма окружить и уничтожить вражескую группировку в районе Петергоф, Стрельна, Урицк, а далее вести широкое наступление на юго-запад, в сторону Кингисеппа и Луги.
«Выбор формы прорыва в виде двух концентрических ударов, наносившихся на относительно узких участках со стороны Пулковских высот и с ораниенбаумского плацдарма,– писал позже Говоров,– был обусловлен стремлением получить после соединения
обеих ударных группировок настолько широкий прорыв, который уже в начальном этапе операции привел бы к полному крушению фронта обороны и создал бы благоприятные условия для развития удара в глубину и упреждения противника на подготовленном тыловом рубеже по р. Луга» 3.
Войска Волховского фронта наносили главный удар на новгородском участке. Там они действовали совместно с войсками 2-го Прибалтийского фронта, которые, как уже известно, должны были сковать силы 16-й немецкой армии.
Масштабы операции были несравнимы с прошлыми и вполне понятно, что командующий, штаб и войска готовились с особой тщательностью. Вновь проводилась целая система учений и тренировок во всех родах войск – от штабных оперативных до тактических занятий штурмовых групп на полях, где создавались «копии» вражеских позиций, включая доты, минные поля.
Говоров установил такой порядок, чтобы единая разведывательная карта составлялась в разведотделе с привлечением командующего артиллерией, воздушной армией и начальника инженерных войск. Карта подписывалась всеми. Это гарантировало взаимодействие разведгрупп различных родов войск. Такая карта содержала детали обстановки от передней траншеи, огневой точки и минного поля до глубоких резервов противника.
Предстоящий прорыв значительно превышал по глубине и сложности все то, что происходило год назад на Неве.
Со стороны Пулковских высот 42-й армии надлежало нанести удар в самом центре мощных укрепле-
ний противника, причем имея на флангах своей полосы прорыва укрепленные города – Урицк справа и ! Пушкин слева. А в глубине еще более мощные – Красное Село и «узел узлов» 50-го фашистского армейского корпуса – Гатчина.
1 Гитлеровцы давно превратились из осаждавших в осажденных. Перед ними город-гигант, где вновь дымят заводские трубы и откуда артиллерия быстро 1^'подавляет любую попытку стрелять по городу.
А позади – уже целые партизанские районы. Там Вхоже идет война с захватчиками.
I* Дивизии 50-го фашистского армейского корпуса за два года глубоко зарылись в паутине траншей, .■i'8 сотнях бетонированных и иных бункеров-убежищ и .«боевых сооружений, прикрытых всеми видами за-Вграждений. Глубина полос минных полей достигала . ста метров.
Б Командующий артиллерией фронта генерал Одинцов подсчитал, что из ста шестидесяти вражеских ^батарей, стоявших к югу от Ленинграда, более ста '^действуют в полосе 42-й армии, то есть там, где пред-* стоял прорыв.
Bj.' Ставка дала Ленинградскому фронту значительное количество новейшей артиллерии, достаточные ;вапасы снарядов к ней, пополнила его войсками. -Говоров имел полную возможность создать для прорыва высокие плотности огня, обеспечив господство над противником и в воздухе. Важнейшую роль играла артиллерия Краснознаменного Балтийского фло-. та, обладавшая наибольшей дальнобойностью. В силу этих ее качеств Л. А. Говоров вместе с командующим флотом вице-адмиралом В. Ф. Трибуцем выделил -аначительную часть артиллерии флота для действий по глубине обороны немцев. Балтийцы наносили удары береговой и корабельной артиллерией и своей
авиацией по командным пунктам противника, узлам связи, по таким особо укрепленным пунктам, как Красное Село, Дудергоф, Воронья Гора, по железнодорожным узлам. В состав ударной группировки командующий фронтом включил две артиллерийские дивизии прорыва и 3-й Ленинградский контрбатарейный артиллерийский корпус генерала Н. Н. Жданова (Говоров придал их 42-й армии, которой предстояло действовать на главном направлении). Входила в состав ударной группировки и 2-я ударная армия.
Эти крупнейшие соединения обеспечивали и массирование огня и маневр в ходе глубокой операции.
Чтобы наглядней оценить масштабность роста огневой мощи войск Ленинградского фронта к концу 1943 года, следует сравнить цифры этого периода с цифрами не такого уж давнего прошлого. Командующий артиллерией 42-й армии генерал М. С. Михалкин сейчас «расписывал» по целям, рубежам, времени и назначению огонь 460 артиллерийских и 300 минометных батарей. На каждый километр фронта прорыва в среднем получалась плотность до 200 стволов. А когда тот же М. С. Михалкин осенью 1941 года отбивал огнем своих орудий немецко-фашистский штурм на тех же Пулковских высотах, он имел в своем распоряжении 8—10 орудий на километр обороны!
Роль ораниенбаумского плацдарма, куда теперь перебрасывалась из района Синявино через весь фронт 2-я ударная армия И. И. Федюнинского трудно переоценить. Л. А. Говоров не мог не воздать должное тем, кто в 1941 году беззаветно дрался за сохранение этого плацдарма. 4
V
I Сложный маневр 2-й ударной армии с переправой В через Финский залив командующий Ленинградским ■ фронтом контролировал и лично и через свой штаб, а также через штаб Краснознаменного Балтийского Т флота. Вместе с моряками Говоров прошел ночью до Щ,Ораниенбаума и обратно. Районы посадки войск, Щцогрузки артиллерии, танков в самом Ленинграде и в k районе Лисьего Носа под Сестрорецком были тщательно подготовлены. Балтийцы с большим тактическим мастерством и достаточной скрытностью сумели под самым носом у немцев перебросить целую армию со всей боевой техникой.
В? Летом 1941 года Гитлер хвастался, что быстро Ьуничтожит весь советский Балтийский флот. Осенью того же года он объявил, что наш флот, загнанный в мСронштадт и в Неву, уничтожен авиацией. Но Краснознаменный Балтийский флот, сохранивший в тя-Ьелых боях свое боевое ядро, наносил ощутимые удары оккупантам, надежно прикрывая морские рубежи Ленинграда.
R Осенью 1943 года в войсках Ленинградского фронта осуществлялись крупные организационные ^^мероприятия, связанные с переходом к корпусной “структуре. В середине лета в составе армий фронта имелось только два корпусных управления (30-го гвардейского корпуса во главе с генералом Н. П. Симонином и 43-го, которым командовал генерал А. И. Андреев), а для разгрома 18-й немецкой армии • формировалось еще восемь. Ими командовали ветераны прошлых сражений под Ленинградом – П. А. Зайцев, В. А. Трубачев, А. Н. Астанин – и генералы, -Прибывшие с других фронтов и обладавшие опытом действий на различных театрах военных действий – И. П. Алферов, И. В. Хазов, Г. И. Анисимов, М. И. Тихонов, В. К. Парамзин.
*
Переход к корпусной системе управления войсками в бою повышал права и ответственность командармов и командиров соединений, давал возможность командующему фронтом углубляться в решение самых главных проблем. Говоров так и делал, но не ослаблял жесткого повседневного контроля по своей формуле «отработка шаг за шагом действий каждого командира и его штаба на каждом этапе операции и боя». К этому уже все привыкли; знали и его метод – идти от общего к частному. Приезжая в штаб армии, он выбирал один из вопросов готовности армии и проверял его лично, начиная от штаба армии и кончая командиром полка, а иногда батальона и роты. «Нет мелочей при подготовке атаки»,– говорил Говоров. Стиль и методы работы командующего постепенно становились стилем и методами работы командиров подразделений.
Говоров нес всю полноту ответственности за сотни тысяч человеческих судеб, ответственности и моральной, и юридической, и исторической. Поэтому любые факты безответственного отношения к делу вызывали у него раздражение.
Так, например, с первых же дней своего командования он установил главный критерий эффективности оборонительных работ в войсках – минимум потерь при массированных артиллерийских обстрелах позиций врагом. Не один командир дивизии получал от него суровый выговор, если на его участке нельзя было пройти по траншеям в полный рост от командного пункта до переднего края. Говоров частенько говаривал: «Я с вами церемониться не намерен. Это война, а не игра в бирюльки».
Результатом такой требовательности было сохранение жизни многих воинов.
Некоторые командармы и командиры соединений
по укоренившейся ранее привычке при докладах командующему пытались ограничиваться изложением общей тактической обстановки или своего решения, а «детали» докладывали специалисты: артиллерист – свое, танкист, летчик, инженер, интендант– свое. Говоров быстро положил этому конец, резко отклоняя подобный доклад:
– Потрудитесь все доложить сами. Будет необходимо, я спрошу и у них.
Этим он быстро вскрывал «белые пятна» в знании общевойсковыми командирами деталей взаимодействия родов войск, их боевых свойств.
Командующий был вспыльчив, но быстро отходил. Как-то он сделал в очень резкой форме замечание одному старшему командиру в штабе армии за просчет, ошибку. Командира этого он давно и хорошо знал, ценил и уважал за смелость и боевое мастерство. Присутствовавший при неприятном разговоре представитель Ставки маршал Ворошилов решил смягчить тон Говорова.
– Леонид Александрович, один бог не ошибается.
Говоров ворчливо, но уже добродушно ответил:
– Он же бездельник, бог. Может даже ошибаться. Нам-то этого не позволено делать.
Частое общение Говорова с командирами многих частей и соединений привело к простоте отношений между ними. Они стали понимать своеобразие его характера. Командир одной из гвардейских дивизий, полковник Щеглов, человек веселый, острый на язык, однажды во время учений его дивизии в тыловом районе предложил Леониду Александровичу объехать участок верхом, зная пристрастие Говорова к лошадям. Коня подвели горячего, Говоров не сразу сел.
– Что это он у вас такой пугливый?
Щеглов отчеканил серьезным тоном, хотя глаза его посмеивались:
– Он вас, товарищ командующий, боится, с нами он смирный.
Говоров принял шутку-намек.
– Не особенно умные люди всегда чего-нибудь боятся... Вы-то не боитесь, как я наблюдаю.
Леонид Александрович Говоров пользовался огромным авторитетом среди воинов, офицеров и генералов фронта. Его уважали за истинно партийный подход к делу, за смелость решений, за то, что никогда не забывал о нелегком солдатском труде, заботился о воинах. Импонировал и его стиль работы: решения всесторонне продуманы, приказания лаконичны и предельно ясны; он всегда равно требователен к себе и подчиненным, всегда строг и принципиален. Кое-кто, правда, говорил, что Леонид Александрович чрезмерно строг. Однако подобные разговоры часто бывали абстрактны. Один из работников Генерального штаба, приехав в Ленинград, удивился: до Москвы, мол, дошли толки, что Говоров «свиреп», а вот он видит, что за два года его командования никого не отстранили, командные кадры в армиях, дивизиях, в штабе фронта старые. Дмитрий Николаевич Гусев ответил на это своей поговоркой:
– Семейка подобралась подходящая, зачем же ее разрушать? А воспитывать Леонид Александрович умеет по-своему.
17 ноября 1943 года Леониду Александровичу Говорову было присвоено воинское звание «генерал армии», что означало признание его полководческих способностей. Впереди ожидало то, что составляет главную цель жизни военачальника во время войны– решительный и полный разгром противостоящих вражеских войск.
Военный совет, штаб, политуправление Ленинградского фронта, а также обком и горком партии
вели в этот период очень напряженную целеустремленную работу в военно-организаторском и идеологическом отношениях. Как и раньше, на практике осуществлялось единство партийного и военного руководства боевой и трудовой деятельностью войск и трудящихся города-фронта.
Партийным руководителям города и области – А. А. Жданову, А. А. Кузнецову, Т. Ф. Штыкову, Н. В. Соловьеву – были присвоены воинские звания генералов. За минувшее время весь партийный актив прошел по сути дела практический курс военно-политический академии.
Секретарь горкома Алексей Александрович Кузнецов, ставший генерал-лейтенантом, отлично знал почти каждую дивизию фронта, равно как и в деталях жизнь, быт и производство каждого крупного завода. Совсем не случайно он с первого дня войны как член Военного совета возглавлял руководство оборонительным строительством. Но Кузнецов не переставал быть секретарем горкома, это было главным в его деятельности. И теперь, выезжая в войска, в своих беседах и выступлениях он неизменно говорил о партийных, боевых и трудовых традициях крупнейших заводов города, а в войсках было много воинов с этих заводов.
Член Военного совета Николай Васильевич Соловьев – председатель Ленинградского облисполкома, теперь генерал-майор, руководил всей системой тылового обеспечения фронта. Огромная база Ленинграда, имеющего уже железнодорожную связь со страной, обеспечивала бесперебойность материального снабжения.
Секретарь Ленинградского обкома партии Терентий Фомич Штыков, получивший звание генерал-лейтенанта, был назначен членом Военного совета сосед-
.
него Волховского фронта, а третий секретарь обкома Михаил Никитич Никитин возглавлял штаб партизанского движения.
Под руководством членов Военного совета армейские политорганы вели широкую идеологическую и массово-политическую работу в войсках. Почти все время работники политуправления фронта, политотделов армий, корпусов и дивизий находились среди бойцов. В гости к воинам приезжали рабочие ленинградских заводов, делегации из дальних областей, городов. Подвиг Ленинграда привлекал неизменное внимание общественности всей страны.
В таких условиях командующий фронтом ежедневно, ежечасно ощущал помощь, оказываемую ему в решении военной задачи этого периода. Речь шла о выполнении третьего и главного тезиса из наказа Ставки, выслушанного им полтора года назад: подготовить внутри блокады ударную группировку для крупной наступательной операции.
11 января 1944 года Л. А. Говоров и А. А. Жданов на заседании Военного совета фронта, на котором присутствовали командармы, подвели последние итоги подготовки и объявили день начала операции с ораниенбаумского плацдарма 14, а со стороны Пул кова —15 января.