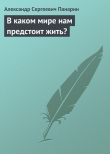Текст книги "Критика тоталитарного опыта"
Автор книги: Борис Марков
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
VI
Беседа на заданную тему
А.Ю. Бубнов
Фантом тоталитаризма
Проблема тоталитарного режима и сопутствующего ему репрессивного опыта, крайне сложная исторически и морально, нуждается в разделении, в отделении зёрен от плевел. Поскольку там, где переплетается правда и полуправда, идеология и эмоции, возникают мифы общественного сознания, которые сами становятся фактором дальнейшего развития общества. Не считаю себя в силах выносить обобщающие суждения о той эпохе. Слишком велик объём данных, слишком велика сложность системы. Могу лишь высказать некоторые замечания (преимущественно методологические) в пределах своей гуманитарной компетенции, а это по преимуществу политология.
Как не раз с юмором отмечал Сергей Павлович, я принадлежу к поколению «непуганых» дисциплиной «тоталитарного» (посттоталитарного) общества. В силу этого не хочется восхвалять и оправдывать репрессии, и уж тем более не хочется восстанавливать репрессивную практику в сегодняшней России, хочется понимать. Изучение той эпохи должно дать знание (не эмоции, не психоанализ, не проклятия и дифирамбы – хотя всё это тоже по своему нужно и неизбежно) – российскому обществоведению и общественному мнению и (есть робкая надежда) российской власти.
Первое что необходимо отметить – это методологическая пустота самой концепции тоталитаризма, в том виде, в котором она сформировалась в западной, англо-американской политологии и была позднее заимствована отечественным обществоведением. Стандарты, заданные книгой Ханны Арендт «Истоки тоталитаризма» (1951) и совместным трудом Збигнева Бжезинского и Карла Фридриха «Тоталитарная диктатура и автократия» (1956) продолжают определять логику наших рассуждений, между тем сама концепция тоталитаризма – явный плод пропагандистского противостояния СССР и США в годы Холодной войны. По сути, это американская калька с советского концепта «буржуазные государства», поэтому она так прижилась в нашем обществоведении: там зловещие «империалистические государства» в главе с «крупной буржуазией», противостоящие «государству рабочих и крестьян», здесь не менее отвратительные «тоталитарные государства» во главе с людоедами-диктаторами, противостоящими «демократическим государствам». Бывшие преподаватели марксизма-ленинизма, ставшие в 1990-е политологами и обществоведами, легко восприняли близкий им шаблон, в котором лишь плюс поменяли на минус.
Мы смеёмся над вывертами советской пропаганды 1930-х годов, которая рисовала СССР крепостью, осаждённой интернационалом эксплуататорских государств во главе с Великобританией, Францией, Японией и Германией, но всерьёз воспринимаем алармистские выкладки Бжезинского о единой природе тоталитаризма в коммунистическом Советском Союзе и фашистской Германии, совместно противостоящих союзу демократий во главе с США. Третий вариант аналогичного объяснения перипетий эпохи мировых войн, к счастью доступен лишь в альтернативных реальностях (противостояние арийской Германии союзу неполноценных рас и деградировавших англосаксов).
Впору задаться вопросом, а есть ли в концепции тоталитаризма хоть что-нибудь кроме стремления опорочить геополитического конкурента Соединённых Штатов? Много ли изменилось от того что экономический базис советских марксистов заменили на Западе политическим?
В целом тоталитаристский дискурс нуждается в деконструкции, так как в нём собраны разнообразные явления свойственные многим государствам, как древним, так и современным, а также феномены исключительно эпохи Модерна, и новации века XX. Вся эта эклектика подана под углом зрения определённой идеологии и призвана формировать наше восприятие истории XX века. Деконструкция тоталитарного позволит нам смотреть на собственную историю без очков американского либерального мессианизма.
Из чего состоит в первом приближении комплекс характеристик, традиционно включаемый в понятие тоталитарного режима: репрессии (очень разные по своему характеру и объектам воздействия), авторитарные тенденции (концентрация власти и сужение пространства публичного диалога), формирование массового общества и присущих ему систем интеграции (идеология вместо религии, унификация и стандартизация норм жизни, внедрение новых форм дисциплины, новая роль СМИ). Всё эти явления следствие ускоренной модернизации традиционного общества бывшей Российской империи. Они тоталитарны ровно в той мере, в какой тоталитарна сама модернизация (переход от Традиции к Модерну, от аграрного к индустриальному обществу), как магистральное направление европейской и мировой истории. Отличия от сходных процессов на Западе в скорости и жёсткости трансформации. Исследуя историю СССР 1920-х – 1940-х годов прошлого века, мы видим социальные технологии индустриального общества в их авторитарной версии. Нет никакой необходимости «плодить сущности» и вводить «фактор X» тоталитаризма для объяснения жёстокости послереволюционной модернизации России.
Вполне очевидны причины как объективного, так и субъективного рода. Объективно модернизация была продолжением активной фазы Гражданской войны и революции. Перманентная схватка за власть в советской верхушке (с последующей зачисткой проигравших и их клиентеллы) есть прямое следствие крушения традиционной монархической системы власти. Власть просто стала добычей амбициозных проходимцев (или на языке политологии представителей контрэлиты). И здесь прямая ответственность тех либеральных сил, которые в ходе Февральской революции разрушали законную, традиционную власть нимало не заботясь о том, что на её месте воцарится сначала пустота, а затем бешеная схватка, в которой победят наиболее решительные и беспринципные. Трагедия «тоталитарных репрессий» была задана насильственным уводом России с пути эволюционного развития государства, мягкой трансформации политической системы, с постепенным расширением сферы действия гражданского общества. Резкий разрыв преемственности политических элит, приход к власти карьеристов не связанных традициями и неформальными внутриэлитными договорённостями, почти автоматически сделал расстрельную практику ведения политической борьбы нормой. Аналогии с Французской революцией здесь настолько сильны, что зарождение тоталитаризма, если быть методологически честным, придётся сдвинуть вплоть до XVIII века, заодно включив в число источников тоталитарной мысли идеологию Просвещения. И такой последовательно консервативный взгляд вполне возможен: тоталитаризм как стремление достичь абсолютных целей не считаясь с действительностью. Если ставить в параллель не СССР и фашистскую Германию, а русскую и французскую революции, то стрелы полетят в сторону насильственной модернизации традиционного общества. Если русская революция была римейком французской, то был и свой Бонапарт. В отличие от натянутых ассоциаций между Сталиным и Гитлером (наподобие тождества красных флагов нацистов и коммунистов), фигуры Сталина и Бонапарта, в историческом контексте обладают смысловым и функциональным подобием.
К слову, современная российская непримиримая оппозиция, борясь с прогнившим, коррумпированным государством, требуя немедленной конкурентности политической системы, настаивая на революционной ломке всех негодных конструкций, готовит нам тоталитаризм уже не иллюзорный. Те же самые грабли, о которые споткнулась Россия в начале XX века. Умаление здорового консерватизма и здравомыслия. Отрицание постепенности и преемственности в политическом развитии. Сам же обобщённый Запад, который выступает мерилом либеральности, демократичности и конкурентности, стоит на совсем иных основаниях. За фасадом лозунгов фундамент неформальных механизмов подготовки элит, способов передачи власти внутри истэблишмента без разрушительных гражданских войн. На страже этих неброских механизмов стоят традиции, многим из которых сотни лет.
Можно достаточно уверенно утверждать, что репрессии 1920-х – 1940-х годов были кровавой платой за ускоренную модернизацию. Уклониться от этого вызова было невозможно по геополитическим причинам. Россия не могла без военного поражения и ликвидации государственности позволить себе радикальное технологическое отставание. Точка невозврата была, видимо, пройдена в феврале 1917 года, до этого ещё просматривается вариант органической, постепенной модернизации.
Если проследить логику репрессий, то отчётливо видны два пласта. Первый схватка за власть внутри элит, логично закончившаяся формированием сталинской диктатуры. Какое резюме может сделать моралист из этой много раз повторявшейся в разные эпохи истории? Правила игры, сформированные тотальной гражданской войной, не давали шанса выжить проигравшим. Революция по сути и была азартной игрой, в которой можно было сорвать банк власти и богатства на первом этапе, и заплатить за них своей жизнью на втором (последний раз этот сценарий, разумеется с поправкой на иной контекст, можно было воочию наблюдать во время криминальной революции 1990-х).
Другое дело второй пласт репрессий – социальная инженерия, слом традиционного общества и его опор, духовенства, крестьянства, старой интеллигенции. Именно второй пласт дал ужасающий количественный прирост жертв. Стоило однажды запустить процесс, и он стал развиваться по своей внутренней логике. Достаточно хорошо известно, благодаря работам по микроистории репрессий, что помимо сознательной воли революционной партии и подчинённой ей государственной машины, маховик репрессий раскручивался атомарным насилием, доносами, сведением личных счётов. Не надо сбрасывать со счетов и автономную логику репрессивной системы, не склонную даже сейчас, во времена несравненно более либеральные, выпускать из своих железных объятий единожды попавшую к ней жертву.
Гибель этих людей суть прямое следствие процесса ускоренной модернизации. Это хорошо видно на примере истории с принятием решения о коллективизации. Выбор между мягким вариантом сельскохозяйственной кооперации и полным обобществлением средств производства по модели кибуцев, был выбором решения дающего наибольший результат в кратчайшие сроки, возможные жертвы в этой логике были сугубо вторичны. В каждой из многочисленных развилок коллективизации и индустриализации поражает холодный расчётливый прагматизм Сталина, воля к достижению результата. Вопрос можно ли было избежать массовых жертв сводится к другому (разумеется, в сильном упрощении), как избежать модернизационной гонки? И тут мы можем вздохнуть: ах, если бы подле Государя нашёлся нужный человек, разгони он артиллерийскими залпами бунтующих солдат запасных полков в феврале семнадцатого (как Бонапарт 13 вандемьера толпу бунтовщиков). Можем вспомнить, как умеренные репрессии Столыпина удержали страну от преждевременного сползания в революцию и тоталитаризм.
Впрочем, если история нас чему-то и учит, то в первую очередь избавлению от плоского «морализма», веры в то, что из хороших причин проистекают хорошие следствия, а из плохих плохие. Сплошь и рядом из хорошего следует плохое, а плохое из хорошего. Имперские системы, что Франции эпохи Людовика XVI, что России эпохи Николая II, если верить статистике, чувствовали себя прекрасно накануне революций. «Русский дредноут утонул при входе в порт» – кажется, в таких выражениях Уинстон Черчилль описывал крушение Российской империи. Избыток могущества будит спавшие до этого силы самоуничтожения. Не должно удивлять, что из благих идей реформирования и модернизации России, вдохновлявших российскую интеллигенцию в начале XX века, родился кровавый монстр советской социальной инженерии. Как и то, что построенная на костях репрессированных индустриальная система обеспечила победу в войне и спасение для подавляющего большинства граждан СССР.
Проблема тоталитарного общества и её центральная часть – репрессии, с момента возникновения всегда имели характер идеологический и политический, нежели историко-научный. Политика же это всегда баланс интересов. Тех, кто пострадал от репрессий, в любом случае меньшинство. Большинство никогда не примет эту точку зрения, не откажется от своей истории. А, следовательно, в демократическом процессе у либералов и сторонников покаяния нет шанса. Каждый новый выпад в сторону СССР будет поднимать ответную волну апологетики. Замкнутый круг. Изживание сталинизма возможно только через признание его объективных заслуг и ошибок. Через спад накала страстей и переход к истории. Навязать же обществу точку зрения пострадавшего меньшинства, значит установить новый авторитарный режим.
Д.П. Кузнецов
Тоталитаризм: теория и опыт
Отрадно быть свидетелем полемики маститых коллег старшего поколения. Положение наблюдателя невольно ставит тебя на позицию своеобразного третейского арбитра, вызывая даже чувство некоторого превосходства. Начав дискуссию, и попросив молодых ученых принять участие в этом обсуждении, Сергей Павлович и Борис Васильевич поставили себя в очень непростую ситуацию. Они явно изложили не только концептуальную сторону своих взглядов, но и беспрецедентно полно раскрыли их личную автобиографическую составляющую. Такая честность встречается очень и очень не часто, ведь она дает возможность критики на всех уровнях: от биографически-личного до концептуально-понятийного. Ничего не остается скрытым. Вряд ли кому-то из моего поколения вообще присуща подобная смелость, в этом смысле, мы действительно – «инопланетяне».
Склоняя голову перед отвагой двух замечательных современных интеллектуалов, позволю себе высказать несколько замечаний. Во-первых, то, что лично меня поразило (если мне будет дана возможность придерживаться схемы дискуссии, начинающейся с личного опыта). Наверное, в силу того, что не осуществляю специально мониторинг общественного мнения, я был удивлен самим фактом актуализации темы сталинизма в современных дискуссиях. Студентом историко-педагогического (на тот момент самого идеологического) факультета я был свидетелем журналистских разоблачений сталинизма и участником горячих споров в студенческих аудиториях. Кажется, наш выпуск (1993) был последним, где читался курс «История КПСС». Знакомство с «Архипелагом ГУЛАГ» было не последней причиной того, что мы всей группой вышли из комсомола. Конечно, никто из нас не считал, что советский период истории изучен полностью. Помню свою неудовлетворенность изложением материала по важнейшим экономическим и социальным структурам советского общества. Общий же вывод был абсолютно понятен: сталинизм – преступный режим, в основе которого собственно социалистические идеи занимали отнюдь не лидирующее положение, а вот безграничная жажда власти решала все. Со стороны нравственных оценок эта тема казалась давно закрытой. Меня и сейчас не покидает чувство, что вся эта возня со Сталиным от плакатов до восстановления исторических лозунгов в московском метро, опросов и т. д. есть обыкновенная провокация общественного сознания, подобная той, которая была проведена несколько лет назад и имела своим содержанием убедить людей в дефиците соли и спичек. Идет обыкновенная проверка российского сознания на наличие скрытой тревожности и ее основных мотивов. Реально же никакого интереса к фигуре генералиссимуса нет, а часть молодежи, я уверен, плохо представляет кто это вообще такой. Понимаю, что такая «конспирологическая» версия скорее отражает черты личности пишущего, чем реальность и все-таки, повторю, ни о какой полной реабилитации сталинизма и И. Сталина никто не говорит, кроме людей с абсолютно помрачённым сознанием, но кто заставляет нас слушать речи подобного рода?
Тем не менее, мы вынуждены констатировать, что тема сталинизма указывает нам на какие-то глубинные пласты сознания современного русского общества. Вопрос должен стоять не о характеристиках самого российского тоталитаризма, но о причинах внимания к нему сейчас, так как в этой теме самым необычным образом сошлись надежды и проекции, мечты и проекты. Странно, что в периоды замораживания общественной жизни из «консервной банки» извлекается именно Иосиф Виссарионович. Из этого следует первое методологическое замечание. Не следует обсуждать наше отношение к проблеме сталинизма, это ведет к непродуктивной, эвристически пустой дискуссии, образцы которой известны и могут быть определены как «русская политика» в ее самом жутком выражении. Давайте попробуем высказаться по вопросам, специалистами, в которых нам велит быть гуманитарная аналитика. Не будем подчеркивать момент оправдания или отрицания, а попытаемся рассмотреть идеи друг друга как фактологическую базу своеобразного исследования по проблеме современного российского сознания. Попытаемся понять, что же, в конце концов, с нами произошло в двадцатом веке. Каким образом сталинизм оказался в сознании общества связан с социализмом вообще, с чем связан такой, прямо скажем, примитивный подход? Какую роль он выполняет в проектировании современного действия социального и политического? Что вызывает акцентирование одних форм опыта и социальной памяти, и затушевывание других? Так в ответе многоуважаемого А.С. Щавелёва говорится о том, что СССР потерпел крах как социокультурный проект, но разве русская культура того времени исчерпывается этим проектом?
Второй, на мой взгляд, важнейший момент. Замечание Б.В. Маркова о соотношении 20 миллионов к 200, носит не человеконенавистнический характер; полагаю, у главы кафедры философской антропологии и в мыслях не было оправдывать смерть одних как способ процветания других, да и что это было за процветание. Речь здесь идет, видимо, о человеческом опыте как способе фиксации истории и путях концептуализации этого опыта, а, возможно, и самой необходимости или возможности такой концептуализации. Должен быть поставлен вопрос о ценности опыта каждого человека, о том является ли рефлексия важнейшей характеристикой такого опыта. С какой позиции возможна оценка человеческого опыта? Способны ли мы освободиться от романтической иллюзии, что наше творческое «Я» может быть вместилищем абсолютного духа, позволяющего выносить решения за всех?
Опыт русских за прошлый век действительно пограничный. Полемика о Сталине, на мой взгляд, есть попытка (которая сама себя маскирует, пытается быть не понятной самой себе) понять каким ресурсом (нравственным, идеологическим, мировоззренческим, психологическим) мы сегодня обладаем. Обращение к дореволюционной России за ответом на этот вопрос невозможно, мы потеряли структурообразующие слои старого отечественного общества. Представим полемику как попытку переучета опыта.
Полемика, переходящая в эмоции, не есть ли следствие сомнения в самой возможности разумно понять тоталитаризм; и фашизм и коммунизм – явления перед которыми разум останавливается. Не стал ли тоталитаризм вызовом разуму такого размера, что мы до сих пор не пришли в себя; способны ли мы создать текст, примеряющий наши позиции и историю? Здесь самое время включиться в полемику философам и историкам. Особую жесткость полемике придает и то, что спор об оправдании тоталитаризма имеет оттенок давней полемики в европейской культуре – проблеме теодицеи. Понятие «дух эпохи» указывает на ряд ключевых вопросов: существует ли смысл истории вообще, исчерпывается ли он человеческим действием, рационализируем ли он в рамках человеческого познания.
Полемика имеет и еще одну сторону, напрямую связанную и с имморализмом Ницше и с разрушением этических стандартов в постмодернизме. Нужно признать, что мы их потеряли, и теперь вынуждены действовать особым образом. Современная ситуация не имеет прецедентов, нам не на что опереться. Притязания на истину абсолютного духа беспочвенны и нам придется действовать, не имея доктрины, отвечая на один и тот же вопрос по-разному, тщательно балансируя. Объект интеллектуальной схватки более не идейная конструкция, а человеческий поступок в его конкретике. Давайте обсудим важнейший элемент полемики – способны ли мы создать доктрину (накрывающую одним колпаком фашизм и коммунизм или разводящей их по разным углам – в этом смысле принципиально неважно), в которой различные аспекты человеческой деятельности будут связаны воедино, или нам придется довольствоваться фрагментарным знанием, которое, однако, позволяет нам сохранить определенную интеллектуальную трезвость.
Если нет общих подходов, то как излагать историю для массового сознания, как должен быть написан учебник, причем, не только школьный, но и вузовский? Как оценивать историю? Ведь всегда мы делали это так, будто она актуально является объектом нашего вмешательства. Здесь есть некая аберрация – мы не распоряжаемся тем, что прошло. Эту недоговоренность и пытается восполнить Б.В. Марков, говоря о «здравом смысле» эпохи. Выражение явно неудачное, так как оно отсылает к особой структуре интеллекта, оберегающей человека от наиболее необдуманных поступков. Здесь же речь, конечно, идет о другом: страшен опыт тоталитаризма, но без него наше знание о человеке было бы неполным. История, и с этим, кажется, никто не будет спорить, есть опыт человечества о самом себе. Оправдание здесь ни при чем, здесь другой вопрос – возможно ли без этого опыта.
Россия принципиально оказалась втянутой в проект культуры модерна, по сути – естественно европейский. Неудачи современной России имеют несомненную корреляцию с завершением этого проекта, вот только единственная ли это причина?.. Б.В. Марков в одной из своих статей утверждает, что должна быть пересмотрена вся триада «бог-государство-человек». Естественно, что такой пересмотр вызовет пересмотр и истории как познавательного проекта и истории как социокультурного проекта Нового времени. Вопрос сразу станет о сакральных предметах нашей культуры, секуляризация не затронула их. Связь апологии сталинизма и сомнения в философской обоснованности проекта Просвещения являются слишком явными. «Россия и проект модерна» – вот тема для изучения.
И последнее. Б.В. Марков часто использует понятие «символический капитал». История прошедшего столетия показала, что этот вид общественных ресурсов является самым мощным, а с другой стороны, плохо предсказуемыми, и, кажется, вообще не управляемым. Обращаться с такого рода реальностью следует с особой осторожностью. И здесь мы, современные российские интеллектуалы, вообще не признаем никаких ограничений, мы обычно путаем свободу творчества и безответственность. Советская система рассматривала нас как исполнителей определенного политического заказа, который формируется, конечно, не самими гуманитариями. Идеи и ответственность стали разделены. В этом контексте любой спор о символах нации должен вестись очень осторожно. Последствия высказанных или невысказанных идей могут быть непредсказуемы. Хорошо, что нашу «заумь» мало кто читает, иначе нам бы пришлось засекретить эту дискуссию. Возможно, следовало бы воздержаться, хотя бы на какое-то время, от споров о судьбах России, нашем положении в системе цивилизаций, особом русском пути и т. д. Продвижения в решении всех этих проблем со времен Чаадаева нет, а воображение нации вновь и вновь ухватывается за них, производя настоящие опустошения социального пространства России.