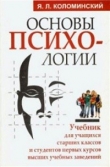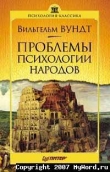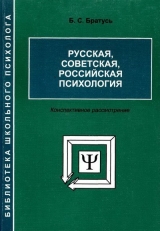
Текст книги "Русская, советская, российская психология [Конспективное рассмотрение]"
Автор книги: Борис Братусь
Жанры:
Психология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
И к чести Запада надо сказать, что там общество, ученый мир очень серьезно восприняли уроки этого эксперимента и сделали соответствующие выводы. Одним из таких выводов и было, на наш взгляд, появление гуманистической психологии.
Теперь о ее возможностях в нынешнее, постсоветское время. Прежде всего, этот подход представляется нам близким: Он противостоит психоанализу и бихевиоризму как вариантам материализма – учения, плоды которого мы достаточно вкусили.[27]27
Впрочем, шансы психоанализа сейчас неожиданно возросли, можно сказать, взлетели. 19 июля 1996 года вышел Указ Президента Российской Федерации «О возрождении и развитии философского, клинического и прикладного психоанализа», который вызвал просто недоумение у большинства серьезных специалистов. «С каких это пор, – вопрошает, например, М. Г. Ярошевский, – направления научных исследований стали выбираться и задаваться „сверху“ по указам, хотя бы и президентским?.. Некоторые лидеры нашей психологии, в свое время потратившие немало слов, чтобы „изобличать“ идеологическую вредность фрейдизма, не только не подали голос протеста, но немедля, оттесняя друг друга, стали выдавать себя за тех, кто способен обеспечить „возрождение“: ведь за Указом брезжат соблазнительные миллиардные ассигнования. Перед нами наглядный пример падения нравственных (а в данном случае и научных) ценностей в мире науки в условиях „рыночной экономики“.» («Вопросы психологии». 1997. № 3. С. 131). М. Г. Ярошевскому можно возразить только в одном – традиция высочайших указов по любым поводам типична для России. Коммунисты ввели, как мы знаем, указы-постановления о научных направлениях и психология первой выдержала этот удар в июле 1936 года, когда вышло постановление «О педологических извращениях» (см. гл. III). Президентский указ – рецидив этого мышления, только минус поменялся на плюс, а так – та же узнаваемая большевистская внезапность, непродуманность, та же закулисная заинтересованность определенных лиц в подобного рода указах. Сходится даже июль месяц – только 60 лет спустя.
[Закрыть] Он возник как результат осознания катастрофы фашизма, во многом сходной с пережитой нами катастрофой коммунизма. Он преодолевает растлевающее разоблачение человека и возвращает к реальным ценностям. И все же есть моменты, которые и здесь вызывают сомнение.
Гуманистическая психология на Западе свелась, по преимуществу, к одной, пусть и важной области – психотерапии, не став широкогуманитарным подходом (о зарождении последнего в России мы будем говорить чуть позже). Особое внимание обратим и на то, что гуманистическая психология – порождение персоноцентрического сознания, где «я», «самость» – единственные и конечные ценности. Эта линия с неизбежностью ведет к индивидуализму и – в конечном итоге – к одиночеству человека, замыканию, на этот раз в своем самосовершенствовании ради самосовершенствования. На этом пути Бог – даже неочерченный, сугубо протестантский – либо теряется вовсе, либо становится «своим парнем», этаким членом тренинговой группы общения. Вместе с этим уходят сакральность и тайна, метафизический, духовный компонент развития.
Сколь значимым и недостающим для современного человека является этот компонент, говорит то обстоятельство, что в последнее время большое распространение на Западе получила так называемая трансперсональная психология, становящаяся даже, в известном смысле, «четвертой силой» наряду с бихевиоризмом, психоанализом и гуманистической психологией. Ее методы направлены на формирование и трансформацию особых, измененных состояний сознаний человека с помощью дозированного применения наркотиков, различных вариантов гипноза, гипервентиляции легких, технике нейролингвистического программирования и т. п. Теперь трансперсональная психология пришла и к нам в страну и так же претендует на место в постсоветском психологическом поле.
Несомненным является то, что исследования и практика трансперсональной психологии вполне доказывают существование и значимость метафизического пространства личности, само наличие сферы духовного, запредельного. Однако в целом эта линия представляется весьма пагубной и опасной: методы трансперсональной психологии рассчитаны на то, чтобы фактически вломиться с черного хода в духовное пространство и сразу, в течение нескольких сеансов, сломив естественные защитные силы, получить доступ к его богатствам. Поэтому (продолжая аналогию со взломом), ворвавшись туда чужаком и на короткое время, в состоянии одурманенности наркотиком, гипнозом или усиленным дыханием, человек берет без разбора все, что попадается, все, что привлечет сейчас его внимание. Но если быть серьезным и принимать духовное пространство как особую реальность, то надо знать, что пространство это отнюдь не однородно, в нем присутствуют качественно разные силы, в нем есть Свет и тьма, структура и иерархия того и другого и, беря, что ни попадя – лишь бы это было «духовным», мы можем нанести непоправимый, губительный вред своему развитию,
* * *
Итак, западные течения (мы разобрали не все, но некоторые основные линии), будучи перенесенными на постсоветскую почву, привнесут сюда и свои представления, модели человеческого развития, его идеалов, целей, задач. Далеко не все из этих моделей кажутся приемлемыми для нашего менталитета, нашей истории, часть из них вызывает серьезную критику и на самом Западе, который тоже отнюдь не так однороден в своих оценках и пристрастиях, как нам представлялось прежде. Но в любом случае – прямые заимствования и подражание – не лучший способ движения в науке, Нельзя догнать догоняя, подстраиваясь в хвост, повторяя чужие зигзаги и неизбежные в любом живом развитии ложные петли, ходы и остановки. Нужно понять свои задачи, ощутить свою логику и свое пространство. И только тогда, в частности, твои успехи могут быть действительно интересны другим участникам того единого движения, каковым является подлинное познание – движения к Истине.
В чем тогда возможен российский ход, если не возвращаться к марксистским основаниям и не увлекаться всецело западными веяниями? Выше говорилось, что помимо названных, в постсоветское время пробиваются, оформляются и другие линии. Попытаемся кратко обозначить некоторые из них.
3. Гуманитарная психология
Одна из первых попыток осознанно ввести сам термин «гуманитарная психология» в отличие от широко известного термина «гуманистическая психология» состоялась, по-видимому, в мае 1990 г., когда ряд московских психологов собрались в Большой аудитории Института общей и педагогической психологии АПН СССР (ныне Психологический институт РАО), чтобы учредить отечественную Ассоциацию гуманистической психологии. На собрании, однако, возник спор о целесообразности именно такого названия новой ассоциации. Инициатором спора оказался тогда автор этих строк, который попытался в своем докладе доказать необходимость введения нового термина, исходя из того, что «гуманистическая психология» – уже сложившееся течение в мировой психологии, закрепленное, связанное с определенными воззрениями и именами (Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс и др.), тогда как речь должна идти о новом и более широком подходе, в котором могут быть соотнесены и другие гуманитарные парадигмы, включая, разумеется, оригинальные достижения отечественной психологии. Например, положения культурно-исторической психологии Л. С. Выготского, ценность которых порой превосходит (или как однажды выразился В. В. Давыдов «с головой покрывает») многие рассуждения западных гуманистических психологов. Однако эта и другая аргументация[28]28
Братусь Б. С. Опыт обоснования гуманитарной психологии. – Вопросы психологии, 1990. № 6.
[Закрыть] большинством того учредительного собрания принята не была и Ассоциация психологов была все же названа «гуманистической». а не «гуманитарной». Говорили о непривычности термина, трудности дифференциации с другими подходами, о том, что рамки традиционного западного понимания гуманистической парадигмы можно рассматривать более свободно и т. п. Короче, доводы были отвергнуты, несмотря на то, что автор этих строк был избран тогда президентом Ассоциации (1990–1993).
Тем не менее, дальнейшее развитие показало все же необходимость введения в оборот отечественной науки именно понятия гуманитарной психологии. Причем, действительно, течение стало оформляться не на западный манер, а по-российски, т. е. очень широко, с включением не только специально психологических и психотерапевтических, но общих смысложизненных вопросов и проблем. В сознании определенной части российских психологов постепенно произошел, точнее, происходит поворот в ориентации: от прежней – естественнонаучной, от подражания, упования на образцы естественных наук к ориентации на образцы, достижения и ценности гуманитарного восприятия. Сейчас идет как бы собирание гуманитарного мировоззрения. Мы сталкиваемся, знакомимся, по сути, впервые с теориями, взглядами, которые ранее были труднодоступными для отечественных психологов, открываются целые континенты русской философской мысли, появляются неизданные сочинения литературоведов и историков, раскрывается во всей полноте художественное творчество русского зарубежья и т. п. Соединенное вместе, это составит удивительное по силе и яркости полотно или – по отношению к психологии – целостное зеркало, отражаясь в котором, она сможет по-новому увидеть и понять свои проблемы.[29]29
Уже сейчас начинают появляться совершенно необычные для прежней психологии темы и ракурсы. Назовем, например, небольшое учебное пособие В. П. Зинченко под названием «Возможна ли поэтическая антропология?» (Изд-во Российского открытого ун-та, 1994), в котором, согласно аннотации, показано, что поэтические прозрения и живые поэтические метафоры помогают по-новому осмыслить известные научные данные о человеке и открыть новые страницы в его изучении.
[Закрыть]
Следует заметить, что отечественная гуманитарная психология оформляется (что было некогда и с гуманистической психологией на Западе) как секулярная и, если речь заходит о духовном, то оно, в основном, понимается как проект, проекция, из-себя-построение, лишенное самостоятельного онтологического статуса. Причем в этом усматривается нередко принципиальный момент. «Мы удержались, – пишет, например, Л. И. Воробьева в одной из первых статей, посвященных гуманитарной психологии и психотерапии, – от прямых онтологизаций духовной составляющей человека через представления религии… Мы удержались на уровне определения души как способности чувствовать неустранимые противоречия, обозначили символ, миф, архетип как способ удержания и трансформации такого рода противоречий, в которых одновременно аккумулирован опыт, накопленный человечеством для их преодоления. Разумеется, это не избавляет нас от столкновения с онтологической проблематикой, но позволяет подойти к ней разумно, не теряя, а расширяя возможности выбора и конструирования».[30]30
Воробьева Л. И. Гуманитарная психология: предмет и задачи. – Вопросы психологии, 1995. № 2, С. 23–24.
[Закрыть] Если говорить в этом плане о практической стороне (гуманитарной психотерапии), то она должна вести человека ко все более широкому и равноприемлемому выбору. «Это похоже, – поясняет Л. И. Воробьева, – на вычерчивание траектории пути, конечный пункт назначения которого неизвестен. Смысл состоит только в уменьшении неопределенности положения». Учитывая же многоаспектность, многопозиционность гуманитарного знания, «вопрос о его истинности – ложности отпадает сам собой».[31]31
Там же. С. 28.
[Закрыть] Исходя из такой позиции становится понятным стремление сугубо рядоположно анализировать все новые аспекты и подходы, будь то язычество, изменения сознания под влиянием наркотиков, воздействие разных видов искусства, буддизм или христианство. В результате такого перебора, последовательного гуманитарного анализа, исследователи надеются извлечь некое соединенное содержание и перенести его затем в психологию. Гуманитарный идеал научного познания, считает, например, В. М. Розин, предполагает изучение уникальных духовных феноменов, «которое способствует духовному процессу в человеке и высвобождает место для его развития».[32]32
Психология и новые идеалы научности (Материалы «круглого стола»). Вопросы философии. 1993. № 5. С. 14.
[Закрыть] Занятие безусловно важное, однако, может ли область духовного адекватно отражаться лишь гуманитарной парадигмой, или здесь подразумевается и другой язык, другие способы познания и водительства? И главное, «высвобождая место для развития», как все же не задаться вопросом – развития куда, для чего?
4. О различении понятий «человек» и «личность»
Обозначенный выше вопрос о смысле психического развития возвращает к теме человека, проблеме его сущности. О необходимости обращения к этому уровню ясно говорил С. Л. Рубинштейн: «За проблемой психического закономерно, необходимо встает другая как исходная и фундаментальная – о месте не сознания только как такового во взаимосвязи явлений материального мира, а о месте человека в мире, в жизни».[33]33
Рубинштейн С. Л. Проблемы обшей психологии. М., 1973. С. 254.
[Закрыть] Рассуждения, восходящие к этому уровню, относятся, по преимуществу, к философско-психологическим или философской психологии (термин Г. И. Челпанова), поскольку затрагивает область граничную между философией и психологией, куда могут быть сведены, стянуты воедино нити отдельных психологических исследований и воззрений, где они могут быть отражены в своем единстве, откуда мы можем обозреть, воспринять психологию как целое, проникнуть в ее общий смысл и назначение.
То, насколько порой важно обращение к этому уровню, можно показать на примере одного из эпизодов научной жизни, рассмотрение которого поможет заодно представить собственное понимание автором проблемы человека в психологии.
В 1982 году вышла хрестоматия (тексты) по психологии личности под редакцией Ю. Б. Гиппенрейтер и А. А. Пузырея.[34]34
Психология личности: Тексты /Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и А. А. Пузырея. М., Изд-во МГУ, 1982.
[Закрыть] Эта быстро завоевавшая популярность учебная книга содержала среди прочих отрывки из сочинений М. М. Бахтина, в частности, его слова о том, что «…подлинная жизнь личности совершается как бы в точке… несовпадения человека с самим собой, в точке выхода его за пределы Всего того, что он есть как вещное бытие, которое можно подсмотреть-определить и предсказать помимо его воли, „заочно“. Правда о человеке в чужих устах, не обращенная к нему диалогически, т. е. заочная Правда, становится унижающей и умертвляющей его ложью».[35]35
Там же, С. 255–256.
[Закрыть]
Если вдуматься в эти слова, то они представляют, по сути, смертный приговор для научной психологии личности, которая построена как раз на «подслушивании» и «подсматривании», на стремлении к получению «заочной правды». Редакторы хрестоматии этой опасности не усмотрели и в предисловии к извлечениям из М. М. Бахтина, напротив, лишь подчеркнули, сколь «глубоко гуманистичен… протест против „овнешняющего“ и „завершающегося“ определения личности».[36]36
Там же. С. 250.
[Закрыть]
Опасность внедрения такой безоговорочной трактовки (напомним, что речь шла об учебном издании для широкого пользования) была замечена А. В. Петровским, «Трудно найти, – писал он в специальной заметке по этому поводу, – другое столь сильно и лаконично выраженное обвинительное заключение, предъявленное детерминистской психологии, которая в своей экспериментальной практике, минуя интроспекцию, пытается получить (подсмотреть, предсказать, определить) эту заочную правду о личности другого человека, исследуя как раз то ее „вещное“ бытие, которое Бахтин объявляет „унижающей и умертвляющей ложью“.»[37]37
Петровский Л. В. Психология вчера и сегодня – Вестник Моек Ун-та. СЕРИЯ 14. Психология. 1985. № 3. С. 57.
[Закрыть] Далее А. В. Петровский утверждал, что как раз при опоре на «вещное бытие», только принимая его реалии, возможно объективное познание личности, в том числе и «диалогическое проникновение в ее глубины». Этим утверждением, при всей несомненной авторитетности его автора, не снималась, однако, главная проблема: если возможна «заочная правда о личности» (а это, действительно, необходимое условие научности психологии), то какова должна быть эта правда, чтобы она согласовывалась, не противоречила трансцендирующей, не имеющей фиксированных границ природе человеческого развития?
Решение спора возможно, на наш взгляд, только при условии разведения, различения понятий «человек» и «личность». Отечественная психология, сделавшая столь много для различения понятий «индивид», «личность», «характер», «индивидуальность» и т. п., прошла почему-то мимо этого, столь принципиально важного вопроса. Между тем то, о чем говорит и на чем настаивает М. М. Бахтин, относится, прежде всего, к общему понятию «человек». Выше уже приведенных слов, послуживших основой спора, он пишет; «Человек никогда не совпадает с самим собой. К нему нельзя применить формулу тождества: А есть А».[38]38
Психология личности… С. 255.
[Закрыть] Эти слова целиком согласуются с пониманием человека как бесмасштабного существа, трансцендирующего свои границы, не поддающегося конечным определениям и т. п. Аппарат психологической науки не может и не должен быть применен здесь непосредственно. Другое дело – личность с позиций психолога. Она может быть, на наш взгляд, понята как особый психологический инструмент, орудие, принадлежащее, служащее человеку, как и другие психологические орудия и инструменты.
Вспомним расхожий в психологии афоризм: «Мыслит (или запоминает) не мышление (или память), а человек». Также и бытийствует не личность, а человек. Если начинает мыслить мышление или запоминать память, то это либо патология, либо мука, выход орудия из-под власти. Это касается и остального, включая и характер, и личность. Каждое из подобных образований может претендовать на роль главного и целого. Например, характер в подростковом возрасте, подсознание при невротическом развитии. Наиболее тонкая и современная подмена – подмена человека личностью, попытка выведения из нее самой оснований человеческой жизни, некий персоноцентризм, успешно насаждаемый и психологией.
Но в чем тогда видится специфика личности как психологического инструмента? Вспомним, что человек единственный из всех живых существ не принадлежит своему роду по факту рождения. Ему надо человеческую сущность присвоить, «выделаться в человека». По меткому слову немецкого философа Гердера, «человек первый вольноотпущенник природы». Дарованная ему свобода означала одновременно и неизбежно лишение его защищающих и поддерживающих инстинктов, т. е. сложных и автоматизированных систем действий, разворачивающихся в ответ на пусковые раздражители. Формирование и самостроительство в себе человека, сама способность и возможность такого самостроительства подразумевают наличие некоего психологического орудия, органа, постоянно координирующего и направляющего этот невиданный, не имеющий аналогов в живой Природе процесс. Этим органом и является личность человека.[39]39
См. Братусь Б. С. Аномалии личности. М., 1988.
[Закрыть]
Таким образом, личность как специфическая, не сводимая к другим измерениям конструкция не является самодостаточной, в Себе самой несущей конечный смысл. Смысл этот обретается в зависимости от складывающихся отношений, связей с сущностными характеристиками человеческого бытия. Иначе говоря, сущность личности и сущность человека отличны друг от друга тем, что первое есть способ, инструмент, средство организации достижения второго, а значит, первое получает смысл и оправдание во втором. Поэтому, возвращаясь к дискуссии вокруг слов М. М. Бахтина, мы можем утверждать, что личность как психологический инструмент может «овнешняться», о ней можно говорить «заочно» и это отнюдь не противоречит трансцендирующей, изменяющейся природе человека. Что касается неизбежно возникающего расхождения, пропасти, противоречия между «вещным» (конечным) и «смысловым» (потенциально бесконечным), то оно в свете сказанного не есть препятствие объективному познанию личности, обходить которое надо возвеличиванием осязаемого «вещного» в ущерб неясному «Смысловому» (в противовес «понимающей психологии», экзистенциальным подходам или литературоведческим толкам о превалировании второго над первым). Следует не избегать, не маскировать это противоречие, а, напротив, выделить и зафиксировать его как первую объективную данность. Конечно, задача психолога тогда весьма усложняется – он должен уметь соотносить личность с тем, что бесконечно ее больше, соотносить определенное неопределяемое, с тем, что неопределенно и неопределимо, но именно это соотнесение, напряжение, разность потенциалов есть важнейшее условие существования личности, собственно то, что и придает этому существованию истинный смысл, энергию и масштаб.
* * *
Предложенное понимание личности ведет к существенному пересмотру целого ряда проблем и подходов. Например, проблему психического здоровья, нормы, нормального развития личности.
Определение нормы относится к числу, наверное, самых нелюбимых вопросов, которые стараются, по возможности, обойти. Когда же избегнуть этого уже нельзя, то все продолжает сводиться, в конечном итоге, либо к статистическим критериям (такой как большинство), либо к адаптационным, гомеостатическим (хорошая приспособляемость, уравновешенность со средой), либо к негативным критериям (пока явно не болен, то здоров) и т. п. Если приглядеться к этим критериям, нетрудно увидеть, что они пришли в психологию, главным образом, из дисциплин естественного цикла: так, из биологии, в частности, из физиологии пришли понятия адаптивности и гомеостазиса, из медицины – модели здоровья как отсутствие болезней и т. п. Будучи примененными к личности, эти критерии оказываются явно недостаточными, редуцированными, хотя при этом по-прежнему активно используемыми.[40]40
Известное раздражение, неуважение к этим критериям высказывали еще старые авторы. Так, французский психиатр Кюльер говорил, что «в тот самый день, когда больше не будет полунормальных людей, цивилизованный мир погибнет, погибнет не от избытка мудрости, а от избытка посредственности». А согласно Ломброзо «нормальный человек – это человек, обладающий хорошим аппетитом, порядочный работник, эгоист, рутинер, терпеливый, уважающий всякую власть, домашнее животное». Если же брать времена совсем недавние, то академика А. Д. Сахарова собирались помещать в психиатрическую клинику и удерживать там на основании все тех же вышеназванных критериев – неадаптивности, выпадения из общепринятого русла и т. п. Понятно, что за этим лежали политические мотивы, но реализовывались они через вполне определенные критерии и представления, согласно которым «нормальным» Брежневу и Черненко противостоял «ненормальный» Сахаров.
[Закрыть]
Возможность качественно иного понимания нормы возникает тогда, когда мы разводим понятия «человек» и «личность», когда начинаем рассматривать личность как инструмент, орган, орудие обретения человеческой сущности. В этом случае характеристика личности, ее «нормальность» или «аномальность» будет зависеть от того, как служит она человеку, способствует ли ее позиция, конкретная организация и направленность приобщению к родовой человеческой сущности или, напротив, разобщает с этой сущностью, запутывает и усложняет связи с ней. Таким образом, понятие нормы приобретает иную адресность и вектор: не к статистике, адаптации и т. п., а к представлению о человеческой сущности, к образу человека в культуре. Другими словами, проблема нормального развития личности ставится в зависимость от проблемы нормального развития человека. Последнее, в самом общем виде, понимается как такое развитие, которое ведет к обретению человеческой сущности, к соответствию своему понятию – понятию человека.
Здесь, однако, возникает серьезная трудность: ведь даже если психолог и согласится с таким представлением, как ему реально применить его, иначе говоря, как от области предельных абстракций и положений перейти к уровню психологического понимания, к реально осязаемым, образным представлениям о сущностных характеристиках человека в мире. Следует признать, что в отечественной психологии подобный переход, философско-психологическое развертывание представлений о человеческой сущности в достаточной полноте дано только у С. Л. Рубинштейна в его последней работе «Человек и мир»,[41]41
См. Рубинштейн С. Л. Человек и мир. М., 1997.
[Закрыть] хотя отдельные замечательные размышления на эту тему, разумеется, есть и в сочинениях Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Б. М. Теплова, П. Я. Гальперина и других классиков отечественной психологии. Конечно, со времени написания данной работы (1958–1960 гг.) ряд оценок и ракурсов, взглядов изменились, но главная, на наш взгляд, путеводная нить осталась: центральной, смыслообразующей характеристикой человека является способ его отношения к другому человеку. Эта мысль присутствует у многих психологов, но у С. Л. Рубинштейна она была выражена с особой яркостью и глубиной: «…Первейшее из первых условий жизни человека – это другой человек. Отношение к другому, и людям составляет основную ткань человеческой жизни, ее сердцевину. „Сердце“ человека все соткано из его человеческих отношений к другим людям; то, чего оно стоит, целиком определяется тем, к каким человеческим отношениям человек стремится, какие отношения к людям, к другому человеку он способен устанавливать. Психологический анализ человеческой жизни, направленный на раскрытие отношений человека к другим людям, составляет ядро подлинно жизненной психологии. Здесь вместе с тем область „стыка“ психологии с этикой».[42]42
См. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. М., 1957. С. 262–263.
[Закрыть]
Как и всякий живой, жизненный процесс, отношение к другому несет в себе некое исходное, движущее противоречие. Поскольку оно движущее, то, естественно, и неразрешимое до конца в жизни, но требующее того, чтобы человек, словами Гегеля, его «вмещал и выдерживал». Это противоречие, борьба противоположно направленных тенденций, векторов есть, с одной стороны, рассмотрение человека как самоценности, как непосредственно родового существа, а с другой – понимание его как средства, подчиненного внешней цели, как вещи, пусть даже особой, уникальной, но вещи среди других вещей. Приближение к первому и противоборство, противостояние второму – основное условие развития человека как человека. Продолжая и конкретизируя эту линию можно прийти к развернутому пониманию нормального развития, последовательно рассмотрев его основные атрибуты и признаки. Ясно, что для всякой концепции самое уязвимое – это конечное определение, в особенности, если оно дается без предварительного пошагового разъяснения. Не имея, однако, возможности здесь для такого разъяснения и лишь отослав читателя к соответствующей литературе,[43]43
См. Братусь Б. С. Нравственное сознание личности. М., 1985; Братусь Б. С. Аномалии личности. М., 1988; Братусь Б. С. Психология. Нравственность. Культура. М., 1994.
[Закрыть] рискнем дать наше определение нормального развития как оно было сформулировано десять лет назад: «Нормальное развитие – это такое развитие, которое ведет человека к обретению им родовой человеческой сущности. Условиями и одновременно критериями этого развития являются: отношение к другому человеку как самоценности, как к существу, олицетворяющему в себе бесконечные потенции рода „человек“ (центральное системообразующее отношение); способность к децентрации, самоотдаче и любви как способу реализации этого отношения; творческий, целетворящий характер жизнедеятельности; потребность в позитивной свободе; способность к свободному волепроявлению; возможность самопроектирования будущего; вера в осуществимость намеченного; внутренняя ответственность перед собой и другими, прошлыми и будущими поколениями; стремление к обретению сквозного общего смысла своей жизни».[44]44
Братусь Б. С. Аномалии личности. М., 1988. С. 50.
[Закрыть]
Подчеркнем следующее. Во-первых, речь в определении не о состоянии, а о тенденции, собственно развитии, т. е. не о некоем месте пребывания, стоянии, а о движении, полном риска. Потому важен не сам перечень выделенных признаков, атрибутов (можно, конечно, дополнить другими), а то, ухватывают ли они, высвечивают, определяют общее направление пути.[45]45
Конечной точки, предвидимого состояния мы никогда, по сути, не достигаем. Гёте, подводя итог своей долгой и столь, казалось бы, многоуспешной жизни, признавался, что у-него чувство, будто он ворочал неподъемный камень, пытаясь установить, уложить в некое уготованное для него место; всю жизнь и огромными усилиями, но так и не уложил окончательно. Понятно, что эти вечные несовмещения с намеченным, предощущаемым, эти усилия по достижению не достигаемого отнюдь не излишество или напрасная трата, но неизбежность и условие пути. Мы уже говорили выше, что поставленная далекая цель вообще обычно невыполнима в первоначально задуманной форме и видимые нами воплощения есть на деле следствия определенного рода смещений, направление которых очевидно – от высшего к низшему и цель тем самым не должна быть равной сама себе, но для достижения реального и возможного надо стремиться к идеальному и невозможному.
[Закрыть]
И второе. Напомним, что речь о развитии человека, тогда как личность, согласно предложенному пониманию – специфический инструмент, орудие этого развития и в качестве инструмента оценивается в зависимости от того, как служит своему назначению, т. е. способствует или нет приобщению человека к его сущности. В свою очередь личность необходимо разделять, разводить с «психическим», на чем настаивал А. Н. Леонтьев, говоря о «личностном» как об особом «измерении».[46]46
Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1983. С. 385.
[Закрыть] Поэтому человек может быть вполне психически здоровым (хорошо запоминать и мыслить, ставить сложные цели, быть деятельным, руководствоваться осознанными мотивами, достигать успехов, избегать неудач и т. п.) и одновременно быть личностно ущербным, больным (не координировать, не направлять свою жизнь к достижению человеческой сущности, разобщаться с ней, удовлетворяться суррогатами и т. п.). Кстати, если говорить о тенденциях современного общества, то надо признать, что для все большего количества людей становится характерным именно этот диагноз: психически здоров, но личностно болен.