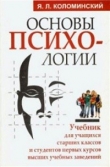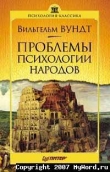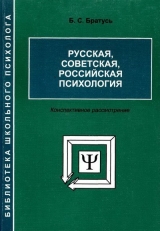
Текст книги "Русская, советская, российская психология [Конспективное рассмотрение]"
Автор книги: Борис Братусь
Жанры:
Психология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
IV. ВОЙНА И ПОСЛЕВОЕННЫЕ МЫТАРСТВА
Вследствие грубейших ошибок Сталина, начало Великой Отечественной войны сопровождалось чудовищными потерями, огромные территории СССР были оккупированы фашистами, страна была поставлена на грань катастрофы. Изыскивались все силы и ресурсы. Вспомнили о психологах. И тут оказалось, что эти «буржуазные прихвостни» способны делать многое, чего не могут представители других специальностей. Например, работы психофизиолога С. В. Кравкова послужили основой для военной маскировки. Но главные успехи психологи показали в деле реабилитации, восстановления психического и соматического здоровья раненых бойцов. Психологи начали добиваться удивительных результатов благодаря применению разработанных ими методов. Были открыты специальные госпитали: Коуровский, где работали А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец и др., и Кисегачский (на Урале), где работали А. Р. Лурия, Б. В. Зейгарник и др. Появились важные разработки об уровнях установок, природе движений, нарушениях памяти, мышления, личности, мозговой локализации психических функций. Эти годы по праву считают временем рождения целой новой области, отрасли психологической науки – нейропсихологии, основателем которой явился крупнейший советский психолог – Александр Романович Лурия.
Казалось бы, парадокс: когда стало тяжело, плохо (а что могло быть хуже для нашего народа той страшной войны?), психологии стало легче, она испытала подъем. Однако за этим парадоксом лежит вполне определенная закономерность: как только ослабевало жесткое политическое давление на науку, «мудрое партийное руководство» над ней, наука поднимала голову и российские таланты давали знать о себе. Так было во время войны, так было и позднее. История советской психологии – достаточно хорошая тому иллюстрация.
Говоря о периоде войны, нельзя не упомянуть, что психологи проявили высокий патриотизм и работу их в этот период можно назвать героической. Родина была в опасности, перед ними был реальный и страшный враг и в этой ситуации их деятельность приобретала высокий смысл вклада в общее дело, в грядущую Победу.
* * *
Когда окончилась война (в которой, в частности, столь блистательно проявили себя психологи), коммунистическая партия тут же возобновила, продолжила свою главную линию, т. е. – в нашем понимании – борьбу за уничтожение человека в человеке. Аппарат идеологии с новой силой принялся за дело и науки о человеке (в их числе психология) подверглись новым, еще более жестким нападкам. Вскоре после войны прошлись, прокатились тяжелыми волнами, по крайней мере, три кампании, ударившие по психологической науке.
Во-первых, это была кампания против генетики (1948) как лженауки, буржуазной выдумки и диверсии. В самом деле – какая может быть генетика со своими внутренними законами, когда все должно управляться извне, соответствующими директивами партии и правительства. Теперь это может показаться анекдотом, но главный борец с генетикой – президент тогдашней Академии сельскохозяйственных наук – Трофим Лысенко говорил, что рожь можно переделать в овес, если на то будет соответствующая воля партии.
Тогда, однако, психологам было не до смеха, ведь они также изучали некие внутренние законы. По правилам материализма эти законы не должны быть сколь-нибудь автономны от внешних объективных условий и стимулов. Психика должна не своевольничать, но подчиняться тому «единственно правильному» представлению о человеке, которым владеет коммунистическая идеология.
Дело оставалось за малым – за научной конкретизацией «правильного представления» о человеке применительно к психологии. Это и выполнила следующая кампания, связанная с так называемой Павловской сессией (1950 г.).[13]13
Официально она называлась Объединенной научной сессией Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР, посвященной проблемам физиологического учения И. П. Павлова.
[Закрыть] Эта сессия, ее решения должны были окончательно поставить психологию на твердый естественнонаучный фундамент и свести ее, по сути, к рефлекторной продукции высшей нервной деятельности (ВНД). Эпигоны Павлова откровенно заявляли о необходимости ликвидации психологии как самостоятельной науки и замене ее физиологией ВНД. Причем важно понять, что это была не научная дискуссия, где возможны самые разные точки зрения. Павловское учение получило официальный статус «правильного, последовательно материалистического», одобренного самой партией направления, – и потому другие точки зрения сразу становились «неправильными», «ошибочными», «вредными», а их носители – «заблуждающимися» или «врагами», против которых нужны самые решительные способы борьбы (вплоть до «разгрома и уничтожения»).
Один психолог старшего поколения рассказывал мне, что по следам сессии был подготовлен проект постановления, в котором психология должна была быть официально упразднена и заменена физиологией ВНД. Этот проект прошел все высокие инстанции и был направлен на подпись Сталину. Тот его прочел, после раздумья произнес: «Физиология есть физиология, а психология есть психология» – и не подписал. Не знаю, насколько эта история верна, но по духу она очень соответствует тому времени, когда вопросы науки (впрочем, как и все остальные) решались в Кремле.
Так или иначе, психология осталась жить, но все психологи теперь должны были постоянно и во всем ссылаться и опираться в своих работах на сочинения Павлова и его учеников. Чтобы почувствовать обстановку тех лет, приведем следующий рассказ В. В. Умрихина об одном малоизвестном, но знаменательном штрихе того времени: «В постановлении Павловской сессии было сказано, что учение Павлова создало научный фундамент для перестройки психологии на новой основе. И по решению сессии через два года было созвано Всесоюзное совещание по психологии. Директором института психологии тогда был Анатолий Александрович Смирнов, и перед ним встала задача спасения института, вообще отечественной психологии. И как он ее решил, Анатолий Александрович мне рассказал сам… Психологи не могли, конечно, открыто противостоять тем установкам, которые спустили им „сверху“. С другой стороны, совещание грозило – а это было целью его вдохновителей – психологическому сообществу расколом на „истинных“ и „буржуазных“ со всеми вытекающими последствиями. И Смирнов решил направить совещание по руслу, где опасность была бы сведена к минимуму. И поэтому, – сказал Анатолий Александрович, – я сделал плохой доклад и вызвал огонь на себя. Доклад, действительно, был настолько, мягко говоря, странный, что участники совещания получили прекрасный повод уйти от навязываемой программы – вместо того, чтобы заниматься тем, что им предписывалось, они дружно набросились на доклад Смирнова. Анатолий Александрович нарочно сделал себя мишенью критики, причем столь явной мишенью, что сказанное им сейчас выглядит издевательством по отношению к идеологическим надсмотрщикам. Помимо общих положений о том, что надо перестраивать психологию на „павловской основе“, в перечне задач в докладе была, например, сформулирована и такая. Поскольку мировоззрение советского человека и человека буржуазного качественно отличается друг от друга, значит и физиологические механизмы, лежащие в основе этого мировоззрения, так же качественно отличны. Значит, – следовал вывод, – одной из главных задач психологии становится изучение условно-рефлекторных связей, условных рефлексов советского человека в их принципиальном отличии от присущих человеку буржуазного общества. Понятно, все присутствующие набросились на доклад Смирнова, „забыв“, что им было предписано – искать в трудах своих коллег „реакционное“, „идеалистическое“. А теперь представьте себе; вы читаете этот доклад, не зная того, что стоит за ним» (Человек, 1995, № 3, с. 11). Действительно, изучая труды предшественников, следует помнить, в каких условиях они писались, как вопреки «борьбе коммунистической партии» создавалась, отстаивалась, а иногда просто чудом выживала наша наука.
Наконец последняя напасть послевоенных лет называлась борьбой с космополитизмом. Стало поноситься все иностранное и превозноситься отечественное. Выпекавшаяся столетие французская булка была срочно переименована в городскую, конфеты (очень вкусные, кстати) «Американский орех» стали «Южным орехом», слово «лозунг» заменено словом «призыв», доказывалось, что первый поднявший в воздух самолет изобрели не братья Райт, а инженер Можайский, любые ссылки на иностранных авторов изымались или рассматривались как крамола, как – словосочетание тех лет – «низкопоклонство перед Западом».[14]14
Согласно шутке того времени, теорию относительности изобрел русский физик Однокаменьщиков (буквальный перевод с немецкого фамилии Эйнштейна).
[Закрыть]
Как всегда в Советском Союзе, это не было неким частным случаем, следствием спонтанного подъема отдельных общественных сил. Это была направленная политическая борьба, в конечном итоге все та же борьба коммунистической партии за уничтожение человека.
На этот раз она была направлена против интеллигенции, ее права и обязанности – знать и использовать весь опыт мировой культуры. Имелась и своя особая специфика: если интеллигент был евреем, то он автоматически, одним фактом своей национальной принадлежности получал клеймо «безродного космополита» и как носитель этого клейма подлежал все тому же «разгрому и уничтожению». Помимо громких арестов и дел (ленинградское дело «враче и отравителей» дело Еврейского антифашистского комитета, убийство актера Мехоэлса и др.), развернулась повседневная «чистка». Ученых с еврейскими фамилиями начали «прорабатывать» на специальных собраниях после чего увольнять с работы.
Не минуло это и психологов. Так была уволена основатель отечественной патопсихологии Б. В. Зейгарник (в то время уже вдова – муж погиб в сталинских лагерях – с двумя детьми на попечении) снят с поста заведующего кафедрой психологии Московского университета С. Л. Рубинштейн, на середину марта 1953 года было назначено собрание о «космополитических ошибках» ведущего специалиста по детской психологии Д. Б. Эльконина (прошел в войну путь от рядового до полковника, его жена и двое малолетних детей были расстреляны фашистами). Последнее собрание, однако, не состоялось, ибо за неделю до него скончался сам Иосиф Сталин – главный вдохновитель и руководитель борьбы с космополитизмом, равно как и всех предыдущих советских кампаний начиная с 1924 года.
V. «ОТТЕПЕЛЬ»
После смерти Сталина и короткой, но острой междоусобной борьбы на верхах к власти пришел Никита Хрущев. Забрезжила короткая хрущевская весна, вернее, оттепель – до настоящей весны дело не дошло. Появились первые разоблачения сталинских злодеяний, из концлагерей возвращались тысячи невинных жертв разгромов и уничтожений: «шпионы», «диверсанты», «вредители», «отравители», «террористы», «космополиты», «клеветники» и т. п. Общество начало поднимать изрядно побитую голову. Психологи тоже.
В 1955 году начал выходить первый психологический журнал «Вопросы психологии» (напомню, что в 20–30-х годах их было десятки). Вышел однотомник Л. С. Выготского, даже имя которого нельзя было упоминать в положительном свете в течение 20 лет. Было организовано Всесоюзное общество психологов. Стали появляться важные работы и сочинения по общей психологии, нейропсихологии, психологии восприятия, инженерной психологии. В 1966 году образовался факультет психологии при Московском университете, в том же году в Москве прошел XVIII Международный конгресс по психологии.[15]15
Эти два события связаны весьма тесно. Во многом именно благодаря Международному конгрессу на базе отделения психологии философского факультета Московского университета был открыт факультет психологии. Дело в том, что А. Н. Леонтьев как заведующий отделением психологии в разговорах с начальством – и университетским и более высоким (ЦК, Министерство образования) постоянно говорил: «Как же так – соберется впервые в Москве Международный конгресс по психологии, съедутся ученые со всего мира и обнаружится, что у нас даже нет факультета психологии». Думаю, что эта аргументация была не последней в решении открыть факультет.
[Закрыть] Этот конгресс стал смотром, итогом работы психологов за хрущевскую оттепель. И итог этот, на удивление многих западных ученых, оказался весьма достойным. П. Я. Гальперин на равных спорил с Ж. Пиаже, предлагая качественно иную концепцию развития интеллекта; в нейропсихологии, возглавляемой А. Р. Лурия, Москва занимала просто передовые, лидирующие позиции; Б. В. Зейгарник создала собственную школу патопсихологии; Д. Б. Эльконин и В. В. Давыдов предлагали оригинальные, эффективные способы обучения; А. В. Запорожец по-новому исследовал проблемы дошкольного детства; А. Н. Леонтьев и его ученики разрабатывали фундаментальные проблемы восприятия и деятельности.
А как же обстояло дело с общей концепцией человека, которая должна стоять за конкретными исследованиями психики, прежде всего ее высших слоев – мотивации, эмоций, личности?
Если продолжить аналогию с ранней весной, оттепелью, то можно сказать, что сковывающий лед сталинской диктатуры стал постепенно отекать, оттаивать, образовались первые трещины, полыньи на ледяной поверхности, в которых можно было, пусть и в ограниченных пространствах, двигаться свободно. Это не была, конечно, полная свобода, айсберги идеологии оставались и казались незыблемыми в своей мощи, но после сковывающего льда и невозможности пошевелиться эта, даже ограниченная воля казалась великим достижением. Началась вторая попытка привнесения проблемы человека в психологию. Первая, сорванная, шла от Выготского и закончилась только провозглашением тезисов о важности «вершинной», «акмеистической» психологии. Разработать ее не удалось ввиду разгрома, учиненного после постановления 1936 года. Вторая попытка введения проблемы человека[16]16
Разумеется, в строгом смысле проблема человека присутствовала всегда, однако, как уже говорилось, в сталинский период она была как бы окончательно, раз и навсегда решена и тем самым снята с повестки дня, на которой стояли отныне какие угодно вопросы – строительства, вооружения, очередных арестов, празднования юбилеев, но только не человеческого бытия.
[Закрыть] началась не с самой психологии, а с философии.
Философия этого времени также осваивала свою полынью. Появился особый интерес к ранним произведениям Маркса, в которых он, еще младогегельянец, высказывал по отношению к ортодоксальному коммунизму весьма либеральные мысли. Человек в этих суждениях представал как ценность, как особая сущность, транцендирующая любые заданные ему границы. Помню, как меня тогда удивили принадлежностью Марксу слова о том, что человек настолько более бесконечен, чем гражданин государства, насколько человеческая жизнь более бесконечна, чем политическая жизнь. Эта, столь теперь очевидная мысль так противоречила всей практике и идеологии тогдашней жизни, что воспринималась как откровение, надежда, как призыв к переходу к новым, действительно гуманным взглядам. Отсюда возникала уверенность (даже подъем, энтузиазм) относительно того, что марксизм – подлинный, очищенный от сталинских искажений – способен найти достойное решение проблемы человека, привести к гуманным отношениям между людьми.
Появляется круг молодых, сильных философов, которые занялись запретной до того темой проблемы человека (М. К. Мамардашвили, Г С. Батищев, B. C. Библер, Ф. Т. Михайлов, А. С. Арсеньев, О. Г. Дробницкий, Г. П. Щедровицкий и др.). Их работы и рассуждения стали серьезно влиять на новое поколение психологов, которые в то время входили в научную жизнь (В. В. Давыдов, В. П. Зинченко, Ю. Б. Гиппенрейтер, А. В. Брушлинский, O. K. Тихомиров и др.).[17]17
Этому немало способствовало то, что отделение психологии (на базе которого в 1966 голу и образовался факультет) было при философском факультете МГУ. Студенты – философы и психологи часто слушали одни лекции, непосредственно общались, дружили друг с другом. Многие из них потом, став уже известными учеными, сохранили человеческие связи и контакты.
[Закрыть]
Но и среди психологов старшего поколения стал возрождаться интерес к общим проблемам человека. В Ленинграде Б. Г. Ананьев создал школу, поставившую задачей разработку интегративной, комплексной концепции изучения человека. Основные результаты были опубликованы позднее, в итоговых монографиях Б. Г. Ананьева (Человек как предмет познания. Л., 1968. О проблемах современного человекосознания. М., 1977). Совершенно особое, центральное, на наш взгляд, место в исследованиях того времени следует отвести последней, оставшейся незавершенной рукописи С. Л. Рубинштейна «Человек и мир», о которой надо сказать чуть подробнее.
С. Л. Рубинштейн (1889–1960) получил блестящее философское образование в Германии, защитил накануне Первой мировой войны диссертацию в Марбурге. Затем он всю жизнь занимался психологией, а под конец, как бы завершая круг, вновь вернулся к философскому уровню, но подошел к нему уже не как чистый философ, а как психолог, осознающий, что без учета этого уровня психология не может быть завершенной и цельной. Рукопись книги «Человек и мир» была опубликована в 1973 году спустя тринадцать лет после смерти автора и то с купюрами идеологической цензуры. Полностью, без купюр, она опубликована лишь в 1997 году. По справедливой оценке А. В. Брушлинского и К. А. Абульхановой эта была первая в советской философии и психологии попытка создания оригинальной целостной концепции человека.
Впервые за всю историю советской психологии в рукописи речь шла о нравственной ответственности, чувстве трагического, проблеме любви, смерти и других смысложизненных, экзистенциальных проблемах бытия. Разумеется. Рубинштейн оставался приверженцем диалектического материализма и марксизма,[18]18
Теперь эта всеобщая привязанность к марксизму может показаться странной – неужели нельзя было выбрать иные основания. Однако упрек этот не совсем справедлив. В то время, в тех условиях марксизм был единственно доступным и возможным способом выражения, алфавитом, языком, на котором лишь мог писать и в категориях которого мог рассуждать психолог или философ без риска «разгрома и уничтожения». А. В. Запорожцу удалось, например, ввести понятие спонтанности в представление о развитии детской психики только после того, как он нашел в одном из сочинений Ленина слова (в другом, разумеется, не психологическом контексте и связи) о «спонтанейности развития». Лишь со ссылкой на ленинские слова он провел и свое понимание спонтанности (устное свидетельство В. П. Зинченко).
[Закрыть] но он явно выходил на общечеловеческие и гуманистические позиции, которые в случае их развития могли бы повернуть психологию к человеку, его подлинным страданиям и жизни. Могли бы, если бы не новый виток советской эпохи.
VI. «ЗАСТОЙ»
Осенью 1964 года свершился дворцовый переворот. Никита Хрущев был снят с поста Первого секретаря ЦК и на это место водворился Леонид Брежнев. Начался период, который позднее стало принято называть периодом застоя. На самом деле никакого стояния не было. Было движение, новое наступление – наступление коммунизма по все той же основной для него линии – линии уничтожения человека как свободного существа.
Как обычно в истории, период этот начался не сразу, с даты смещения экспансивного Никиты Хрущева (октябрь 1964 года). За смещением последовал некий переходный период, после чего политика Брежнева стала выявляться все более четко – исчезли антисталинские статьи и разоблачения, начались судебные преследования инакомыслящих, еще более разросся аппарат КГБ, во все сферы жизни стал проникать строжайший идеологический контроль,[19]19
Помню с какой гордостью и внутренним упоением говорил мне один из руководителей солидного издательства: «Мы должны теперь следить не только за тем, что написано, но и за тем, что не написано автором, мы должны представить себе все возможные реакции читателя и сделать так, чтобы эти реакции шли только в нужную сторону и не провоцировали его на ложные мысли». Понятно, что ложным было все, что противоречит коммунистическому мировоззрению, и здесь у цензоров-редакторов проявлялось необыкновенно тонкое чутье. Так мой редактор, например, решительно вычеркнула из книги (по психологии юношеского алкоголизма) слово «грех» – «нельзя, напомнит о религии» и тут же рассказала «страшную историю» про то, какой нагоняй получил другой редактор, пропустивший подобные слова в печать.
[Закрыть] нарастала мощь вооружения, все более суживались права и свободы людей, возрождался культ личности вождя – появлялись все новые ордена и звезды Героя на брежневской груди. Началась реставрация сталинизма. Правда, вернуть Сталина на его прежнее место уже было нельзя (слишком страшные и неопровержимые документы обнародовал Хрущев), поэтому это была скрытая ресталинизация, ресталинизация без Сталина.[20]20
Впрочем были не безуспешные попытки вернуть и самого Сталина как живую фигуру и символ. Стали печататься воспоминания, в которых он фигурировал в весьма положительном свете, вышли кинофильмы, где он начал появляться в качестве персонажа с неизменной трубкой, медленной взвешенной речью с грузинским акцентом и мудрыми замечаниями. Как это ни печально, но это возвращение Сталина на экран нередко сопровождалось одобрением и даже (особенно вначале) вспышками аплодисментов в зале.
[Закрыть]
Манифестацией, утверждением режима стало вторжение советских войск в Чехословакию в августе 1968 года. Брежневская модель социализма становилась эталоном не только для своей страны, но и для всего «социалистического содружества», и Советский Союз демонстрировал решимость утверждать эту модель всеми возможными способами, включая силу оружия.
Какое, однако, отношение имела вся эта политика к психологической науке, к постановке проблемы человека в ней?
Самое непосредственное. Вообще при коммунистическом режиме не существует сугубо внешних событий, которые не затрагивали бы, так или иначе, всех сторон внутренней жизни. Тоталитарная среда очень плотная, густая и каждое движение в ней передается, отдается всем соучастникам. Там нет необходимого свободного пространства, все ограничено и тесно, без зазоров притерто друг к другу, и потому перемена любой позиции задевает, отдается во всех остальных. В особенности, когда речь идет о главном. А главное в коммунизме это идеология, ее наступление и распространение.
Вторжение в Чехословакию означало запрет того «гуманного социализма», «социализма с человеческим лицом», который собирался строить Александр Дубчек и его единомышленники. Социализм должен был оставаться брежневским, т. е. казарменным, иерархическим, несвободным. Само слово «гуманизм» сразу же оказалось в опале, поскольку оно было начертано на знаменах пражских реформаторов. Автоматически (по закону плотной среды) это означало борьбу с этим словом, стоящим за ним понятием и теми, кто его употреблял, а тем более активно обсуждал, разрабатывал. Началась резкая критика гуманистических подходов. Она сводилась в основном к разделению двух видов гуманизма – буржуазного (абстрактного) и пролетарского (конкретного).
Предположим, вы идете вдоль реки, вдруг слышите крики о помощи и видите тонущего человека. Вы устремляетесь к воде и спасаете его. Какой это будет гуманизм? Оказывается – абстрактный, сомнительный, буржуазный. Но вот вы подходите к берегу и выясняете предварительно социальное происхождение и положение тонущего, его отношение к победе коммунизма и т. п. И если ответы окажутся убедительными, вы оказываете помощь. Это будет гуманизм конкретный, правильный, пролетарский.
Пример, разумеется, гротескный, карикатурный, но он вполне отражает суть тогдашней критики гуманизма, которая привела к тому, что слово это стало во многих работах обозначаться в кавычках или с прибавлением слов «якобы», «так называемый гуманизм», т. е. как нечто сомнительное и обманное.
В результате проблема человека опять, как и при Сталине, стала приобретать статус окончательно и единственно верно решенной, не требующей новых исследований понимания. Неслучайно поэтому изучение личности в начале семидесятых уходит в тень, а основное финансирование, поддержку и понимание получает инженерная психология, исследования восприятия, систем «человек – пульт управления», «человек-машина», где человек выступал как часть, звено, которое надо приспособить к нуждам и логике механических аппаратов.
Это не означало, однако, что исследования в области психологии личности не проводились вовсе. В середине семидесятых событием стало появление фундаментальных работ А. Н. Леонтьева по проблемам исследования сознания и личности – сначала они появились в журнале «Вопросы философии», а затем вышли отдельной книгой под названием «Деятельность. Сознание. Личность» (М., Политиздат, 1975), Книга, несмотря на выражение сугубо методолого-теоретический характер и весьма сложный язык изложения, имела впечатляющий успех, вскоре (1977 г.) переиздана, переведена в 14 странах, удостоена Ломоносовской премии. Успех книги явно обнаружил, продемонстрировал заинтересованность психологического сообщества в новом осмыслении психологии и ее места в общем понимании человека, Леонтьев констатировал, по сути, непрекращающийся, перманентный, длившийся к тому времени уже столетие кризис психологической науки, возникающий вследствие противоречия «между громадностью фактического материала, скрупулезно накопляемого психологией в превосходно оснащенных лабораториях, и жалким состоянием ее теоретического, методологического фундамента». (Деятельность. Сознание. Личность. С. 4).
Выход из этого положения Леонтьев видел, конечно же, в марксизме, в его последовательном и «правильном» применении к психологии: «Методологическому плюрализму советские психологи противопоставили единую марксистско-ленинскую методологию, позволяющую проникнуть в действительную природу психики, сознания человека» (Там же. С. 4). Другого заявления от лидера советской психологи в те годы было ожидать трудно, марксизм, как уже отмечалось, был и оставался для ученых тем алфавитом, языком, на котором они и могли лишь выражать свои воззрения. Но надо обязательно сказать, что при всех марксистских установках и даже штампах в сочинениях ведущих отечественных психологов можно всегда обнаружить некий зазор, отдушину, пролом, сквозь который проглядывает небо извечного российского идеализма и стремления к высокому. Так было и у Леонтьева. Главным, – писал он, – является вопрос о том, какое место занимает внутренняя жизнь «в многомерном пространстве, составляющем реальную, хотя и не всегда видимую индивидом, подлинную действительность» (Там же. С. 220).
Марксистски ориентированная психология, однако, не мота ответить на этот «главный вопрос», хотя бы потому, что для нее реальное не могло, не должно быть невидимым, но непременно зримым, регистрируемым, материальным, предметным, на котором, как на фундаменте, следовало основывать все остальное. Леонтьев в последние годы жизни (он умер в январе 1979 г.), видимо, все более задумывался об этом. Во всяком случае, в одной из самых последних бесед, где присутствовал и автор этих строк, Леонтьев говорил, что марксизм ошибается в своем утверждении, будто он исправил теорию Гегеля, перевернув ее «с головы на ноги». «На самом деле, – убежденно и даже с горячностью закончил Леонтьев, – Гегель стоял правильно». Это означало, по сути, позднее признание Леонтьевым значимости идеальных, метафизических оснований как главных, определяющих для человека, составляющих ту самую «реальную, хотя и не всегда видимую индивидом подлинную действительность».
Следует сказать и о развиваемом Леонтьевым представлении о смыслах. Еще в 1947 году он ввел понятие о «личностных смысла» как единицах анализа внутренней жизни человека. И хотя Леонтьев в согласии с традициями марксизма ограничивался лишь предметным пониманием смыслов, не соотносил их с уровнями нравственной ориентации, тем не менее, введение этой единицы позволило сделать важный шаг в изучении субъективного мира.
Во второй половине семидесятых годов эта «смысловая линия» была подхвачена рядом молодых тогда сотрудников факультета психологии Московского университета. По инициативе А. Н. Леонтьева была создана Межкафедральная группа по изучению психологии личности (А. Г. Асмолов, Е. З. Басина, Л. В. Бороздина, Б. С. Братусь, Е. Е. Насиновская, Л. А. Петровская, В. А. Петровский, А. А. Пузырей, В. Э. Реньге, Е. Т. Соколова, А. С. Спиваковская, Е. В. Субботский, К. Г. Сурнов, А. У. Хараш, О. М. Хараш и др.). Руководителем группы был автор этих строк, заместителем – А. Г. Асмолов. В ходе работы группы (1976–1980) понятие смысла существенно видоизменилось, расширилось, потеряв, в частности, свою жесткую предметную привязанность, все острее и чаще ставились проблемы нравственной отнесенности, связи психологии и этики.
Еще одной важной линией конца 70 – начала 80-х годов стало обращение некоторых психологов к практике консультирования и психотерапии. Отнюдь не всегда это были удачные попытки – не хватало опыта, специальной литературы, крайне шаткими и неустойчивыми были исходные теоретические позиции. Однако само возникновение этой линии свидетельствовало о насущной потребности повернуть психологию к нуждам конкретного человека, помочь ему в преодолении жизненных трудностей.
* * *
Если же говорить о внешних превалирующих тенденциях в психологии тех лет, то они не были особо радостными, В очередной раз к худшему изменилось в 70-х годах общее положение в психологическом сообществе. Этому способствовало, по крайней мере, два обстоятельства. Первое выглядело поначалу как весьма оптимистическое. Это начавшийся в середине 60-х годов подъем интереса к психологии, открытии вслед за Московским университетом факультетов и отделений психологии в других высших учебных заведениях страны, основание Института психологии в системе Академии наук (1971), появление все новых лабораторий.
Оптимизм, однако, вскоре стал омрачаться тем, что квалифицированных кадров для этого обилия возможностей было крайне мало.[21]21
Отделение (с 1966 г. факультет) психологии МГУ как центральное место квалифицированной подготовки психологических кадров выпускало в год (включая дневное и вечернее отделение) примерно 40–50 студентов. Еще меньше выпускали отделения (позже факультеты) в университетах Ленинграда и Тбилиси. Других мест подготовки до начала 70-х годов не было.
[Закрыть] И вот в психологию буквально хлынул поток непрофессионалов. Педагоги, историки, филологи, биологи, математики (причем, порой, просто неудачники в своих областях) стали заполнять вакантные места психологов, наскоро пройдя где-нибудь стажировку или прослушав какие-то курсы. Были случаи, когда в провинциальных университетах стали открываться отделения по подготовке психологов, в которых среди преподавателей и сотрудников не было ни одного (!) профессионального психолога. Понятно, что общий уровень психологического сообщества стал стремительно падать.
Однако, если это обстоятельство можно было рассматривать как болезнь роста, которую со временем можно поправить, то следующее обстоятельство было более серьезным и удручающим, поскольку касалось самих корней происходящих в обществе изменений. Правление Брежнева было ресталинизацией и, следовательно, новым возрождением и укреплением административно-иерархической системы, при которой все должно было подчиняться идеологическому аппарату. Все нити сходились в ЦК КПСС, где соответствующие отделы полностью и во всех деталях управляли всеми областями жизни общества.
Как всякая реставрация, брежневская ресталинизация имела признаки некоего гротеска, пародии и – одновременно – разложения, упадка. Сталину поклонялись и боялись его, над вождизмом Брежнева подсмеивались и сочиняли многочисленные анекдоты о его тугодумии и косноязычии. Сталинский чиновник был ревнителем системы, которая зорко следила за его верностью ей. Брежневский чиновник часто лишь на словах заботился о системе, на деле же все большее внимание уделял своим личным делам, тем богатым возможностям, которые дает его место для обогащения, приобретения дефицитных товаров и услуг, поездок за границу, получения квартиры, устройства своей семьи, родственников и т. п. В общество проникал цинизм, узкотрупповые предпочтения, коррупция, которые стали пронизывать все уровни от мелкого райкомовского функционера до самого Генерального секретаря. Эти процессы не могли не миновать науку, в частности психологию, судьба которой все более тесно стала зависеть от вкусов, расположения, личных интересов соответствующих чиновников в ЦК КПСС, например, секретаря ЦК М. В. Зимянина и, – прежде всего – его помощника В. П. Кузьмина, который непосредственно заведовал делами психологии. Начались конъюнктурные игры, кадровые перестановки, увольнения, смещения, которые начали приводить в результате к развалу научных школ и признанных психологических центров. Добро бы вместо одних научных школ были привнесены, утверждены другие. Однако новые руководители психологии были, по сути, разрушителями, а не созидателями. Они четко и хорошо видели свои групповые интересы, прекрасно ориентировались в расстановке сил, но были как бы слепы на науку, ее реальный образ был для них просто не видим и потому они корежили и попирали его на каждом шагу, часто даже не сознавая пагубности своих действий.
Может быть пояснению последней мысли послужит следующий образ. Однажды на какой-то местной авиалинии в Америке после обычных бодрых слов приветствия и обещания быстрого и комфортного полета командир корабля забыл отключить микрофон, и все пассажиры услышали, как он с тревогой сказал, обращаясь ко второму пилоту: «Будет просто чудо, если эта старая галоша сегодня взлетит». Взлет научного или учебного образования всегда чудо, но чудо ожидаемое, дающееся не только мастерством водителей, но самим видением, предощущением, образом полета. Чиновники (от министерств или от науки – все равно) полет не видят, не чувствуют его напряжения и тех необыкновенных усилий, подвига, которыми он дается. И потому, расхаживая по учено-учебному учреждению, как по некоторой тверди, они без колебаний могут начинать отпиливать ненужные как излишества, на их взгляд, крылья или хвостовое оперение, и когда учебно-научная машина вследствие этого устремляется вниз, в пике, чтобы разбиться, уничтожиться, исчезнуть как единица, они часто не испытывают даже угрызений совести, ибо уничтожают то, смысл и сущность чего не видели, не чувствовали, не понимали…
Прибывший в ЦК из Ленинграда В. П. Кузьмин стал активно продвигать «своих людей». Так появились новые руководители основных психологических центров Москвы – Института психологии АН СССР, факультета психологии МГУ, Института общей и педагогической психологии АПН СССР. Последний держался дольше всех. С конца семидесятых Институт стал явным центром притяжения, культуротворческой силой. Директор и душа института В. В. Давыдов возглавил изучение психологии обучения, открыл ряд новых подразделений, в том числе отдел философских исследований, куда пригласил замечательных философов психологии – Ф. Т. Михайлова, Г. П. Щедровицкого, B. C. Библера, А. С. Арсеньева и др. В Институте проходили, ставшие знаменитыми, методологические семинары, циклы лекций М. К. Мамардашвили, Л. Н. Гумилева и других выдающихся ученых. В начале восьмидесятых Давыдову сфабриковали какие-то партийные грехи и после унизительных мытарств уволили из Института (1983). Вслед за ним «сократили» целый ряд сотрудников, в том числе отдел философии психологии в полном составе.