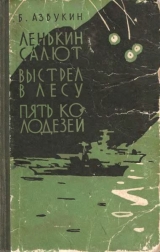
Текст книги "Ленькин салют"
Автор книги: Борис Азбукин
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)
XI
Прошло недели две. Новые радостные вести с фронта о прорыве блокады Ленинграда отодвинули и заслонили собой ночное новогоднее происшествие, и оно мало-помалу стало забываться. Ленька уверял, что старосте ничего не удалось выведать у ребят, и Женя была довольна, что все сошло благополучно.
Но не так все обстояло, как ей казалось. Придя как-то с работы, она занялась уборкой квартиры и стала протирать снаружи единственное сохранившееся в окне стекло. Вдруг послышался сильный рев мотора. Обычно так надрывно гудели грузовики, когда поднимались на Зеленую горку, преодолевая крутой подъем. Гул приближался, усиливался.
Улица самая дальняя, тупиковая, никакого движения транспорта на ней не было. Днем иногда пробегут мальчишки, пройдут пешеходы, а после пяти, как сейчас, – мертвым-мертво, разве что изредка прошмыгнет по дороге бездомная кошка. Появление машины после наступления комендантского часа всегда привлекало всеобщее внимание.
Женя, стояла у раскрытого окна и ждала. Вот из-за желтого выступа горы, наконец, показался высокий темный кузов с железной решеткой впереди над кабиной. Полицейский «черный ворон»!
За кем он? Кто очередная жертва тайных, доносов? Как и все в городе, она знала: кого увозила эта машина, тот не возвращался. Путь его был в полицейский подвал на Пушкинскую, а потом в противотанковый ров на Балаклавском шоссе или, в лучшем случае, в концлагерь, а оттуда на каторжные работы в Германию.
Машина пронеслась мимо крайних домишек и круто затормозила у развалин Ленькиной хаты.
Женя содрогнулась, припала к косяку окна и побелела. Неужели Ленька не слышит? Не выскочит? Впрочем, теперь уже ему не уйти.
Из машины высыпали жандармы и оцепили развалины, а офицер-эсэсовец, переводчик с собакой на поводке и староста, который последним вылез из кузова, подошли прямо к убежищу.
Только теперь, видимо, Ленька услышал топот сапог и выскочил из своей каменной конуры. На плече у него болтался стеганый ватник, который он не успел даже надеть. Ленька остановился у выхода и озирался, как затравленный зверек: все пути были отрезаны. Поняв, что ему не скрыться, он решил спасти своих пернатых друзей. Одним движением он сдернул сеть с клетки и свистнул. Два белых голубя взвились над дорогой.
Офицер и переводчик с собакой протиснулись в убежище, но вскоре вышли обратно и последовали за ищейкой, которая, обнюхивая землю, приближалась к развалинам хаты. Возле груды битого желтого ракушечника она остановилась.
Офицер крикнул, и жандармы принялись разбрасывать камни.
Женя видела, как из-под кучи ракушечнику они вытащили что-то завернутое в пеструю немецкую плащ-палатку. Все столпились вокруг, разглядывая находку.
Что они там нашли? Листовки? Быть не может, Ленька никогда их у себя не хранил. Неужели оружие?! При этой мысли Женя ужаснулась; во рту у нее пересохло, и она почувствовала, как холод сковывает сердце.

Два жандарма схватили Леньку и повели. Он упирался, пробовал вырваться, но споткнулся о камень и упал; его волоком потащили к машине и втолкнули в кузов. Последними сели в кабину офицер и староста.

«Ворон», сделав крутой разворот, помчался вниз и скрылся за глиняным выступом горы.
Улица опустела. Только два голубя беспокойно метались в небе, кружили, падали и поднимались и снова кружили над слободкой…
XII
Не лились больше песни, не звенел над Зеленой горкой задорный Ленькин голос. Слободка притихла, погрустнела, и Жене казалось, будто вынули из нее звонкую певучую душу.
Целыми днями два белых голубя метались над ней из края в край, точно высматривая, разыскивая кого-то.
Приходили ребята и бросали корм возле Ленькиного убежища. Птицы садились, клевали, и никто их не трогал, не покушался на них. Они снова взлетали в небо и кружили, кружили…
И мысли Жени метались, кружили. Тревожные, бередящие душу мысли. Что с Ленькой? Выстоит ли? Не запутался бы на допросе. Замучают его!
Только на следующий день утром она узнала от Ани, что жандармы нашли под камнями развалин обрез, револьвер, ракетницу и одну листовку. В тот же день она слышала в управе разговоры об аресте партизанского разведчика и что полиция ищет его сообщников.
Шли дни. Неизвестность томила, угнетала, пугала. И Женя, поговорив с Игорем, решила сходить в комендатуру что-нибудь разузнать. Но чтобы не навлечь на себя подозрение, она пошла вместе с Ленькиной тетей, выдав себя за ее дочь. Однако попытки добиться в комендатуре свидания или передачи и что-нибудь выведать о Леньке не имели успеха. Переводчик сказал, что доступ к арестованным партизанам категорически воспрещен.
Тогда Женя пошла прямо к полицейскому подвалу. На посту у ворот стоял толстомордый, с маленькими заплывшими глазками татарин Ахмет из отряда карателей. Несколько раз она пробовала заговорить с ним и выспросить о Леньке, но Ахмет либо отмалчивался, либо изрыгал похабные ругательства. Женя ушла ни с чем.
Однако она не теряла надежды. И сегодня утром отправилась на Пушкинскую, часа за полтора до того, как идти на работу в управу.
Несмотря на рань, у полицейского подвала толпились женщины, девушки со свертками и узелками для передач. Несколько человек стояли в очереди возле ворот – счастливчики; получившие пропуска на свидание. Остальные – неудачники, толпились на мостовой.
На этот раз Женя решила не обращаться к часовому и стала прохаживаться вдоль длинной стены подвала, потихоньку напевая «Раскинулось море широко». А вдруг Ленька услышит, откликнется?
Этот длинный подвал под разбитым снарядами серым двухэтажным домом немцы недавно отремонтировали, наделали десятка два бетонных клеток – общих и одиночных камер, в которые бросали арестованных. Несколько окошек, выходящих на улицу, наглухо были задраены досками. Возле одного из них стояла женщина и, опасливо оглядываясь на постового, переговаривалась с заключенным, даже не видя его.
Где-то в одной из этих холодных бетонных клеток томился и Ленька. Но где, в какой из них? Женя медленно двигалась по тротуару вдоль стены, как бы случайно задерживалась у окошек камер и, напевая, чутко прислушивалась. Дойдя до очереди у ворот, она поворачивала обратно. Иногда шум и говор стихали. Тогда она тоже умолкала и отходила от стены, но, убедившись, что охранник за ней не следит, двигалась дальше.
Несколько раз Женя прошла взад-вперед, а Ленька голоса не подавал. Быть может, он в камере, выходящей во двор? Но как туда проникнуть? Дать денег? Прошлый раз одна из женщин говорила, что за деньги охранники пускают во двор и даже разрешают переговариваться у окошек. Попытаться?
Но тут Жене почудилось, будто кто-то тихо поет. Да, это голос Леньки! И он пел ту же песню, что и она, пел где-то рядом. Женя подошла к крайнему окошку и окликнула.
– Я здесь, здесь… Погоди, я сейчас, – услышала она торопливый шепот. – Я бы и раньше… Но тут охранник ходил, боялся, – услышит.
– Ты один?
– Один.
В средней доске что-то скрипнуло, и Женя увидела, как темный овальный сучок вдруг провалился и Ленька прильнул к глазку.
– Теперь тебя вижу! – обрадовался он. – Я знал, что ты придешь… И завтра приходи обязательно…
– Приду, – Женя вспомнила, что завтра Ленькин день рождения, – обязательно приду. Как у тебя?
– Ничего они от меня не добились…
Ленька шептал торопливо, точно боясь, что не успеет все высказать. Говор толпы, шарканье ног на мостовой заглушали шепот, но по отдельным отрывочным фразам, словам Женя поняла, что следователь допытывается главным образом, кто пускал ракеты и где те партизаны, которые дали ему оружие и листовку.
– А ты что?
– Не перебивай, – торопился Ленька. – Я сказал: листовку нашел на дороге, оружие подобрал в окопах, а кто пускал ракеты, не знаю. Каждый день допрашивают и бьют… Постой, опять идет…
Он смолк и вставил сучок на прежнее место.
Женя чуть отодвинулась от стены и, не сводя глаз с окошка, ждала.
Бьют! Не имея достаточно улик, выколачивают признания! Она вспомнила, как одна из подруг, живущая рядом с полицией, говорила, что каждый день слышит ужасающие вопли и стоны истязуемых на допросах, а по ночам страшный гул моторов. Но даже бешеный рев машин, которые предусмотрительно заводились заранее, не могли заглушить крики людей, увозимых на расстрел. Жуть охватила Женю при мысли о том, какие страдания вынес Ленька за эти несколько дней. А что еще ему предстоит…
Но вот в доске скрипнуло, сучок выпал из своего, гнезда, и она снова слышит торопливый шепот:
– Ничего, что бьют. Выдержу… Пусть хоть удавят, ничего не скажу.
– Держись, Леня. Держись!.. Будь мужественным, – горячо прошептала Женя.
Топот ног, гул голосов опять заглушили Ленькин голоски она расслышала только его последний вопрос:
– Как мои голуби?
В эти минуты думать, беспокоиться о голубях! Как это похоже на Леньку. Женя постаралась успокоить его, рассказав о том, что ребята заботятся о птицах, кормят и оберегают их.
Несколько секунд Ленька молчал, а затем, вздохнув, сказал:
– Ты возьми их себе или Димке отдай, а то все равно постреляют.
И столько в этих словах было тихой грусти, безысходной тоски, что у Жени слезы выступили на глазах. Она хотела ободрить, обнадежить мальчика, но в это время часовой, заметив ее, разразился бранью и угрожающе вскинул автомат:
– Уйди. Стрелять буду.
Женя поспешила отскочить от подвала и скрыться в толпе.
Весь этот день она не находила себе места. Камнем давили сердце предчувствия. Мысленно она возвращалась к последней Ленькиной фразе.
Почему в его голосе было столько печали, мучительной грусти? Слова его о голубях прозвучали, как последняя просьба, как завещание. Или ему объявили, и он знает уже свою судьбу, но, боясь огорчить ее, не решился сказать страшную правду? Сказать, что никому – ни ей, ни матросам, ни Димке с Витькой, теперь не угрожает опасность провала, что он все-все взял на себя…
Но, быть может, она ошибается? Не все ведь еще потеряно. Его могут бросить в концлагерь, наконец, выслать в Германию, как высылают многих. Настанет день, и он обретет свободу, как и другие, томящиеся в неволе…
Утром она немного задержалась, укладывая в мешочек свой свитер, шерстяные носки, кое-что из еды и лакомство – кулек с сушеными фруктами. Она решила отдать охраннику все немецкие марки, что у нее были, лишь бы передать узелок и хотя бы этим порадовать Леньку. Ведь сегодня ему исполнилось пятнадцать лет!
День был выходной. Возле подвала посетителей было больше, чем в обычные дни, и очередь у ворот длинней. Женя подошла к окошку крайней камеры и, выждав, когда рядом никого из посетителей не оказалось, окликнула Леньку.
Но сучок в доске не проваливался, и Ленька не отзывался. Чтобы не привлечь внимания Ахмета, стоявшего у ворот, она затерялась в толпе, а спустя немного времени вернулась и снова дважды позвала. Но и на этот раз Ленька не подошел к окошку.
Почему он молчит? Или нынче он в другой камере? Напевая, она, как вчера, стала прохаживаться у стены по тротуару.
Прошло четверть часа, но Ленька и на песню не откликнулся. Женя решила попробовать проникнуть за ворота или на худой конец вручить передачу. Держа в руке деньги так, чтобы Ахмет мог их видеть, она подошла и спросила его, в какую камеру переведен Ленька.
Взгляд часового скользнул по ее руке. Не стесняясь других посетителей, он ловким привычным движением зажал деньги в кулаке и ответил:
– Нет твой Ленька. Он там, – Ахмет указал большим пальцем куда-то вверх через плечо.
– Где «там»? – не поняла Женя. – На допросе?
– Твой Ленька песни поет на Луна. – Ахмет расхохотался, довольный своей шуткой. – Нэ понымаешь? Его расстрелял. – Для большей выразительности он прижал к животу висевший на ремне автомат и повел им из стороны в сторону.
Женя покачнулась, как от удара, и отступила назад.
…Медленно брела она по улицам, спотыкаясь о камни, не сознавая, куда идет. Слезы застилали глаза, а ей казалось, солнце ослепило ее и тугой январский ветер пошатывает, мешает идти. Она не помнила, как очутилась на скамье бульвара у развалин панорамы. Взгляд ее блуждал по обломкам разрушенных стен и железной решетке купола, по голым деревьям и большой старой клумбе, заросшей сорняком, точно забытая могила, а неотступные горькие мысли не покидали ее, рвали душу на части.
Пятнадцать лет! Пора романтической юности, окрыленной мечты и высоких благородных стремлений служить народу; пора пробуждения самостоятельной мысли и возмужания. И вдруг все оборвано… Оборвано в самом начале, на пороге сознательной осмысленной жизни! Свастика, подобно удаву, обвивает стальными кольцами и душит, душит все живое, непокорное, губит тысячи юных, гордых, талантливых жизней. И все только за то, что они ищут новых неизведанных путей, хотят идти своей тропой, жить по-своему и петь песни, как хотел Ленька, для всех-всех людей на свете. Женя вспомнила тоскливо притихшую слободку, голубей, метавшихся в небе, последнюю Ленькину просьбу, и слезы потекли по ее запавшим щекам, а губы беззвучно шептали:
– Ах Ленька, Ленька! Милый синеглазый певун! Не петь тебе больше песен… не пускать голубей…
* * *
Друг мой, юный читатель! Будешь бродить по севастопольским холмам – загляни и на Зеленую горку к старожилам слободки. И, хотя минуло уже двадцать лет, много хорошего вспомнят они и расскажут тебе о пионере Лене Славянском и его вожатой Жене Захаровой.
Той же весной, в дни провала подполья, жандармы схватили и Женю. В начале апреля, когда в садах и на Язоновском редуте буйно цвел миндаль, Женя с товарищами была расстреляна в том же противотанковом рву, что и Леня.








