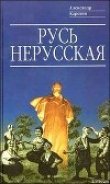Текст книги "Смерть в рассрочку"
Автор книги: Борис Сопельняк
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 37 страниц)
А пока что судьи вернулись с совещания и огласили приговор:
«Кольцова-Фридлянд Михаила Ефимовича подвергнуть высшей мере уголовного наказания – расстрелу с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит».
Здесь же, в деле № 21 620, подшита скромненькая справка, подписанная помощником начальника 1-го спецотдела НКВД СССР старшим лейтенантом Калининым:
«Приговор о расстреле Кольцова Михаила Ефимовича приведен в исполнение 2 февраля 1940 года».
И – все! Человека не стало… Но вот что самое удивительное: даже мертвый, Михаил Ефимович не давал покоя ни партии, ни правительству. Так случилось, что в конце января 1940-го у Бориса Ефимова не взяли деньги, которые он передавал брату, и сообщили, что дело Кольцова следствием закончено. Тот заметался, хотел нанять адвоката, написал об этом Ульриху, а потом, будучи в полной панике, прямо с Центрального телеграфа отправил телеграмму Сталину.
Ответа, конечно же, не было, и Ефимов просто так, на всякий случай, заглянул в канцелярию Военной коллегии.
– Кольцов? Михаил Ефимович? – раскрыл толстенную книгу дежурный. – Есть такой. Приговор состоялся первого февраля. Десять лет заключения в дальних лагерях без права переписки.
А вскоре на квартире Ефимова раздался телефонный звонок, и ему сообщили, что его готов принять Ульрих. Не буду рассказывать об этой странной встрече – она довольно красочно описана в воспоминаниях Бориса Ефимова, отмечу лишь два характерных нюанса. Первое, что меня поразило, так это какое-то болезненное иезуитство Ульриха: Кольцов уже расстрелян, его тело сожжено в крематории, а судья зачем-то беседует с его братом, рассказывает, как проходил процесс, подтверждает, что Михаил Ефимович получил десять лет без права переписки…
И второе. То, что сболтнул Ульрих, дорогого стоит, ибо, если так можно выразиться, ставит все точки над «i». Когда Ефимов поинтересовался, признал ли брат себя виновным, Ульрих ответил:
– Послушайте. Ваш брат был человеком известным, популярным. Занимал видное общественное положение. Неужели вы не понимаете, что если его арестовали, значит, на то была соответствующая санкция!
Яснее не скажешь… Вот что значит один недовольный взгляд «хозяина», вот что значит показаться ему «слишком прытким».
Но и это не конец грустной и трагической истории совсем недалекого прошлого. Одну пулю палачи уже использовали, вторую же только отливали – ведь Мария Остен пока что была на свободе. Она не послушалась мужа и, узнав из парижских газет об аресте Кольцова, которого обвиняют в том, что он является шпионом нескольких иностранных разведок и, в частности, связан с германской шпионкой Марией Остен, решила, что одним своим появлением в Москве опровергнет эту чудовищную ложь. Ее отговаривали, пугали, но она была тверда – и вскоре вместе с маленьким Иосифом появилась в Москве.
Вначале это прошло незамеченным. Но Мария развила такую активную деятельность, что на нее обратили внимание, тем более что она не только пыталась узнать, что с Кольцовым, но даже подала бумаги с просьбой о предоставлении советского гражданства. Так прошел 1939-й, наступил 1940-й, а Мария все бегала по кабинетам. И – добегалась…
Передо мной дело № 2862 по обвинению Остен-Грессгенер Марии Генриховны. Знаете, когда оно начато? 22 июня 1941 года. Представляете, фашистская авиация бомбит наши города, танковые клинья утюжат деревни, моторизованные колонны немецкой солдатни расстреливают все живое, но народному комиссару государственной безопасности Меркулову и его последышам не до этого – у них свое кровавое дело. Вместо того чтобы писать рапорты с просьбой немедленно отправить на фронт, они спешат подписать постановление об аресте и без того несчастной, беззащитной женщины.
Через день доблестные чекисты с наганами на изготовку врываются в 558-й номер «Метрополя», где проживает враг народа в женском обличье, переворачивают все вверх дном, изымают в пользу государства один сарафан, две пары трусов, одну пару туфель, пять носовых платков, а хозяйку этого имущества отправляют во Внутреннюю тюрьму.
Обвинения, которые были предъявлены Марии, настолько нелепы, что просто диву даешься, как можно было принимать их всерьез. Судите сами. Марии заявили, что она является германской и французской шпионкой одновременно. Франция находится в состоянии войны с Германией, больше того, Франция побеждена и наполовину оккупирована, а Мария Остен поставляет Франции разведданные о Германии, а Германии – о Франции. Само собой разумеется, что обе страны получают секретную информацию о Советском Союзе. Основанием для такого рода обвинений стали показания уже арестованных «агентов иностранных разведок» Болеславской-Вульфсон и Литауэр.
Как и положено, в деле имеется анкета арестованного, заполненная самой Марией. В графе «состав семьи» она упоминает отца, мать, сестру, приемного сына Иосифа, но почему-то пишет, что она незамужняя. Почему? Скорее всего, потому, что не хотела компрометировать Кольцова. Ведь в загсе они не были и жили в так называемом гражданском браке, а это давало ей право считать себя для Кольцова чужим человеком, за которого она не несет никакой ответственности. А раз она чужой человек, то никто не сможет ему сказать: сам шпион и жена шпионка – одного поля ягоды.
Первый допрос, состоявшийся 25 июня, был очень коротким, но Мария успела сообщить, что в Москве живет по виду на жительство для лиц без гражданства, что с 1926 по 1939-й была членом германской компартии, что с Михаилом Кольцовым познакомилась весной 1932 года в Берлине, когда он был в гостях у немецкого режиссера Эрвина Пискатора.
На следующий день, видимо, боясь, что ее освободят соотечественники, Марию этапируют в Саратов, и ее дело принимает к своему производству лейтенант Жигарев. Этот следователь решил не ходить вокруг да около, а сразу взял быка за рога.
– Признаете ли вы себя виновной? – спросил он на первом же допросе.
– Нет, не признаю, так как шпионской деятельностью не занималась.
– Вы лжете! Следствие располагает достоверными, материалами о ваших шпионских связях.
– Мне не о чем говорить, – обезоруживающе улыбнулась Мария. – Понимаете, не о чем.
– Прекратите лгать! Назовите соучастников!
– Никаких соучастников у меня не было, – вздохнула Мария.
Тогда лейтенант зашел с другой стороны:
– Что вам известно об антисоветской работе Кольцова?
– Ничего! – отрезала Мария и почему-то радостно улыбнулась.
Следователь ничего не понял и зарылся в бумаги. А Мария ликовала!
«Раз спрашивают о Михаиле, значит, он жив, – думала она. – Жив! Господи, как же я рада. Значит, дадут ему лет десять-пятнадцать, мне – тоже, а где-нибудь в Сибири мы встретимся. Мы обязательно встретимся. Так что эту волынку надо заканчивать, и как можно быстрее». Поэтому на требование следователя приступить к даче правдивых показаний о ее вражеской деятельности Мария, все так же улыбаясь, ответила:
– Я прошу следствие помочь мне разобраться в совершенных преступлениях, так как я сейчас не знаю, что совершила вражеского против Советского Союза.
А потом пошли рутинные допросы с уточнением имен друзей и знакомых, дат и городов, где происходили встречи, требованиями вспомнить, кто, что и о ком сказал… Время от времени следователь возвращался к Кольцову и просил рассказать, каким он был в быту и на работе, какую оказывал помощь в чисто творческих вопросах, что писал сам и что писала Мария. Она отвечала, что в быту Кольцов был мягким человеком, любил ходить в рестораны, вращаться предпочитал в писательско-артистической среде.
– А зачем вы все-таки приехали в Москву? Ведь вы же знали, что Кольцов арестован.
– Потому и приехала. Я не могла не приехать, это надо было сделать для очищения своей совести и для того, чтобы реабилитировать себя перед друзьями.
– О какой реабилитации речь? Ведь вы же порвали связь с Кольцовым еще в 1936 году.
– Мы прервали интимные отношения, но остались большими друзьями. Он писал мне письма, помогал в работе, я посылала ему свои рассказы, а он давал им оценку – и вообще, он учил меня писать.
Вскоре допросы прекратились – верный признак, что следствие по делу Марии близится к завершению. 6 декабря 1941 года ей было предъявлено обвинительное заключение. И хотя следователь отметил, что «в предъявленном обвинении Остен виновной себя не признала», он рекомендовал определить ей высшую меру наказания.
А потом была какая-то странная пауза: то ли Особое совещание было загружено такого рода делами, то ли ощущалась нехватка патронов – за это время немцы подошли к Сталинграду, но дело Марии Остен рассматривалось лишь 8 августа 1942 года. Приговор: «Остен-Грессгенер Марию Генриховну за шпионаж расстрелять». 16 сентября приговор был приведен в исполнение. Так была выпущена вторая пуля, поразившая еще одно любящее сердце.
* * *
Михаил Кольцов и Мария Остен… Две трагических жизни, две трагических судьбы. Никто не знает, какими мучительными были последние минуты их жизни, но ни секунды не сомневаюсь, что в самое последнее мгновенье Михаил попрощался с Марией, а Мария – с Михаилом. А это верный залог, что в той, другой жизни они снова будут вместе – теперь уже навсегда.
ПОСЛАНЕЦ КОСМОСА В ПОДВАЛАХ ЛУБЯНКИ
Тихая, полусонная Калуга оказалась в стороне от революционных бурь и потрясений – во всяком случае, здесь не было восстаний, мятежей, уличных боев и массовых расстрелов. Но не было в России более или менее просвещенного человека, который бы не знал об этом городе. И вот что удивительно: славу Калуге принес не родовитый вельможа, не богатый купец, не великий писатель, а скромный учитель женского епархиального училища. Его статьи публиковались в самых популярных журналах, его книгами зачитывались гимназисты, студенты и седобородые ученые, его идеи повергали в шок и побуждали к подвигам инженеров, авиаторов и конструкторов летательных аппаратов.
«Земля мала, земля тесна, земля засорена – вперед, к другим планетам! Жизнь вечна, смерти нет, есть лишь мыслящий атом, который всегда был и всегда будет. Мозг и душа бессмертны! Высочайшая радость жизни есть радость любви! Причина всех бед – скудость мира и наших идей.
Если бы были отысканы гении, то самые ужасные несчастья и горести, которые кажутся сейчас неизбежными, были бы устранены. Нет ничего выше сильной и разумной воли! Каждое существо должно жить и думать так, как будто оно всего может добиться рано или поздно. Космос переполнен жизнью, даже высшею, чем человеческая!»
Согласитесь, что эти мысли не могли не стать привлекательными на фоне всякого рода революционных учений, призывающих к насилию, террору, захвату власти, экспроприации собственности и т. п. Впервые в России кто-то заговорил о Вечном, о Космосе, о Вселенной. Так надо ли удивляться, что многие всерьез считали: эти мысли не могли родиться в голове рядового провинциального учителя Константина Эдуардовича Циолковского, он лишь передаточное звено, он – Посланец Космоса, он – Голос Вселенной. И хотя ни одна из его научных идей не была реализована при жизни – не взлетел цельнометаллический дирижабль, не поднялся многофюзеляжный аэроплан, не стартовала ракета для межпланетных сообщений – его неординарные разработки были известны всем образованным людям, и многие верили, что вот-вот они будут претворены в жизнь.
Ведь построил же Константин Эдуардович первую в России аэродинамическую трубу! А патенты на способ соединения гладких металлических листов с целью сооружения дирижабля изменяемого объема! Их Циолковский получил в Австрии, Англии, Германии, Бельгии, Италии и Франции, а там не дураки и просто так патенты раздавать не станут. Да и Генеральный штаб русской армии не будет из чистого любопытства интересоваться возможностями постройки дирижабля системы Циолковского: в одной газете даже появилась статья о его проекте переброски наших войск на Дальний Восток в период русско-японской войны.
Возникал вопрос: раз реализованы эти, на первый взгляд фантастические идеи, то почему не могут быть реализованы другие? Что бы там ни было, а поклонников и почитателей у Константина Эдуардовича было великое множество. Их стало еще больше после величайшей диверсии первой мировой войны – поджога «Цеппелинов» на Альхорнском аэродроме Германии.
Но сперва немного истории… В 1887 году на заседании Общества любителей естествознания, состоявшемся в Политехническом музее, выступил Циолковский. Тема его доклада была сенсационной: он представил расчеты металлического транспортного дирижабля. Это выступление стало возможным только потому, что в город Боровск, где жил тогда Циолковский, случайно забрел известный русский изобретатель в области телефонной связи Павел Михайлович Голубицкий. Вот что пишет об этой встрече сам Павел Михайлович:
«Я познакомился с Циолковским в г. Боровске, куда случайно попал несколько лет тому назад, и крайне заинтересовался рассказами туземцев о сумасшедшем изобретателе – Циолковском, который утверждает, что наступит время, когда корабли понесутся по воздушному океану со страшной скоростью, куда захотят. Я решился навестить изобретателя. Первые впечатления при моем визите привели меня в удручающее настроение – маленькая комната, в ней небольшая семья; муж, жена, дети и бедность из всех щелей помещения, а посреди его разные модели, доказывающие, что изобретатель немножко тронут: помилуйте, в такой обстановке отец семейства занимается изобретениями… Однако ж если бы люди никогда не занимались подобными «пустяками», то у нас не было бы ни пароходов, ни железных дорог, ни телеграфа, ни других изобретений, которыми облагодетельствовано человечество.
Беседы с Циолковским глубоко заинтересовали меня… Через несколько времени мне удалось видеть профессора Московского университета Александра Григорьевича Столетова, которому я рассказал о Циолковском. Благодаря Столетову для Циолковского создались условия, которые дали ему возможность прочесть несколько сообщений в Москве в научных и технических собраниях, напечатать свои работы и перейти из уездного города Боровска в Калугу учителем уездного училища».
А теперь вернемся к докладу в Политехническом музее. Расчетами Циолковского заинтересовались руководители Седьмого воздухоплавательного отдела Русского технического общества. После всестороннего ознакомления с проектом председатель этого общества Е. С. Федоров отметил, что «…расчеты г. Циолковского произведены вполне правильно и весьма добросовестно, но подобные аэростаты вряд ли могут иметь какое-либо практическое значение, хотя и очень много обещают с первого взгляда; ходатайство о субсидии на постройку модели отклонить».
И отклонили… Одной из главных причин было то, что тогда не существовало технологии сварки гладких металлических листов. Но работа Циолковского была опубликована и стала широко известна. К тому же автор не сложил рук и через несколько лет разработал свою собственную технологию сварки этих листов.
Замечу, что первыми перспективность этой идеи оценили в Германии, и в Германии же выдали первый патент на изобретение. Это произошло в 1909 году. Потом, как я уже говорил, были Англия, Франция, Италия и другие страны. Россия, как это ни странно, изобретение признала последней и патент выдала лишь через два года.
Думаю, что заинтересованность Германии в идеях Циолковского была далеко не случайной – ведь именно в это время известный немецкий конструктор граф Цеппелин разрабатывал конструкцию своего дирижабля с металлическим каркасом. Расчеты Циолковского были неоценимым подспорьем в этой кропотливой работе.
К началу Первой мировой войны Германия имела одиннадцать «Цеппелинов», каждый из которых мог поднимать не менее десяти тонн груза. Вооруженные артиллерийскими орудиями, пулеметами и бомбами, к тому же поднимающиеся на недосягаемую для самолетов высоту, они представляли грозную военную силу. За годы войны немцы построили еще восемьдесят «Цеппелинов». Нетрудно представить, сколько неприятностей причиняла войскам Антанты эта воздушная армада.
В январе 1918 года англичанам стало известно, что немцы подготовили операцию по прорыву британской морской блокады. Ключевую роль в этой операции должны были сыграть «Цеппелины». И тогда англичане нанесли удар в спину: они заслали диверсионную группу, которая должна была поджечь ангары. Ранним утром 5 января загорелся ангар № 1, а через минуту начались взрывы в четырех других. Гигантское пламя охватило весь аэродром – ведь в ангарах были емкости с водородом, которым наполнялись дирижабли. От этого удара немецкое дирижаблестроение так и не смогло оправиться.
Впрямую имена Циолковского и Цеппелина никто не связывал, но все помнили, что первой изобретение Константина Эдуардовича признала и запатентовала Германия. Почему? Не из альтруистических же соображений! Значит, расчеты Циолковского были верны и конечно же переданы графу. Ну а то, что для уничтожения материализованных результатов этих расчетов понадобилась диверсионная операция, еще раз подтверждает их верность и безусловную перспективность.
Пророк в своем отечестве снова не был признан. Увы, но в России так было, есть и, наверное, так будет всегда.
То, что произошло с Константином Эдуардовичем полтора года спустя, вполне возможно, связано с историей на Альхорнском аэродроме. А произошло с ним огромное несчастье, которое могло закончиться трагически: в ноябре 1919 года Циолковский оказался на Лубянке.
Слухов об этой истории немало, да и сам Константин Эдуардович упоминал о своем пребывании в «Чрезвычайке», но написал он об этом очень кратко и, я бы сказал, туманно.
И вот восемьдесят лет спустя дело № 1096 по обвинению Циолковского Константина Эдуардовича в моих руках: мне посчастливилось быть первым, кто прикоснулся к этим бесценным страницам. Первое, что поражает, это прекрасная бумага, на которой велись протоколы. А почерк, чего стоит красивый, каллиграфический почерк! И чернила были замечательные – сколько лет прошло, а текст сохранился блестяще.
Чтобы передать дух того времени, я решил сохранить орфографию и весь стиль письма протоколов, показаний, донесений и других документов, хранящихся в папке.
Начато дело Циолковского 20 ноября 1919 года. Открывается оно весьма странным и, я бы сказал, загадочным документом. Называется он «Точные пополнения к докладу сотрудников Особого отдела 12-й армии т. Кошелева и т. Кучеренко».
Кошелев и Кучеренко не просто сотрудники Особого отдела, они – разведчики, засланные в стан врага. Им удалось так глубоко внедриться в деникинские ряды, что они стали сотрудниками их разведки. Рассказав о том, что они видели и с кем общались, Кучеренко далее пишет:
«В г. Киеве мне и Петрову было сказано начальником разведки князем Галицыным-Рарюковым, чтобы не ходить и не собирать сведения по фронтам и не подвергать себя опасности, а обратиться по адресу: г. Калуга, ул. Коровинская 61, спросить Циолковского. Пароль: «Федоров-Киев». Циолковский среднего роста, шатен, в очках, большая борода лопаткой.
В Калуге должен быть штаб повстанческих отрядов спасения России. Циолковский должен сказать адреса пунктов, находящихся в Москве, где и должны давать полные и точные сведения о положении дел на фронте и красных войсковых частях».
Вот так-то… Князь бережет своих агентов, не хочет подвергать их опасности и считает, что они куда больше узнают от Циолковского. В ЧК сведения доставлены из надежного источника и надежными людьми, адрес и пароль названы начальником разведки Добровольческой армии. Что должны делать в этой ситуации чекисты? Одни скажут, что по законам военного времени Циолковского надо немедленно арестовать, другие – установить наблюдение и организовать засаду…
Но чекисты пошли другим путем. Они знали, кто такой Циолковский, знали о диверсии на Альхорнском аэродроме, знали и о том, что несмотря на поражение, Германия пытается возродить дирижаблестроение, разумеется, пока что в мирных целях. В этой ситуации Циолковский для немцев находка. И самое главное, чекистам было известно об активных контактах военного министра в правительстве Петлюры, а им был немецкий офицер фон Стайбле, с Галицыным-Рарюковым. Чуть позже выяснилось, что имя Циолковского оказалось в записной книжке князя.
Как оно туда попало? Знакомы они не были – это точно. И воздухоплаванием князь не интересовался. Значит, кто-то это имя назвал. Кто, зачем? Может быть, фон Стайбле? Не исключено. Другой вариант: Циолковский резидент германской разведки. Едва ли, в его переписке нет ничего, кроме развития идей дирижаблестроения. А вдруг Циолковский глубоко законспирированный руководитель повстанческих отрядов? Сомнительно… Хотя его авторитет велик, к его словам прислушиваются. Не раз выступал против гражданской войны, категорический противник смертной казни. Вожди учат, что революции без крови не бывает, а он призывает прекратить кровопролитие. Но раз он против крови, значит, против революции – это аксиома!
И почему это при царе он чуть ли не на всех углах кричал: «Основной мотив моей жизни: сделать что-нибудь полезное для людей, не прожить даром жизнь, продвинуть человечество хоть немного вперед» – и ничего подобного не говорит сейчас? Ясно же, что продвинуть человечество вперед можно только с партией большевиков, а он вне партии. Почему? И почему его выперли из Социалистической академии общественных наук, членом которой он состоял? Скорее всего, из-за составленного им проекта идеального общественного строя, который совершенно не похож на проект, разработанный вождями победившего пролетариата.
Так что старик он непростой, дно там может быть и двойное, и тройное. И в ЧК принимают решение провести проверку Циолковского, причем настолько жесткую, коварную и, не боюсь этого слова, бесчеловечную, что только чудом можно объяснить, почему Циолковский не был расстрелян. К проверке методом подставки были привлечены разведчик Молоков и комиссар Поль: Молоков должен был изображать деникинского офицера, а Поль в нужный момент арестовать Циолковского.
Отчет Молокова, длинный и путаный, в деле сохранился полностью. Написан он довольно безграмотно, поэтому вместо «я сказал» и «он сказал» я переведу этот отчет в форму диалога.
Итак, отчет разведчика Молокова.
«14 ноября вместе с т. Полем я выехал в Калугу. 16 ноября отправился по указанному мне адресу на Коровинскую, 61. Стучусь. Отворяет молодая женщина, завернувшаяся в плед.
– Здесь живет Циолковский? – спросил я.
– Да, здесь.
– Можно его видеть?
– Пожалуйста, проходите. Я сейчас скажу.
Иду за ней по коридору. Входим в помещение. Небольшая комната, справа лестница наверх.
– Как о вас сказать Циолковскому?
– Скажите, что я Образцов.
Поднявшись на самый верх, женщина говорит:
– Папа, вас хочет видеть господин Образцов.
– Сейчас, – слышится голос старика. – Я не одет. Да зови его сюда!
Поднимаюсь наверх. Навстречу выходит мужчина среднего роста, несколько сгорбившись. Темные волосы с большой проседью в голове и борода лопаткой. Правда, без очков, но с чуть заметными следами от них на носу. Он на ходу подвязывает веревкой старое пальто, которое надел поверх теплого нижнего белья. Рекомендуюсь:
– Я Образцов, – и добавляю данный мне пароль: – «Федоров-Киев».
– Я плохо слышу, – засуетился старик. – Сейчас возьму трубку.
Берет слуховую трубку и вставляет в левое ухо. Я ему говорю:
– «Федоров-Киев».
– Как! – удивленно восклицает он. – Вы Федоров?
– Нет, я Образцов. Но прибыл из Киева.
– А-а, так вы, значит, знаете Федорова. Рад вас видеть, садитесь, – похлопал он меня по плечу. – У меня холодно. Но я сейчас затоплю печку, потеплеет, и тогда мы поговорим.
Пока он растапливает чугунку, я осматриваю комнату. Она небольшая, в два окна на реку, по стенам жестяные модели дирижаблей в разрезе, на столах и полках книги, брошюры, рукописи, на одном из столов электрическая машина, а рядом с ней станок для работ по жести.
Затопив печку, Циолковский усаживается поближе, берет слуховую трубку и начинает говорить.
– Итак, вы знаете Федорова и интересуетесь воздухоплаванием. С удовольствием поговорю с вами и сообщу все, что вас интересует.
– Благодарю вас. Я, конечно, интересуюсь воздухоплаванием как делом, имеющим большое будущее в жизни человечества, но в данное время у меня другая миссия, которую я должен выполнить прежде всего. Я послан из Киева начальником разведывательного пункта князем Галицыным-Рарюковым с тем, чтобы получить нужные сведения о Восточном фронте, о тех намерениях и задачах, которые думают предпринять на нем большевики. От вас я должен получить указания, к кому я могу обратиться в Москве, чтобы добыть нужные мне сведения.
– Я вас не совсем понимаю. Я ученый, интересуюсь наукой, в частности воздухоплаванием, политических же сведений дать вам не могу, ибо стою далеко от политики. А связи с Москвой у меня если и были, то чисто делового, научного характера – главным образом по изобретению дирижабля. Если хотите, покажу переписку; которую я вел.
– Спасибо. Но мне нужны адреса лиц, которые стоят близко к интересующему меня вопросу, ибо это очень важно для нашего дела в борьбе с большевиками.
– Я очень сожалею, что не могу помочь вам, но повторяю, что если и имел сношения с Москвой, то сугубо научного характера. Я удивляюсь, как вас могли послать ко мне.
– Я сам поражен и глубоко возмущен, что меня послали сюда. Перед отправкой я пошел к князю и в приемной встретил Федорова, который сказал мне, что для вас есть большой важности дело, и дал пароль.
– Неужели все это устроил Федоров? Я всегда думал, что он легкомысленный человек. Помимо переписки по поводу моего дирижабля, я с ним ничего не имел. И лично его никогда не видел. Насколько мне известно, во время войны он был офицером-летчиком. После взятия Киева большевиками он мне писал, что очень недоволен порядками, которые установили большевики. Как хоть он живет?
– Хорошо. Мы там не голодаем и не холодаем, недостатка ни в чем не испытываем. Не то что здесь…
– Да, это проблема. Теоретически я согласен с социалистическими идеалами, но на практике с большевиками расхожусь и в данное время не имею ничего против монархии – лишь бы миновали ужасы голодной и холодной жизни. Я ведь был членом Социалистической академии, но теперь вышел. Мне даже предлагали переехать в Москву, но я отказался. Проводимые аресты, конечно же, возмутительны. А жизнь в республике не налаживается потому, что всем управляет молодежь, не имеющая ни опыта, ни знаний.
Вскоре подали чай. Пошел разговор о ситуации на фронте, о помощи, оказываемой белогвардейцам англичанами, о дирижабле грузоподъемностью в 600 человек, который он предложил построить советскому правительству, причем в сугубо мирных целях.
Когда я собирался уходить, он проводил меня до двери и, похлопав по плечу, пожелал успехов и тихо добавил:
– Мы считаем вас своими спасителями.
На следующий день я снова зашел к Циолковскому. Поднявшись наверх, я сказал:
– Боюсь, что вчера вы мне не совсем доверяли. Я решил зайти снова и показать документ, удостоверяющий что я являюсь агентом разведывательного пункта Добровольческой армии. Вчера он был спрятан в сапоге под стелькой, а теперь я его достал.
– Нет-нет, я вам верю. Я вчера и с дочерьми разговаривал, и мы пришли к заключению, что вы действительно оттуда. Ведь это заметно.
Но документ он прочитал и еще раз пожалел, что ничем не может помочь. В это время снизу раздался голос жены Циолковского.
– Константин, еще гости.
Оказывается, явился тов. Поль с уполномоченными от местной ГубЧК.
– Вы Циолковский? – спросили они.
– Да, я.
Тут тов. Поль заметил меня, и я дал знак, чтобы он поднялся наверх. Когда он поднялся, я сказал, чтобы меня тоже арестовали.
– А кто вы такой? – громко спросил тов. Поль.
– Я из Москвы, фамилия моя Молоков, – протянул я паспорт.
– Вы это подтверждаете? – обратился тов. Поль к Циолковскому.
– Я вижу его в первый раз, а прибыл он по поручению Федорова.
Потом нас отвели в ГубЧК. Через некоторое время, якобы для выяснения моей личности, меня отвели в другую комнату и освободили».
На этом отчет провокатора заканчивается. Сделав свое дело, он двинулся по служебной лестнице дальше.
А в доме Циолковского полным ходом шел обыск. В дело подшит ордер № 109, на основании которого перетряхнули весь дом. Весьма любопытен текст этого документа.
«Поручается товарищу Рыбакову произвести обыск, ревизию, выемку документов и книг. В зависимости от обыска задержать гр. Циолковского и реквизировать или конфисковать его товары и оружие».
Задержали, а вернее, арестовали Константина Эдуардовича, еще до обыска. Слава Богу, дома была жена и дети, а то ведь ничего не стоило подбросить револьвер и пару гранат, а потом пришить Циолковскому обвинение в организации террористической группы. Но его дочь Люба была опытна в такого рода делах, недаром еще в царское время сидела в «Крестах», так что продолжения провокации она не допустила.
19 ноября Константин Эдуардович уже был на Лубянке: регистрационный листок Особого отдела МЧК составлен именно в этот день. Кроме фамилии, образования, национальности, происхождения – кстати, из дворян, – зачем-то внесены приметы Циолковского: роста среднего, походка качающаяся, нос длинный, глаза серые, волосы седые, голос глухой. Выяснилось также, что отец Циолковского перебрался в Россию из Польши, в Петербурге окончил Лесной межевой институт, работал в Рязанской губернии, там же женился на дочери помещика Юмашева, которая была полутатарских кровей.
Когда спросили о детях, Константин Эдуардович разрыдался. Ведь буквально на днях в страшных мучениях от заворота кишок умер его младший сын Иван. Старшего, Игната, от потерял еще в 1902-м: будучи студентом Московского университета, он покончил с собой, отравившись цианистым калием. Трудно сказать, за какие грехи расплачивался Константин Эдуардович, но через несколько лет покончит с собой и средний сын – Александр. Совсем молодой умрет от туберкулеза младшая дочь Анна.
А потом Циолковского отправили в камеру, причем – в общую, так что насмотрелся он всякого. Отсюда уводили на допросы и расстрелы, здесь выясняли отношения и умирали, просили передать последнее «прости» и отнимали тюремную пайку. Как старый, больной человек это выдержал, одному Богу ведомо…
И вот, наконец, первый допрос. Состоялся он 29 ноября, и проводил его следователь Ачкасов. Этот человек с самого начала вел себя довольно подло. Скажем, он ни словом не обмолвился о том, что о судьбе Циолковского беспокоились и активно хлопотали не какие-то частные лица, а целые организации. Он даже не подшил в дело протокол заседания правления профсоюза работников просвещения, которое состоялось 22 ноября 1919 года. А там черным по белому написано: