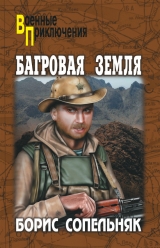
Текст книги "Багровая земля (сборник)"
Автор книги: Борис Сопельняк
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
А потом Лариса попала на праздник. Как ни странно, это была очередная годовщина Великого Октября. Оказывается, Аманулла-хан, в знак уважения к Советской России и ее заслугам в деле освобождения Афганистана, повелел считать 7 Ноября государственным праздником.
«Лошади бросаются в сторону от барабанного боя, южный ветер полощет бесчисленные флаги, в том числе и красный РСФСР, словом, праздник в полном ходу. Но к смиренному ротозейству толпы племена сумели прибавить так много своего, героического и дикого, что этот казенный праздник действительно стал народным, – восторженно пишет Лариса. – Их позвали плясать перед трибуной эмира – человек сто мужчин и юношей, самых сильных и красивых людей границы, среди которых голод, английские разгромы и кочевая жизнь произвели тщательный отбор. Из всех танцоров только один казался физически слабым, но зато это был музыкант, и какой музыкант! В каждой клеточке его худого и нервного тела таился бог музыки – неистовый, мистический, жестокий.
Этот танец – душа племени. Пляска бьется, как воин в поле, умирает, как раненый, у которого грудь разорвана пулей того сорта, что в Пенджабе и Малабаре бьет крупного зверя и – повстанцев. Они танцуют не просто войну, а войну с Англией.
Таков танец, но еще богаче и смелее песня. Племя садится в круг, прямо на земле. Лучший певец, стоя в середине, поет стих, и барабанщик его сопровождает тихой, щекочущей дробью. “Англичане отняли у нас землю, – поет певец, – но мы прогоним их и вернем свои поля и дома”.
Все племя повторяет рефрен, а английский посол сидит на пышной трибуне, бледнеет и иронически аплодирует. Тысячи глаз следят за англичанами: вокруг певцов стена молчаливых, злорадно улыбающихся слушателей. “К счастью, не все европейцы похожи на проклятых инглизи, – подливает масла в огонь певец, – есть большевики, которые идут заодно с мусульманами”.
И толпа смеется, рокочет, теснится к трибунам».
Если эти строки написаны восторженной поэтессой, то ее впечатления от встреч с Амануллой-ханом носят отпечаток наблюдений женщины-политика. «Эмир всегда неспокоен в присутствии англичан. Их белые шлемы, их непринужденные манеры, в которых чудится презрение господ, не стесняющих себя в присутствии людей низшей расы – всё злит Амануллу. Его лоб горит. Сбросив каракулевую шапочку, эмир надевает соломенную шляпу местного производства.
У придворных кислые лица. Властелин, с которым вообще шутки плохи, содрал с них новенькие европейские костюмы, заставил облечь жирные, трепещущие складками животы в колючую и толстую ткань, вырабатываемую первой, и пока единственной, кабульской фабрикой.
Покончив с френчами и галифе, властелин принялся за старинное невежество своей страны. У эмира Амануллы-хана огромный природный ум, воля и политический инстинкт. Несколько столетий назад он был бы халифом, мог бы разбить крестоносцев в Палестине, опустошить Индию и Персию и умереть, водрузив полумесяц на колокольнях Гренады и Царьграда. В наши дни, затиснутый со своей громадной волей между Англией и Россией, Аманулла становится реформатором. Но цивилизация и прогресс, как это ни странно, используются им как орудие, которое должно быть обращено именно против враждебной европейской культуры и цивилизации.
В маленьких восточных деспотиях все делается из-под палки. При помощи этой палки Аманулла-хан решил сделать из своей бедной, отсталой, обуянной муллами и взяточниками страны настоящее современное государство, с армией, пушками и соответствующим просвещением. К сожалению, эмир, при всем его врожденном уме и при огромных способностях, выделяющих его из среды упадочных династий Востока, сам не получил правильного образования и не имеет полного представления о европейских методах воспитания».
Такая информация дорогого стоила, и в Москве ее оценили по достоинству, но просьбу Ларисы об отзыве Раскольникова из Кабула не удовлетворили. А Лариса к этому времени насытилась по самое некуда таинственным и диким Востоком и всеми силами рвалась домой. Когда стало ясно, что мужа не отзовут, весной 1923 года она из Кабула, в буквальном смысле слова, сбежала. Раскольникову же успела шепнуть, что в Москве обратится к наркому Чичерину, а если не поможет, то к Троцкому, и добьется возвращения мужа в Москву.
Не трудно представить, с каким нетерпением Раскольников ждал каждую новую почту! И дождался. Вместо приказа Наркоминдела об отзыве из Афганистана он получил письмо Ларисы с просьбой о разводе. «Ни за что! – телеграфировал Раскольников в Москву. – Кто может быть тебе так безгранично предан, кто может любить так бешено, как я?!» Ответ был ошеломляющ: «Я полюбила другого».
Если бы Раскольников знал, к кому ушла от него Лариса, он бы, наверное, расхохотался, как хохотала и недоумевала вся Москва. Бросить красавца-моряка, героя Гражданской войны ради низкорослого, уродливого и лысого очкарика, к тому же записного болтуна, краснобая и пустослова – этого понять не мог никто. Правда, были люди, которые говорили: «Не иначе, как голос крови. Ведь Радек-то – никакой не Радек, а львовский еврей Собельсон».
«Еврей Собельсон был гротескной фигурой, – вспоминал один из современников. – Маленький человечек с огромной головой, с торчащими ушами, с гладко выбритым лицом (в те дни он еще не носил этой ужасной мочалки, именуемой бородой), в очках, с большим ртом, в котором всегда торчала трубка или сигара. И при этом – виртуоз большевистского журнализма. Однажды Радек перебрал. На обвинение в том, что он плетется в хвосте у Льва Троцкого, Радек позволил себе неслыханное. «Уж лучше быть хвостом у Льва, чем задницей у Сталина!» – выпалил он. Надо ли говорить, что фраза тут же стала известна вождю народов, и он это припомнил: в 1936-м Радек был арестован, получил десять лет лагерей и там погиб: по некоторым сведениям, его убили уголовники».
Все это будет значительно позже, а пока Лариса и Радек наслаждались жизнью. Они даже открыли в реквизированном у буржуев доме нечто вроде светского салона, в котором бывали поэты, писатели, художники, политики и, конечно же, чекисты. Лариса тут же подвела под это идеологическую основу: «Мы строим новое государство, – говорила она, – мы нужны людям. Наша деятельность на виду. И было бы лицемерием отказывать себе в том, что всегда достается людям, обладающим властью».
Увы, но сладкая жизнь продолжалась недолго. 9 февраля 1926 года Лариса умерла, причем очень нелепо: стакан сырого молока, брюшной тиф – и скоропостижная смерть.
«Ей нужно было бы помереть где-нибудь в степи, в море, в горах, с крепко стиснутой винтовкой или маузером», – говорилось в некрологе.
Что касается бывшего мужа Ларисы, то Федора Раскольникова тоже ждал трагический конец. В этом смысле Лариса была, без преувеличения, роковой женщиной: все близкие ей мужчины умирали не своей смертью.
Справедливости ради надо сказать, что смертельный огонь на себя вызвал сам Раскольников. В 1939-м, будучи полпредом в Болгарии и ожидая перевода в Грецию, он получил телеграмму с приглашением выехать в Москву за новым назначением. Почуяв неладное, а тогда была репрессирована большая часть Наркоминдела, причем расстреливали всех – полпредов и консулов, машинисток и шоферов, поваров и дипкурьеров, секретарей и заместителей наркома, Раскольников возвращаться отказался. И не только отказался, но и под названием «Как меня сделали врагом народа» опубликовал в западных газетах своеобразное объяснение своего поступка.
Эта публикация произвела эффект разорвавшейся бомбы! На Западе, конечно же, знали о разгулявшейся в Советском Союзе кровавой вакханалии. Но так как некоторые процессы были открытыми и все подсудимые признавали себя виновными в шпионской, подрывной и иной антигосударственной деятельности, создавалось впечатление, что в СССР на самом деле существуют какие-то подпольные организации, стремящиеся к свержению существующего строя, а на серьезных постах угнездились вероломные враги народа. И вдруг выясняется, что никаких врагов народа нет, что все эти процессы – чистой воды спектакли и что главный режиссер сидит в Кремле! Удар по репутации Сталина был нанесен колоссальный.
Но эта бомба прозвучала детской хлопушкой по сравнению с «Открытым письмом Сталину», опубликованным на Западе в августе того же года: «Сталин, Вы объявили меня “вне закона”. Этим актом Вы уравняли меня в правах – точнее, в бесправии – со всеми советскими гражданами, которые под Вашим владычеством живут вне закона, – вот так, с первых строк, ставил все на свое место Раскольников. – Ваш “социализм”, при торжестве которого его строителям нашлось место лишь за тюремной решеткой, так же далек от истинного социализма, как произвол Вашей личной диктатуры не имеет ничего общего с диктатурой пролетариата.
Вы растлили и загадили души Ваших соратников. Вы заставили идущих за Вами с мукой и отвращением шагать по лужам крови вчерашних товарищей и друзей. С жестокостью садиста Вы избиваете кадры, полезные и нужные стране. Вы обезглавили Красную Армию и Красный Флот. Вы истребили во цвете лет талантливых и многообещающих дипломатов. Вы зажали искусство в тиски, от которых оно задыхается, чахнет и вымирает.
Бесконечен список Ваших преступлений. Бесконечен список имен Ваших жертв! Но рано или поздно советский народ посадит Вас на скамью подсудимых как главного вредителя, подлинного врага народа, организатора голода и судебных подлогов».
Прозрела вся Европа, Азия и Америка, прозрели все, кроме многострадальных, замороченных и запуганных граждан Советского Союза. Они еще долго молились на сочащуюся кровью усатую икону.
Оставить без последствий такое разгромное письмо Сталин не мог, и в Ниццу, где в это время жил Раскольников, была направлена группа соответствующих специалистов НКВД. Ни с того, ни с сего у Раскольникова началось воспаление легких, и 12 сентября 1939 года его не стало.
Во всем огромном Советском Союзе Федор Раскольников оказался единственным человеком, который осмелился бросить открытый вызов Сталину. А его слова: «Предпочитаю жить на хлебе и воде, но на свободе» стали своеобразным эпиграфом ко всей его доблестной, насыщенной, увлекательной и в то время, когда рядом была Лариса Рейснер, счастливой жизни.
Глава пятая
На следующий день, когда я зашел к Лаеку, чтобы вернуть книгу, он с нетерпением спросил:
– Ну что? Как вам «Афганистан»? Понравился?
– Теперь так не пишут, – не без грусти ответил я. – Искренности не хватает, души, если хотите, правды сердца. Да и язык нынче совсем другой: слова какие-то деревянные, лишенные глубины и, я бы сказал, подтекста. Невольно вспоминается афоризм известного английского писателя Моэма Сомерсета: «Хорошо пишет тот, кто хорошо живет», – однажды заметил он. При этом имея в виду, что хорошо – значит, содержательно. Надо самому пройти через боль и радость, кровь и горе – только тогда сможешь написать об этом так, чтобы читателя взяло за душу. Или я не прав?
– Правы, – как-то особенно тепло взглянул на меня Лаек. – Очень правы. Сейчас – война, и глубинные, я бы сказал, истинные свойства души моих земляков стерты: главное – убить врага, пока он не убил тебя. Но на самом деле… Знаете, что, – азартно потер он руки и плеснул мне свежезаваренного чая, – расскажу-ка я вам одну пуштунскую легенду. Я слышал ее от отца, а тот уверял, что эта история действительно произошла на его веку. В ней рассказывается о благородной, противоречивой и порой необъяснимой пуштунской душе. Ведь есть же такое понятие, как русская душа? Есть. Сколько ни бьются на Западе, а ее тайны постичь не могут. Так и у нас.
Лаек откинулся на спинку кресла, глянул на близкие горы и начал свой рассказ:
– Это случилось в провинции Пактия. Она – за этими горами, на юго-востоке моей многострадальной родины. Природа в тех местах суровая: отвесные скалы, бурные реки, густые леса. Народ там под стать природе: гордый, отважный, готовый к самым серьезным испытаниям. Лес – главное богатство провинции. Лето там жаркое, а зима снежная, морозная, так что крестьяне валят арчу[12]12
Арча – тюркское название различных видов крупных древовидных можжевельников, перешедшее в научную литературу.
[Закрыть], из которой делают древесный уголь.
В Пактии живут одни пуштуны. Но вот ведь беда: два самых сильных племени – зази и мангал – враждовали уже много лет из-за трех джерибов земли. Это всего-навсего два гектара, и стоили они не более ста тысяч афгани, но оба племени каждый год тратили на войну по три миллиона и хоронили не менее десятка юношей. Наконец вожди договорились, как разделить эту землю. Старики с этим согласились, а молодежь – нет. Не все, конечно, но экстремисты существовали и тогда.
Однажды молодой парень из племени зази по имени Ахмад узнал, что на селение Асмар налетела буря, сель разрушил мост через речку, а его друг Махмуд, пытавшийся отстоять мост, сильно пострадал. Ахмад решил навестить друга и отнести лекарства.
Путь из селения Алихель, где жил Ахмад, лежал через рухнувший мост. И тогда Ахмад решил идти кружным путем, через земли мангалов, в том числе и через те злосчастные три джериба. Ахмад знал, что не все мангалы дружелюбно относятся к зази, что среди них немало кровников, поклявшихся отомстить за гибель родных, но выхода не было – друг нуждался в его помощи. Ахмад захватил хурджун с подарками и едой, вскинул на плечо безотказный «лиенфильд»[13]13
«Лиенфильд» (Ли-Энфилд) – британская магазинная винтовка, основное оружие английской пехоты в Первую и Вторую мировые войны.
[Закрыть] и на рассвете вышел из дома.
В тот же час из главного селения мангалов Манукзай на черном арабском жеребце в окружении друзей на охоту отправился сын вождя, Зарин-хан. Он был единственным сыном престарелого Джелад-хана и с нетерпением ждал, когда сам станет вождем. Но старик был на удивление живуч, и Зарин-хану ничего не оставалось, кроме охоты и пиров с друзьями.
Всем был хорош Зарин-хан: высок, строен, одет в белый партуг[14]14
Партуг – брюки.
[Закрыть] и голубой камис[15]15
Камис – рубаха.
[Закрыть]. На голове – роскошный хвалей[16]16
Хвалей – шапка.
[Закрыть] с шелковым лонгаем[17]17
Лонгай – чалма.
[Закрыть]. Я уж не говорю об отделанном шелковой нитью васкате[18]18
Васкат – жилет.
[Закрыть]. А как воинственно раскачивался над хвалеем яркий фаш![19]19
Фаш – торчащий, вроде гребня петуха, конец чалмы
[Закрыть] Как сверкали изумруды драгоценных перстней, украшавших холеные пальцы! Но вот беда: не росла у Зарин-хана борода. А ведь пророк когда-то сказал, что борода – украшение мужчины. Да и усишки у него были реденькие, обвисшие. А у настоящего пуштуна усы должны быть пышные, с закрученными вверх концами. Можно, правда, носить и небольшие, но тогда их надо настолько аккуратно подравнивать, чтобы пища ни в коем случае их не касалась. Это – закон. О бороде Зарин-хан даже не мечтал, старался компенсировать ее показной удалью и безрассудством.
И вот Аллаху было угодно сделать так, чтобы встретились сын крестьянина Ахмад и сын вождя Зарин-хан на той сухой земле, из-за которой пролито много крови.
Зарин-хан первым увидел Ахмада. Он вздыбил жеребца и недобро спросил:
– Кто ты такой? И что делаешь на земле славных мангалов?
– Меня зовут Ахмад. Я иду в Асмар, чтобы проведать пострадавшего от бури друга.
– Так ты зази?!
– Да. Я сын этого достойного племени и нахожусь на нашей земле.
– На вашей?! Ты думаешь, если старики решили поделить эти три джериба пополам, мы с этим смирились?! Никогда! Эти земли принадлежат мангалам!
– Не знаю, как мангалы, а зази привыкли уважать слово старейшин.
– Ты, номард![20]20
Номард – подонок.
[Закрыть] Как смеешь так говорить о мангалах?! Ты хоть знаешь, кто перед тобой?
– Ты на черном коне, значит, сын уважаемого Джелад-хана. Но зачем ищешь ссоры? Зачем оскорбляешь прохожего?
– Оскорбляю? Я просто называю вещи своими именами. Думаешь, если чуть не до ушей закрутил усы, значит, ты храбрец? Из ослиного хвоста твои усы! Вот так! – зло захохотал он. – Ты не просто номард, ты мурдагав![21]21
Мурдагав – мужчина, который торгует своей женой.
[Закрыть]
Ахмад побледнел и шевельнул плечом – ружье оказалось в его руках. По законам предков он должен был стрелять: то, что сказал Зарин-хан, для пуштуна немыслимое оскорбление. Но, во-первых, на Ахмада смотрели пять стволов, и, во-вторых, Ахмад понимал, что, спусти он курок, опять начнется бесконечная война между племенами.
Зази поставил приклад к ноге и, погасив гнев, сказал:
– Не надо, Зарин-хан. На этой земле и так пролито много крови. Пропусти меня с миром. Меня ждет друг. Ему плохо, и я несу лекарства.
– Нет, вы послушайте, что он говорит! – обернулся Зарин-хан к друзьям. – Он просит, чтобы я его пропустил. На колени, сын шакала и волчицы! Вот сюда! – И Зарин-хан выстрелил в землю.
Пуля взвизгнула у ног Ахмада.
– Не хочешь?! Тогда останешься на этой земле навсегда! – передернул затвор Зарин-хан.
Но выстрелить он не успел. Ахмад это сделал быстрее. Ствол «лиенфильда» еще дымился, а он уже кубарем катился вниз по ущелью. Друзья Зарин-хана открыли бешеный огонь, но попасть в Ахмада не смогли. Тогда трое всадников развернули коней и поскакали по тропе, ведущей на дно ущелья, а четвертый, положив тело Зарин-хана поперек седла, повел черного жеребца в селение.
Ободранный, весь в синяках и шишках, Ахмад скатился в долину. Он понимал, что находится на земле мангалов и его ждет верная смерть. Спрятаться, дождаться темноты и под покровом ночи пробраться домой – другого выхода не было. Но спрятаться негде: каменистое ущелье превратилось в широкую долину, где видна каждая травинка. Куда же бежать?
Вдруг сзади послышался топот копыт. Ахмад остановился. В запасе пять патронов, можно сразиться. А что потом? И тут Ахмад увидел дувалы какого-то селения. «К людям! – мелькнула мысль. – Надо бежать к людям, может быть, они спрячут». Из последних сил Ахмад рванулся к дувалам, и у самых ворот встретил седобородого старика.
– Что с тобой? От кого бежишь? – спросил аксакал.
– За мной гонятся. Хотят убить.
– Убить? – удивился стрик. – За что?
– В меня стреляли. Но я попал первым. Теперь за мной гонятся друзья убитого. Спаси меня, спрячь! – взмолился Ахмад. – А ночью я уйду.
– Ну что ж, гость – посланец Аллаха, – улыбнулся старик. – Я тебя спрячу. Проходи в мой дом и ничего не бойся. Здесь с твоей головы не упадет ни один волос. Так учит пуштунвалай[22]22
Пуштунвалай – свод неписаных законов чести.
[Закрыть].
Ахмад перешагнул порог дома и облегченно вздохнул. Когда он смыл с себя грязь и переоделся в чистый костюм, который дал старик, раздался заполошный стук в ворота.
– Джелад-хан! – звучали возбужденные голоса. – Открой, Джелад-хан!
Ахмад обмер. «Ла-илаха ил-Аллах![23]23
Нет бога, кроме Аллаха!
[Закрыть] За что такое испытание?! Зачем Аллах привел меня именно в этот дом?!» – в отчаянии подумал он.
– Что случилось? – степенно спросил Джелад-хан и открыл ворота.
– Мы гнались за человеком! – кричали всадники. – Он вошел сюда. Мы видели.
– Ну и что? Вошел. Аллах послал в мой дом гостя. Это большое счастье.
– Это большое несчастье, уважаемый Джелад-хан. Твой гость – убийца. Он убил твоего сына!
– Сына? – отшатнулся Джелад-хан.
– Да, он убил твоего единственного сына.
– Не может быть!
– Это произошло на наших глазах.
– Где же мой сын? Где?! Вы бросили его одного! – сверкнул глазами старик.
– Мы погнались за убийцей… А вот и Зарин-хан, – показали они на черного жеребца с телом молодого хана. – Отдай гостя! – требовали всадники. – Ты же не знал, что он убил человека.
– Не знал. Но он – гость.
– К тому же этот парень из племени зази.
– Тем более. Опять начнется война. Пусть кровь моего сына будет последней. А… за что он его?
– Если по правде, – замялись всадники, – Зарин-хан сам виноват. Парень шел в Асмар, Зарин-хан начал его оскорблять, а потом и стрелять. Зази стрелял лучше. Но все равно его надо убить! За молодого хана надо отомстить!
– Нет. Не могу. Нельзя. Нет большего греха, чем нарушить пуштунвалай. Оставьте меня. Нет, стойте! Зарин-хан убит в грудь?
– Да. Прямо в сердце.
– Значит, он шахид[24]24
Шахид – человек, погибший на войне. Все погибшие за правое дело – шахиды. Но если воин убит в спину – он уже не шахид.
[Закрыть]. Значит, хоронить надо сегодня же. И в его одежде, – добавил он. – Таков обычай.
Когда всадники удалились, Ахмад вышел из дома и направился к воротам.
– Ты куда? – остановил его хозяин.
– К ним, – кивнул он в сторону друзей Зарин-хана.
– Нельзя. Они тебя убьют.
– Какая разница, – пожал плечами Ахмад, – сегодня или завтра? Ты ведь не хочешь, чтобы кровь гостя пролилась в твоем доме – все пуштуны уважают этот обычай. И чтобы проклятие Аллаха не пало на твою голову, я выйду за ворота. Там друзья твоего сына смогут за него отомстить. Благодарю тебя, Джелад-хан, за гостеприимство, но находиться здесь больше не могу: я убил твоего сына, и ты вправе требовать моей крови.
– Конечно, вправе! – свел брови Джелад-хан. – Конечно, твой труп надо бросить собакам! Ты лишил меня самого дорогого – единственного продолжателя рода. Ах, сынок, сынок, – горестно склонился он над телом Зарин-хана, – я хотел видеть тебя Рустамом[25]25
Рустам – имя легендарного героя, олицетворяющее храбрость, мужество и отвагу.
[Закрыть], мечтал возиться с внуками, видел наш род могучим и ветвистым, как горная арча, но этот зази лишил меня всяких надежд.
Вдруг старик резко выпрямился и властно позвал:
– Гульзарин!
– Я здесь, отец, – появилась на пороге девушка, закутанная в черную шаль.
– …Тут я должен заметить, – назидательно поднял палец Лаек, – что Пактия – одна из немногих провинций, где женщины не носят паранджу и ходят с открытым лицом.
Поэтому Ахмад ничуть не удивился, увидев сверкающие гневом агатовые глаза и плотно сжатые коралловые губы.
– Отведи гостя на женскую половину, – распорядился старик. – А ты сиди и не показывайся на глаза! – строго приказал он Ахмаду. – Что с тобой делать, решим через три дня. А сейчас мне надо попрощаться с сыном.
Похоронили Зарин-хана в тот же день. Как и предписано законом, его положили лицом к Мекке, а раз он шахид, на могиле установили шест с красным флажком – знаком пролитой крови, и зеленым – означающим, что он мусульманин.
Три дня в доме Джелад-хана продолжалась фатыха[26]26
Фатыха – поминки.
[Закрыть]. Причем первые два дня еду приносили соседи, потому что пищу в доме покойника готовить нельзя. Зато на третий день большой, заключительный, обед готовился в доме.
Три дня Ахмад сидел за занавеской на женской половине, три дня жена и дочь Джалад-хана не замечали постороннего. Только Гульзарин время от времени подсовывала под занавеску пиалу с водой и черствую лепешку. Ахмад за эти дни совсем потух: глаза потускнели, усы обвисли, могучие плечи обмякли, а руки стали словно плети. Нет для пуштуна большего унижения, нежели презрение женщины! Ахмад испил эту чашу до дна.
И вот настал третий, последний, день жизни Ахмада. По крайней мере, он в этом ни секунды не сомневался. «Ну что ж, смерть – так смерть, – решил Ахмад. – Надо встретить ее достойно». С утра он тщательно побрился, закрутил усы, привел в порядок одежду и замер в своем углу.
– Иди. Зовут, – бросила на ходу Гульзарин.
Гнева в ее голосе уже не было. Чуткое ухо уловило бы в нем нечто вроде жалости и сострадания.
– Прощай, Гульзарин, – нарочито бодро улыбнулся Ахмад. – Не держи на меня зла. Поверь, я не хотел причинить горя вашей семье. Спасибо за хлеб и воду.
И тут делано бодрая улыбка Ахмада стала такой виновато-нежной и беспомощно-открытой, что Гульзарин не выдержала и запахнула шаль по самую макушку.
– Никогда не думал, – склонив голову, тихо закончил Ахмад, – что хлеб из рук девушки во сто крат вкуснее, чем даже из рук матери.
Ахмад вышел во двор и… обмер. Сотни полторы людей сидели на коврах, ели плов, шурпу и пили чай.
– А вот и мой гость, – представил его почерневший от горя Джелад-хан.
Мангалы тут же отложили еду и недобрыми глазами впились в Ахмада.
– Этот человек из племени зази, – продолжал Джелад-хан. – Он попросил у меня убежища, и я впустил его в свой дом.
– Но ты не знал, что он убийца твоего сына! – раздался чей-то гневный голос.
– Не знал. А если бы знал, то убил бы его на пороге своего дома.
– Смерть ему! Смерть! – кричали молодые мангалы.
Старики молчали. Они чувствовали, что Джелад-хан задумал что-то необычное. Но что?
– Я не спал три ночи, – поднял руку Джелад-хан. – Я просил у Аллаха разрешения забыть закон гостеприимства, я ждал какого-нибудь знака, подтверждающего это разрешение. И не дождался! Аллах мудр, он знает, что нельзя менять законы только потому, что они кому-то неугодны или доставляют лишние хлопоты. И тогда я решил…
Джелад-хан сглотнул воздух. Протянул пиалу. Ему плеснули чаю.
– И тогда я решил…
Джелад-хан никак не мог произнести то, что выстрадал долгими ночами. Он понимал, принятое решение настолько чудовищно, что соплеменники его не поймут и осудят.
Но Джелад-хан был вождем мужественных и благородных мангалов, поэтому в глубине души он надеялся, что присущее пуштунам здравомыслие возьмет верх.
– Я стар, – продолжал Джелад-хан. – Сына у меня не стало. А дочь – она и есть дочь, рано или поздно уйдет в другой дом. Значит, мой род прервется. И тогда я решил выдать Гульзарин за этого зази. Нет сына, так пусть будет зять! – выпалил Джелад-хан.
Кто-то охнул, кто-то вскрикнул, кто-то схватился за кинжал… А потом над мангалами повисла тревожная и очень опасная тишина. Чего только ни случалось в многовековой истории пуштунов, но чтобы отец выдавал дочь за убийцу единственного сына, такого не могли припомнить даже самые старые спингиры[27]27
Спингир – седобородый, чаще всего – старейшина.
[Закрыть]. Решение Джелад-хана было настолько противоестественным и неожиданным, что даже крикуны прикусили язык.
Все чувствовали, что в словах вождя есть какая-то высшая, непонятная им мудрость.
И тогда поднялся самый старый и самый уважаемый аксакал.
– Я прожил сто десять лет, трижды ходил в Мекку, схоронил всех своих детей, – начал он, устремив взгляд в прошлое, одному ему памятное. – Великий и всемогущий Аллах, даровав мне такие суровые испытания, все же ниспослал одну из величайших милостей – не отнял у меня разума. Я думал, что мое имя войдет в историю не только мангалов, но и всех пуштунов, а теперь вижу: по сравнению с Джелад-ханом я неразумный ребенок. Трудно понять, а тем более принять его слова, но поверьте старому Рахиму: о поступке Джелад-хана наши внуки и правнуки будут петь песни и слагать ландыи. Слава мудрейшему из мудрых и благороднейшему из благородных на этой прекрасной земле! Слава Джелад-хану!
Все вскочили и радостно зашумели. Сосед смотрел на соседа, брат на брата и со счастливым изумлением обнаруживал, что более широкого, милосердного, гордого и открытого человека никогда не видел. Скажи сейчас кто-нибудь: умри во благо других – и каждый, не задумываясь, приставил бы ствол к виску.
Чего угодно ждал Ахмад, но только не этого… Он приготовился к мучительной смерти, а оказывается, надо готовиться к счастливой жизни. Зардевшаяся Гульзарин тут же убежала к матери. Старики начали снаряжать всадников в Алихель, чтобы привезти родителей и ближайших родственников Ахмада. Джелад-хан отдавал распоряжения по подготовке свадебного пира.
И тут кто-то произнес слово «калым». Джелад-хан брезгливо отвернулся. Ахмад знал, что отец невесты вправе отказаться от выкупа за дочь, но для жениха в этом есть нечто унизительное. Он метнулся в дом, пошарил в закутке, где провел три кошмарных дня, и тут же выскочил во двор.
– Уважаемый Джелад-хан, – склонился он перед хозяином, – сперва вы подарили мне жизнь, а потом и прекрасную дочь. Аллах, только он, великий и всемогущий, знает, как я вам благодарен! Отныне моя жизнь – ваша. Берите и распоряжайтесь ею, как хотите. Но позвольте мне не нарушать обычая предков. Я человек бедный, у меня нет ни денег, ни баранов, чтобы заплатить калым. Но есть у меня бесценная вещь, дороже которой ничего нет в нашем роду. Посмотрите на этот «лиенфильд». Видите, какая прекрасная гравировка, какая богатая инкрустация! Ее ценой собственной жизни добыл в бою с англичанами мой дед. Вы лучше меня знаете, что значит для пуштуна оружие, недаром говорят, что пуштун с саблею родился и с саблею в руке умрет. Примите, Джелад-хан это ружье. И пусть оно стреляет только на праздниках!
Потрясенный Джелад-хан взял из рук Ахмада роскошный «лиенфильд», осмотрел гравировку, не удержался, вскинул приклад к плечу, прицелился и восторженно вздохнул:
– Да-а, это потрясающее ружье! Я такого никогда ни у кого не видел!
А потом приехали родственники Ахмада. Появился и мулла. Он, в присутствии трех свидетелей с той и другой стороны, давших клятву в порядочности жениха и невесты, спросил, хочет ли Гульзарин видеть Ахмада своим мужем и, пока она три раза не сказала «да», не объявлял их мужем и женой.
После этого подвели коня. Одетый во все белое, Ахмад взлетел в седло, позади него села облаченная в красное платье Гульзарин, и под пение зурны и гром праздничных выстрелов они уехали в Алихель. Брачную ночь молодожены должны были провести обязательно в доме жениха. Таков обычай.
Наутро они вернулись к Джелад-хану. Пир продолжался еще три дня и три ночи. Ахмад стал называть Джелад-хана отцом, а племена зази и мангал на веки вечные породнились, – закончил рассказ Лаек.
Потом поэт встал, ткнул в гору окурков последнюю сигарету, снова сел, устало откинулся на спинку кресла и спросил:
– Ну, как вам легенда?
– Мне кажется, что все это случилось на прошлой неделе! – восхищенно ответил я.
– Может быть, и так, – усмехнулся Лаек. – В том-то и сила этой легенды, что она
– на все времена. Нисколько не сомневаюсь, что и сто лет спустя она будет жива, понятна и близка всем. Думаю, теперь вы будете лучше знать, какие мы – пуштуны. А без этого, извините, лучше не соваться с наставлениями и поучениями, как нам разрешать свои непростые проблемы.
– Я все понял. Спасибо за урок. Все это я должен был прочесть и узнать дома. Я просто не имел права ступать на землю Афганистана, не познакомившись с ландыями, легендами и многовековой историей страны.
– Ну, это вы уж слишком, – лукаво глядя сквозь очки, заметил Лаек. – Ничего, все поправимо. Я дам вам книги, познакомлю с людьми, знающими историю лучше меня. Но для начала нужно съездить в Джелалабад. Впрочем, съездить не удастся, – нахмурился Лаек, – в некоторых местах дорога контролируется душманами. Но слетать можно. Там увидите то, чем я сейчас живу. Мое любимое детище – Культурный центр пуштунов. Идея такова: пуштуны разобщены, одни в Афганистане, другие – в Пакистане, третьи вообще кочуют. Где им собраться, где обсудить свои проблемы, где просто пообщаться и поговорить? Вот мы и строим в Джелалабаде просторный клуб. Потом появится гостиница, мечеть, школа для взрослых, поликлиника, больница, библиотека. Каково, а?! – Лаек азартно потер руки. – Через год-другой построим такие же центры для таджиков, узбеков, белуджей, хазарейцев и всех других народов.
– Когда летим? – поднялся я.
– Завтра! – блеснул очками Лаек.








