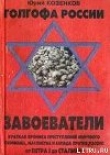Текст книги "Голгофа XX века. Том 1"
Автор книги: Борис Сопельняк
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
«Протокол общего собрания граждан села Базковского Вешенской волости Донского округа под председательством Кащенко от 17 мая 1923 года.
Мы, нижеподписавшиеся граждане села Базковского, ввиду ареста гражданина нашего села Ермакова X. В., считаем своим долгом высказать этим свое мнение. Ермаков все время проживал в нашем селе, так же был хлеборобом, как и все мы. Но случилась гражданская война, и он попал на войну, сражался, был ранен и по окончании таковой вернулся домой и занялся своими домашними делами.
Случилось восстание, и Ермаков, как и все, вынужден был участвовать в нем. И хотя и был избран на командную должность, но все время старался как можно более уменьшить ужасы восстания. Очень и очень многие могут засвидетельствовать то, что остались живы только благодаря Ермакову.
Ермаков сказал, что если вы позволите расстреливать пленных, то порубаю и вас как собак, на это есть суд, который будет разбираться, а наше дело только доставлять коменданту. Восстание вообще носило характер стихийный. Как лошадь, когда ее взнуздают в первый раз – первое движение ринуться вперед и все порвать, так и в Верхне-Донском округе слишком непривычными показались мероприятия советской власти, и народ взбунтовался и только после довольно крупных мер убедился в пользе действий соввласти.
Советская же власть, видно, так и поняла Верхне-Донское восстание 1919 года и объявила полное за него прощение. Руководствуясь этим прощением власти, граждане села Базки и сочли нужным обратиться к власти со своим отзывом о Ермакове. Да к тому же Ермаков в германскую войну заслужил урядничество за исключительно старательную службу. При изгнании белых сдался в плен Красной Армии добровольно, участвовал с красными в походе на Варшаву, имел отличие за свою лихую службу и был зачислен в комсостав.
Конечно, соввласть может найти за таковым преступление и судить его по закону, но, со своей стороны, граждане высказывают о нем свое мнение как о честном, добросовестном хлеборобе и рабочем, не боящемся никакого черного труда».
К делу эту бумагу подшили, но хода ей не дали. Ермаков не сдается и объявляет голодовку! Раз так хочется, то голодай, решил следователь и перевел его в одиночную камеру.
Справедливости ради надо сказать, что у следователя были свои трудности: обвинение Ермакову было предъявлено лишь как участнику восстания, но проходил он по одному делу с участниками казни подтелковцев Одним из главных фигурантов этого дела был есаул Сенин, арестовать которого удалось лишь через семь лет. Самое странное, что этот человек стал прообразом другого шолоховского героя, а именно есаула Половцева из «Поднятой целины». В 1930-м его приговорили к расстрелу как руководителя контрреволюционной организации, причем припомнили Сенину и то, что «он принимал активное участие в окружении и ликвидации красногвардейского отряда Кривошлыкова и Подтелкова, а также командовал группой расстрела».
Как бы то ни было, но следователь сумел вычленить дело Ермакова из всех других, и вскоре Харлампию было предъявлено обвинительное заключение. Вот что там, в частности, говорится:
«В 1919 году, в момент перехода Красной Армии в наступление, когда перевес в борьбе клонился на сторону войск Советской России, в тылу Красной Армии вспыхнуло восстание. Во главе восставших стал есаул Ермаков Харлампий, к нему присоединились активные контрреволюционные деятели, начавшие под благосклонным руководством своего командира с небывалой жестокостью расправляться с представителями советской власти и даже просто с сочувствующими…
Путем восстания в означенном районе соввласть была свергнута, после чего есаул Ермаков начальствование передал генералу Секретову, ставленнику Деникина. Участники восстания влились в ряды белой армии и были там до момента захвата их в плен при разгроме добровольческой армии Деникина.
«Принимая во внимание все вышеизложенное, постановили: Ермакова Харлампия Васильевича, 32 лет, казака станицы Вешенской Донского округа, грамотного беспартийного, предать суду».
Судя по всему, до суда еще было время – и следователь продолжал допросы. Так в деле появились «Дополнительные показания» Ермакова, которые он дал в январе 1924 года.
«Ввиду ограниченности времени при допросе меня 18.1. с. г., вами не были заданы некоторые вопросы, на которые я желал бы ответить, как могущий осветить дело по предъявленному мне обвинению, предусмотренному статьей 58 УК. Предъявленное мне обвинение как организатору восстания Верхне-Донского округа не может быть применено ко мне, не говоря уже о том, что вообще я не могу быть противником советской власти. Уже потому, что я добровольно вступил в ряды Красной Армии в январе месяце 1918 года в отряд Подтелкова.
С указанным отрядом участвовал в боях против белогвардейских отрядов полковника Чернецова и атамана Каледина и выбыл из строя вследствие ранения под станицей Александровой. А главное, в то время, когда уже было восстание в Верхне-Донском округе, был заведующим артиллерийским складом 15-й Инзинской дивизии, то есть в нескольких верстах от станицы Казанской и Мигулинской.
Я также не мог быть там и еще организатором, так как по прибытии домой после ранения в отряде Подтелкова я был избран тогда же председателем волисполкома станицы Вешенской, с каковой должности был арестован с приходом белых войск как активно сочувствующий советской власти».
Суда не было, допросы прекратились, и вообще дело потихоньку разваливалось. Понимая это, старший следователь Максимовский вышел с представлением в Донской областной суд о замене содержания Ермакова под стражей на свободную жизнь дома, но под личное поручительство достаточно авторитетных людей. Поручители нашлись – и Харлампия выпустили на волю.
А в мае 1925-го наконец-то состоялся суд, который снял все обвинения с Ермакова и его семерых подельников. Текст этого решения сохранился полностью.
«Имея в виду, что обвиняемые были не активными добровольными участниками восстания и призваны по мобилизации окружным атаманом, что избиение и убийство граждан происходило не на почве террористических актов как над приверженцами соввласти, а как над лицами, принимавшими участие в расхищении их имущества, носили форму самосудов, что с момента совершений преступлений прошло более семи лет, обвиняемые за это время находились на свободе, занимались личным трудом, и, будучи ни в чем не замечены, большинство из них служили в рядах Красной Армии и имеют несколько ранений – определить: на основании статьи 4-а УПК настоящее дело производством прекратить по целесообразности».
Дело прошлое, но кровь на обвиняемых была. У суда это не вызывало сомнений, да и свидетельские показания если так можно выразиться, вопиют. Но такова была в 1925 году революционная целесообразность. В 1927-м целесообразность стала другой – ив январе Харлампия снова арестовывают.
На этот раз следователи были позубастее. Они нашли свидетелей, которые дали устраивающие ОГПУ показания. Например, Николай Еланкин показал: «Ермаков смеется над коммунистами, излагает к ним полное недоверие, все время старается занять какой-нибудь пост, в настоящее время пользуется популярностью среди зажиточных, в общем и целом тип очень опасен для советской власти».
Другой его земляк, некто Климов, был еще категоричнее: «Ермаков вращается среди кулачества, давит бедноту… Пользуется авторитетом среди зажиточных, тип социально опасен для советской власти».
Не погнушались следователи и показаниями Анны Поляковой, бывшей жены Харлампия, которая, судя по всему, имела на него большой зуб. «Ермаков приблизительно в июле месяце, когда вышел из тюрьмы, получил из Ростова от бывшего белого офицера письмо, в котором говорилось: «Ермаков, не теряй надежды, мы все равно как носили погоны, так и будем носить, погоны свои береги». Я ему начала говорить, что брось ты этими делами заниматься. Он мне ответил, что я этого не брошу, все равно наша власть будет».
Нашлись и другие доброхоты, которые уверяли, что «расстрелы красноармейцев во время восстания проходили при участии самого Ермакова», что «в станице Вешенской вел антисоветскую агитацию», что «объединяет вокруг себя кулаков, а бедноту ненавидит, а также говорит, что рано или поздно придет наша, офицерская власть, и тогда мы вам покажем».
В дрянное, я бы сказал, в очень паршивое время попал под арест Харлампий. Начиналась коллективизация, казачество ей противилось, Дон снова мог взорваться – и большевики решили себя обезопасить, пустив в ход директивы РКП (б) 1919 года. В протоколах допроса Ермакова ничего касающегося коллективизации нет – его судили за старые грехи, а вот показания есаула Сенина, которого судили в 1930-м, как мне кажется, проливают яркий свет на всю эту ситуацию. Ни секунды не сомневаюсь, что под словами Сенина мог бы подписаться и Ермаков.
«Я не согласен с принудительной административной коллективизацией крестьянских хозяйств, – говорил есаул Сенин. – Особенно не согласен с перепрыгиванием от сельхозартели непосредственно к коммуне. Я являюсь сторонником развития индивидуального хозяйства, предоставления полной инициативы и свободы хозяйственной деятельности хлеборобу.
По моему мнению, кулак приносил пользу, продавая государству свой хлеб… А как с ним обращаются? Мне хорошо известно, что на Дону выслано около двадцати тысяч кулацких семей, а около семидесяти тысяч человек арестовано. Раскулачивание достигло высшей точки, именно сейчас казачество и мужики готовы пойти на вооруженную борьбу с советской властью, и нужно не упустить этот момент».
Самое странное, со словами Сенина вынуждены были согласиться даже следователи, внеся в обвинительное заключение довольно рискованный абзац. «Люди, с коими связывался Сенин и другие члены организации, давая оценку настроения населения, указывали на наличие сплошного недовольства основной массы казачества, крестьян, городского населения существующей властью и ее политикой».
Если Сенина расстреляли без тени сомнений, то с Ермаковым дело обстояло несколько иначе. Харлампия арестовали по старому делу о восстании, которое еще в 1925-м было прекращено производством по «целесообразности». Ничего нового, тянущего на «вышку», у следствия не было, и, судя по всему, рассматривался вариант осуждения Ермакова на какой-то срок. Иначе зачем в марте 1927-го производилось «освидетельствование гр-на Ермакова на предмет выявления состояния здоровья вообще»?
В деле этот акт сохранился. Вот он: «Гр-н Ермаков X. В., среднего роста, правильного телосложения, немного ослабленного питания, видимые слизистые бледного цвета. Со стороны внутренних органов отклонений от нормы не отмечается. Психическая деятельность нормальна. Видимых знаков венерического заражения и других заразных заболеваний не отмечается.
На основании наружного осмотра полагаю, что гр-н Ермаков X. В. в момент освидетельствования страдает в легкой степени малокровием, практически здоров и следовать этапом может. Судмедэксперт: Волковенко».
Но нормального или, как иногда говорят, законного суда не получилось – в дело вмешалось всесильное ОГПУ, руководители которого вышли с ходатайством в Президиум ЦИК Союза ССР о предоставлении ОГПУ права вынесения Ермакову внесудебного приговора. Секретарь ЦИК Авель Енукидзе, конечно же, это ходатайство удовлетворил, а особоуполномоченный при Коллегии ОГПУ Фельдман скрепил его своей подписью. 6 июня 1927 года состоялось заседание Коллегии ОГПУ, разумеется, без присутствия подсудимого, на котором было принято постановление: «Ермакова Харлампия Васильевича расстрелять». 17 июня приговор был приведен в исполнение.
Напомню, что чуть больше года назад Михаил Шолохов впервые написал Ермакову, а потом так сильно его полюбил, что чуть ли не буквально списал с него своего главного героя, на котором держится весь роман. Представьте на минуту, что Шолохов не познакомился с Ермаковым… Значит, не было бы Григория Мелехова, ставшего символом вольного Дона. Не исключено, что был бы кто-то другой – другой, но не Мелехов.
Так соединились три судьбы: Харлампия Ермакова, Михаила Шолохова и Григория Мелехова. Судя по всему, Шолохов не остался безучастным к судьбе Ермакова, вероятно, он писал письма, звонил, требовал разобраться. Не случайно в одной из бесед Сталин раздраженно заметил, что если Шолохов не поумнеет, то «у партии найдутся все возможности подыскать для «Тихого Дона» другого автора».
Шолохову передали эти слова – и он поумнел. Так Поумнел, что навсегда ушел в себя, не создав больше ничего равного своему первому роману. Не зря же в одной Из конфиденциальных бесед Михаил Александрович сказал: «Вы не ждите от меня чего-нибудь значительнее «Тихого Дона». Я сгорел, работая над ним».
Детские ворота ГУЛАГа
«Вы пьете кровь всего народа»
Одурманенная и оболваненная страна пела песни, слагала гимны, чеканила шаг на физкультурных парадах. Счастье лилось рекой. Белозубые улыбки, веселые кинокомедии и бесчисленные портреты того, кому всем этим обязаны. Но особую заботу отец народов проявлял о подрастающем поколении. Как известно, лучший друг детей любил выражаться лаконично, афористично и туманно. «Все лучшее – детям!» – сказал в одной из речей товарищ Сталин.
Одни эти слова поняли так, что именно детям нужно отдать лучшие дворцы культуры, бассейны и стадионы. А другие, которым подчинялась страна, по имени ГУЛАГ, решили, что детям нужно отдать лучшие тюрьмы и самые добротные лагеря.
Сказано – сделано. Тем более что вождь с отеческой улыбкой наблюдал не только за тем, как детвора заполняет стадионы, но и за тем, насколько плотно она заселяет камеры. Что касается последнего, то об этом помалкивали, а вот заполненные до отказа стадионы и многочисленные пионерлагеря были на виду, поэтому каждый день советского ребенка начинался со своеобразной молитвы-заклинания. «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» – звучало по всей стране.
Счастливое детство… У кого-то оно, возможно, и было: комната в коммуналке, сатиновые шаровары, тряпичная кукла, драный футбольный мяч – чем не счастье?! Но была в те годы и другая жизнь: ночной стук в дверь, обыск, исчезновение отца, а потом и матери, чрезмерно заботливые дяди, которые хватали перепуганных ребятишек и отправляли в детские дома, которые без особых натяжек можно назвать филиалом ГУЛАГа. Одни оттуда возвращались, других переводили в колонии и тюрьмы третьи, став лагерной пылью, превращались в ничто.
Знал ли кто-нибудь об этой жуткой мясорубке? Знали ли об этом те, кого принято называть совестью народа то есть писатели, поэты и художники? Едва ли. Ведь ни в их личных архивах, ни в архивах журналов и газет нет ни одной поэмы, ни одного романа, картины или фильма, в которых бы рассказывалось о детях, попавших в застенки НКВД. Предположение о том, что все дрожали от страха за свою жизнь и не пытались описать это, пусть даже не мечтая о публикации, не выдерживает критики, потому что в лагерях оказалось немало писателей, не побоявшихся поднять свой голос, обличающий зверства сталинского режима.
Так неужели они бы не вступились за детей?! Еще как бы вступились. Но все эти парады, сборы, смотры, конкурсы, фестивали и олимпиады так застилили глаза, что обратной стороны медали никто не видел. А она, эта сторона, была. Топор палача не разбирал, мужчина на плахе или женщина, старик или ребенок – он рубил. Бывало, правда, и так, что топор вроде бы случайно не попадал по нужному месту и вонзался совсем рядом с детской шейкой – ребенка милостиво отпускали на волю, но перепуганное насмерть существо всю оставшуюся жизнь не смело рта раскрыть и забивалось в самый глухой угол.
Передо мной два дела, извлеченных из архива НКВД. Две искалеченных жизни, две судьбы наивных, доверчивых и светлых детей той мрачной и странной эпохи.
Итак, дело № 240 071 по обвинению Храбровой Анны Андреевны. Заведено оно 23 февраля 1936 года, и вменялась шестнадцатилетней девочке печально известная 58-я статья, да еще пункт 10 – это контрреволюционная пропаганда.
И статья, и пункт вызывают самую настоящую оторопь – ведь именно по этой статье прошла вся творческая интеллигенция, как, впрочем, и многие политические деятели. Тысячи лучших людей страны были расстреляны, а многие миллионы сгинули в лагерях, неся клеймо этой жуткой статьи Уголовного кодекса РСФСР. Не могу не заметить, что всех этих людей считали самыми обычными уголовниками, так как политических преступлений в стране победившего социализма не было и не могло быть.
Так что же за преступление совершила Аня Храброва, чем подорвала устои государства, если удостоилась чести быть обвиненной по 58-й статье? Она написала стихотворение, или, как тогда говорили, стих. И не просто написала, а по простоте душевной вложила листочек в конверт и отправила по почте. Как вы думаете, кому? Самому товарищу Сталину. В конце она, наивный человек, сделала приписку: «Прошу дать ответ по адресу: Москва, Можайский вал, 2-й тупик, дом 7, квартира № 1».
Ответ не заставил себя ждать и явился в образе сотрудника НКВД Смирнова, который предъявил ордер на обыск и арест, перевернул всю квартиру и доставил Аню в небезызвестную Бутырку.
Машина завертелась на предельных оборотах! Каких только подписей нет на всевозможных протоколах, справках и других документах, касающихся закоренелой антисоветчицы, – и начальника Управления НКВД по Московской области, и начальника оперативного отдела, и помощника прокурора по спецделам… В постановлении об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения говорится: «Храброва А. А. изобличается в том, что написала стихотворение резкого контрреволюционного содержания и направила его почтой на имя тов. Сталина. Мерой пресечения избрать содержание под стражей».
А вот и сама мина, которая могла подорвать устои государства – пожелтевшая страничка, вырванная из ученической тетради. Неровный детский почерк, фиолетовые чернила, старательный нажим, масса грамматических ошибок.» Более шестидесяти лет пролежала эта мина в подвалах НКВД, более шестидесяти лет боялись прикоснуться к этому жуткому свидетельству эпохи – так пусть наконец рванет!
«Москва, Центральный Комитет СССР (так в тексте. – Б. С.), тов. Сталину.
Вождям нашего Союза
«Весело в Союзе нашем,
Хорошо живется всем».
На словах мы все так красим
Всех измучили совсем.
У деревню заезжая,
Сердце ноет и болит,
Еще жизни всей не зная,
Голова уже трещит.
А зайдешь в какую хатку —
Только жалоба да стой.
Хлеба нет! Взяли лошадку?
Хоть собой корми ворон
А налоги, боже милый,
Заживо во граб кладут.
Потому народ все хилый
Последний скот у них возьмут.
На словах товарищ Сталин
Красит жизнь, что хоть куда,
Но на оной деле «Каин»
Не годится никуда.
Я не боюсь вашей угрозы,
Тюрьма меня не устрашит,
В пути моей уж были грозы
Теперь лишь дождик покропит.
Хоть мало я жила на свете,
Но что за сердце у меня,
Оно сболело все за эти
Мои прекрасные года.
Товарищ Сталин, что же дальше?
Вам хорошо, что вам до всех.
Пускай мужик умрет на пашне,
Пускай же кровь сойдет со всех.
Вы пьете кровь всего народа.
Когда ж напьетесь вы ее?
Когда же выяснет погода?
Когда ж просветит луч весне?
Я не могу терпеть уж дальше
И жизнью я не дорожу,
Не то, что было чуть пораньше,
На что решилась – все скажу.
Пойду навстречу я народу,
С народам мыслю умереть
Всегда готова я к походу
И следа вам уж не стереть.
Казалось бы, какой смысл обращать внимание на этот полуграмотный лепет несовершеннолетней девчонки?* Ан нет, решили в приемной Сталина, а может быть, И он сам: заразу надо изничтожать на корню!
Школа от контрреволюционерки, само собой, тут же открестилась, во всяком случае, характеристику выдали соответствующую ситуации: «Академическая успеваемость Храбровой была низкой, и особенно плохо она стала заниматься в текущем учебном году. В общественной жизни и работе класса Храброва не принимала никакого участия, вела себя тихо, скромно и незаметно».
Тянуть со следствием не стали и на первый допрос Аню вызвали в день ареста. Вначале следователь задает успокаивающе-дружелюбные вопросы: где работает мать, чем занимается отец, с кем дружит, чем занимается в свободное время? Аня отвечает, что отца почти не знает, так как с матерью он в разводе, мать же работает проводником на железной дороге; потом называет имена подруг, признается, что свободное время чаще всего проводит дома, много читает, с десятилетнего возраста пишет стихи.
– О чем? – уточняет следователь.
– О природе, колхозе и Красной Армии.
– А писали ли вы стих к вождям?
– Да, я написала такой стих и послала его товарищу Сталину.
– Показывали ли вы его кому-нибудь? Помогал ли кто в обработке стиха? С кем вы советовались, прежде чем его написать?
Ловушка! Чувствуете, какая страшная ловушка? Скажи Аня, что с кем-то советовалась, что ей помогал кто-то из взрослых, дело примет совсем другой оборот – это уже заговор, это групповщина, а девочка всего лишь исполнитель чьей-то злой воли. Процесс может получиться грандиозный! Но Аня рассеяла в дым мечты следователя, заявив, что стихотворение написала сама и лишь после этого рассказала обо всем маме. Пусть будет хоть мама, решает следователь и задает очередной вопрос.
– Как повела себя после этого мама?
– Она меня очень сильно ругала. Тогда я сказала, чтобы она пошла в милицию и отказалась от меня официально. Я за все буду отвечать сама.
– Какие причины побудили вас написать это стих? – гнул свою линию следователь.
И вот тут Аня, видимо, поняла, чем рискует и что ей шьют. Отвечая на этот ключевой вопрос, она решила сработать под дурочку и капризного, безответственного ребенка.
– В то время у меня было очень плохое настроение – говорит она. – К тому же мама отругала меня за то что я не убрала в комнате. На это я очень обиделась и села писать стих. Потом рассказала об этом маме и тете, они меня очень сильно ругали. После этого я поняла, что написала очень и очень плохое стихотворение.
Умница, девочка! Молодец! Палачи раскаявшихся любят. Унижения и слезы жертвы – для них слаще меда.
И все же следователь задает еще один вопрос-ловушку.
– От кого вам приходилось слышать антисоветские разговоры на те темы, которые вы изложили в стихотворении?
Но Аня не так глупа, чтобы подставить кого-нибудь из знакомых.
– Когда я была в родной деревне, то слышала контрреволюционные выступления от гражданина другой деревни. Его забрали прямо на собрании, и я не знаю, где он теперь находится. Раньше я писала стихи про природу, колхоз и Красную Армию и хранила их у себя дома. Признаю, что это стихотворение по своему содержанию является антисоветским. Посылая его, я надеялась, что ошибки Сталиным будут исправлены, а именно его я считала виноватым в том, что у нас в колхозе некоторые хозяйства живут плохо. Теперь я поняла, что это не так, – с нажимом закончила Аня.
Потом ее на некоторое время оставили в покое и взялись за мать, тетку, учителей, подруг… Преподаватель русского языка и литературы, который одновременно руководил литературным кружком, заявил, что Аня приходила на занятия всего раза три, писала лирические стихотворения и, хотя товарищей в кружке не имела, по характеру очень жизнерадостна.
– Показывала ли она вам стихи антисоветского содержания? – поинтересовался следователь.
– Нет, – ответил учитель, – не показывала. – И решительно добавил: – И вообще, если она написала таковые, то сочинила их не сама, а откуда-нибудь переписала.
– Откуда? – насторожился следователь.
– Мало ли… Могла найти на улице, могли подбросить в почтовый ящик. В газетах пишут, что враг не дремлет и искоренены еще не все троцкисты, а они на все способны.
А классный руководитель, подчеркнув, что учится Аня неважно и в седьмой класс ее перевели «с большой натяжкой», тем не менее отметил, что хотя у нее за вторую четверть семь неудовлетворительных оценок, в письменной работе «Кем хочу стать?» написала, что хочет стать поэтом.
Ничего не дали и допросы матери: та прямо заявила, что живет на рельсах, что все время в дороге и дочерью ей заниматься некогда.
– Что она там пишет, с кем водится, куда ходит – знать не знаю, – отрезала проводница. – А за тот вражеский стих я ей выдала по первое число, – добавила она. – Не сомневайтесь!
Короче говоря, групповщины не получалось, и показательного процесса тоже. Несмотря на это, 2 апреля 1936 года старший майор государственной безопасности Радзивилловский утвердил обвинительное заключение. Констатируя, что «фактов антисоветских высказываний со стороны Храбровой следствием не установлено, в других произведениях, изъятых при ее аресте, антисоветского содержания не было», тем не менее и старший майор, и помощник прокурора по спецделам – государственные мужи, быть может, тоже имеющие детей, принимают решение: «Следственное дело по обвинению Храбровой А. А. по ст. 58 п. 10 УК РСФСР представить на рассмотрение Особого совещания, с одновременным перечислением за ним обвиняемой, которая содержится в Бутырском изолятор»».
Уж кто-кто, а старший майор и помощник прокурора знали, на какое беспримерное нарушение закона они идут: суд дело несовершеннолетней девочки не примет. Но хочется крови, очень хочется крови! Знают ее вкус и члены Особого совещания, в состав которого входят Вышинский и Ежов. Им закон не указ. Как скажут, так и будет. То ли на Вышинского и Ежова подействовала весна, то ли год был не тот – 1936-й по приговорам был куда мягче 1934-го или 1937-го, но совершенно растерявшиеся от неожиданности следователи получили редкостную по тем временам выписку из протокола Особого совещания от 10 апреля 1936 года:
«Храброву Анну Андреевну за контрреволюционную деятельность отдать под гласный надзор по месту жительства сроком на два года, считая срок со дня вынесения настоящего постановления. Дело сдать в архив».
Здесь же справка об освобождении, датированная 16 апреля 1936 года.
Как сложилась судьба Ани Храбровой в дальнейшем, никто не знает. То ли она, напуганная на всю жизнь, уехала в деревню, то ли, по примеру матери, стала мотаться по железным дорогам. Не исключен и третий вариант: через год-другой, когда она стала совершеннолетней, по какому-нибудь другому поводу ее забрали снова – спрут НКВД очень не любил, когда добыча ускользала. Примеров – сколько угодно. Именно так случилось с мальчиком по фамилии Мороз – этого школьника лучший друг детей не упустил, превратив его в лагерную пыль.
«Меня заставили пойти по антисоветской дорожке»
С этой семьей Сталин и его клевреты боролись изобретательно, последовательно и безжалостно. Сперва на десять лет без права переписки посадили отца, потом на восемь лет – мать, следом на пять лет – старшего сына, а младших, Володю и Сашу, по спецнаряду НКВД отправили в Анненковский детдом, где содержались дети врагов народа. Володя прибыл туда в октябре 1937-го, когда ему еще не было пятнадцати лет. Мальчик он был нервный, впечатлительный, творчески одаренный, воспитанный в лучших традициях революционеров-романтиков: дух бунтарства, митинговой открытости, юношеского максимализма веял от него за версту.
Но он уже знал, что такое донос, арест, обыск, поэтому самые сокровенные мысли не доверял никому, кроме… дневника, который вел в форме неотправленных писем. Знал бы Володя, что такие мысли нельзя доверить даже бумаге, быть может, не было бы дела № 10 589 И ее пришлось бы ему платить за неотправленные письма самой дорогой ценой, какой только может заплатить человек.
В детдоме, скорее похожем на колонию для несовершеннолетних, процветало воровство. Однажды у нескольких ребят, в том числе и у Володи, украли брюки. Воспитатели считали это настолько обычным делом, что не поднимая шума выдали новые штаны. Пострадавшие Этому даже обрадовались – все, кроме Володи. Он маялся, мучился, лазал по темным углам, пытаясь найти старые брюки. Нашлись они совершенно неожиданно: одна из воспитательниц полезла зачем-то в печь и наткнулась на ворованную одежду. Сунулась в карманы – у всех пусто, а в штанах Мороза какие-то записки. Прочитала – и грохнулась в обморок. Придя в себя, помчалась к пионервожатой – та испугалась еще больше. Кинулись к директору…
То, что произошло дальше, не укладывается в голове. Три педагога, подчеркиваю, три советских педагога, воспитанных на трудах Ушинского, Макаренко и других великих гуманистов, вместо того, чтобы вызвать Володю на ковер и как следует пропесочить, передали его письма в НКВД.
Думаете, они не знали, что делают, не понимали, что облекают мальчика на тюрьму и смерть? Еще как знали! Не буду называть имена этих людей, Бог им судья, но в том, что кровь ребенка и на их руках, нет никаких сомнений.
Получив письма, НКВД начинает действовать по хорошо отработанной схеме. Первым делом в недрах комиссариата рождается циничнейший по своей сути документ. Вот он, вчитайтесь в его строки.
«Я, лейтенант госбезопасности Тимофеев, рассмотрев следственный материал в отношении гражданина Мороз Владимира, 1921 года рождения, воспитанника Анненковского детдома Кузнецкого района Куйбышевской области, подозреваемого в контрреволюционной деятельности по ст. 58–10 ч. 1 УК РСФСР, и принимая во внимание, что нахождение его на свободе может отрицательно повлиять на ход следствия, постановил мерой пресечения избрать содержание под стражей в Кузнецкой тюрьме».
Я не случайно назвал этот документ циничнейшим. Допустим, что лейтенант, жаждущий наград и повышения по службе, искренне считал, что оставлять Володю на свободе никак нельзя – мальчик из семьи врагов народа может быть только врагом. Но ведь лейтенант совершил подлог, граничащий с преступлением: прекрасно понимая, что арестовать несовершеннолетнего он не имеет права, лейтенант прибавляет Володе целый год. Доказательства? Пожалуйста.
Читаем анкету арестованного, которая тоже есть в деле. «Мороз Владимир Григорьевич. Дата рождения:
1 ноября 1922 года. Место рождения: Москва. Паспорта не имеет. Национальность: еврей. Состав семьи: брат Александр – воспитанник Анненковского детдома, брат Самуил – арестован; отец и мать – арестованы».
Поразительно, как не заметили этого подлога старшие начальники, в том числе прокурор и члены Особого совещания! Не заметил этого и директор детдома, подписавший устраивавшую следствие характеристику. Вот уж где горе-педагог смог свести счеты со строптивым воспитанником.
«Мороз В. Г, 17 лет, прибыл в Анненковский детдом по особой путевке НКВД СССР в октябре 1937 года. За время пребывания в детдоме проявил себя обособленно от всего коллектива воспитанников, в общественной работе участия не принимал, нагрузки детского самоуправления не выполнял сознательно.