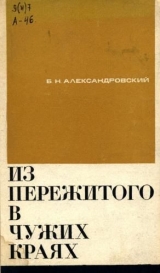
Текст книги "Из пережитого в чужих краях. Воспоминания и думы бывшего эмигранта"
Автор книги: Борис Александровский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Карьера Туркула закончилась. Навсегда ли? На это ответит время.
В канун войны в Париже были получены сведения, что он, не занимая никакой должности, живёт в Италии широкой жизнью, вращается в «лучшем обществе», купил роскошную автомашину и, по всем данным, пожинает плоды той «работы», которую столь щедро оплачивал тайный иностранный источник.
Что делал Туркул во время войны – мне неизвестно. Его скоро забыли, и больше до моего отъезда из Парижа я ничего о нём не слышал.
Мне уже приходилось упоминать, что правый сектор белой эмиграции составлял главный контингент постоянных читателей ежедневной газеты «Возрождение». Но у воинствующих элементов этого сектора, объединившихся в РОВСе, был и свой собственный орган печати – журнал «Часовой», выходивший два раза в месяц. «Часовой» возник в 1926 или 1927 году и просуществовал вплоть до 1941 года, когда он был закрыт по распоряжению гестапо. После четырёхлетнего перерыва он снова стал выходить регулярно с той же программой и с тем же редактором, что и в довоенный период. Его основатель, издатель и бессменный редактор В.В. Орехов, белый офицер врангелевской армии, весьма заметная фигура в кругах, близких к РОВСу, и в самом РОВСе. «Часовой» пользовался большой популярностью среди зарубежного контрреволюционного офицерства. На это были свои причины.
Во-первых, в каждой его строке сквозил кастовый дух офицерского сословия старой армии.
Во-вторых, «Часовой» вбивал в голову своим читателям, что командный состав Красной Армии сплошь неучи и невежды и что белому офицерству предстоит в будущем почётная роль сменить их на всех командных постах армии «будущей России».
В-третьих, в этом журнале помещались исторические справки, воспоминания и документы, относящиеся к войне 1914–1918 годов и к ещё более ранним временам. Некоторым из них нельзя было отказать во вполне реальном историческом интересе.
В-четвёртых, «Часовой» был, кажется, единственным печатным органом в зарубежье, который признавал растущую техническую мощь Красной Армии, даже и руководимой, по его терминологии, «неучами». Информация о Красной Армии, хотя и разбавленная только что отмеченными абсурдными высказываниями, была в некоторых своих разделах довольно точной и правдивой. Из номера в номер журнал твердил, что нельзя далее недооценивать мощь Красной Армии, как это делала вся остальная белоэмигрантская печать, и что рано или поздно эта мощь сделается очевидной для всех.
Наконец (и это, пожалуй, самая главная причина его популярности), «Часовой» все долгие годы своего существования играл на самых чувствительных струнах белоофицерской массы зарубежья: он звал её в бой против Советской власти, заклинал эту массу быть готовой «выполнить долг перед родиной» и поселял в ней твёрдую уверенность, что близким и несомненным результатом этого «выполнения долга» будет свержение Советской власти и военная диктатура, при которой каждый бывший белый офицер займёт подобающее ему место в армии с учётом, конечно, зарубежного стажа и с головокружительным продвижением в чинах.
В середине 30-х годов В.В. Орехов объявил на страницах своего журнала, что ему удалось тайно связаться с «красным командиром», занимающим ответственный пост в Красной Армии, и что в ближайших номерах журнала будут систематически помещаться письма этого командира. «Письма красного командира» действительно появились на страницах «Часового». В них «красный командир» называл белых офицеров «братьями» и заверял их, что близок час, когда в Красной Армии произойдёт взрыв и когда красные и белые командиры сольются в одном мощном антисоветском потоке.
«Письма красного командира» произвели сенсацию не только среди воинствующих правых кругов белой эмиграции, но и в «левом» её секторе. На Орехова со всех сторон градом посыпались вопросы с просьбой дать уточнения о личности «красного командира». Орехов отвечал на них полным молчанием, заранее сославшись на невозможность по условиям конспирации давать какие-либо сведения, касающиеся личности автора писем и способов связи с ним. После этого ничего не оставалось делать, как гадать. Среди многих предположений циркулировало и такое: никакого «красного командира» в действительности не существует, а «письма» составляются в Париже самим Ореховым в целях поднятия тиража своего журнала. Тираж этот действительно вырос в два или три раза с момента появления «писем». А финансовые дела «Часового» перед этим шли из рук вон плохо.
У читателя, конечно, возникает вопрос: субсидировал ли кто-нибудь издание этого журнала? Ведь общеизвестно, что подобное издание, да ещё иллюстрированное, каким был «Часовой», требует значительных сумм помимо подписной платы. На этот вопрос приходится дать как будто положительный ответ. Ближайшему окружению Орехова было хорошо известно, что хотя все 15 или 16 лет своего предвоенного существования «Часовой» с точки зрения материальной влачил жалкое существование, тем не менее его редактор периодически получал откуда-то кое-какие подачки, без которых длительное существование журнала было бы, конечно, немыслимо.
Вся редакция журнала состояла из двух человек: самого Орехова и третьеразрядного журналиста Евгения Тарусского, слывшего «специалистом по молодёжи». Занимала она всего одну комнатушку в маленькой квартире из трёх комнат, в которой жил сам Орехов со своей многочисленной семьёй. Несколько раз даже ставился вопрос о прекращении дальнейшего выхода журнала за полным отсутствием средств, а Орехов, совершенно подавленный, сообщал своим самым близким друзьям сроки этого печального конца. Но в этот момент обычно как раз поступали очередные подачки от невидимых для постороннего взора «благожелателей», связанных тайными нитями с иностранными разведками, что давало Орехову возможность кое-как сводить концы с концами. Издание журнала продолжалось.
Незадолго до войны и на сравнительно короткий период времени Орехов вздохнул несколько свободнее: журналу начал оказывать некоторую помощь некто Анастасий Вонсяцкий – смутная фигура из категории политических шарлатанов и авантюристов, которые, как грибы после дождя, появлялись и исчезали на эмигрантском горизонте.
Бывший юнкер одного из военных училищ юга России, Вонсяцкий в начале 20-х годов, будучи совсем молодым человеком, подвизался в Париже в качестве шофёра такси, как и тысячи его соотечественников. Благодаря гримасе судьбы он свёл случайное знакомство с заезжим американским миллионером, каким-то не то «стальным», не то «свиным королём».
В благодарность за услугу, оказанную этому «королю» при совершенно случайных обстоятельствах, последний взял его с собой в Америку, сначала в качестве «мальчика на побегушках», затем служащего своей конторы, потом личного секретаря. Кончилось тем, что Вонсяцкий женился на дочери престарелого «короля», которая была лет на 15 старше жениха, и сделался совладельцем миллионного предприятия своего тестя, попав «из грязи в князи».
Во время редких наездов в Париж бывший юнкер, он же и бывший парижский шофёр, появлялся среди белых эмигрантов, окружённый ореолом славы заокеанского миллионера, всегда в сопровождении личных секретарей и адъютантов. Но аппетит, как известно из французской поговорки, приходит во время еды… Одни «голые» деньги Вонсяцкого не удовлетворяли. Раболепство и пресмыкательство перед ним эмиграции – тоже. Ему захотелось политической славы.
За этим дело не стало. Кошелёк Вонсяцкого широко раскрылся для осуществления разного рода политических затей. Он основал под Парижем «корпус-лицей имени Николая II» по образцу кадетских корпусов царского времени, предназначенный для эмигрантов, желавших дать своему потомству военное воспитание. Он же стал давать деньги и на издание «Часового». Но эти «милости» новоявленного миллионера были кратковременными. Очень скоро у него возник конфликт и с руководством «корпуса-лицея», и с редактором «Часового». Кошелёк Вонсяцкого снова закрылся. Милости больше не расточались. Зато Вонсяцкого потянуло к политической славе, так сказать, мирового масштаба. В особом «манифесте», опубликованном на страницах заново созданной им газетки, просуществовавшей в свою очередь тоже очень недолго, он объявил, что он, Вонсяцкий, становится во главе создаваемой им новой белоэмигрантской политической партии фашистского типа и что именно он сам и его партия свергнут большевиков и спасут Россию.
Было это уже в годы расцвета гитлеризма в Германии. Новоявленный «фюрер» изобрёл для себя и для своих «верноподданных», число которых едва ли превышало одну или две сотни, особую форму одежды, эмблемы, фашистское приветствие и т.д. После этого он начал объезд своих «верноподданных». А издаваемая им газетка печатала репортажи о том, как его встречало с цветами «благодарное население» несуществующего на географической карте новоявленного эмигрантского фашистского государства, правда с весьма ограниченной территорией – частью североамериканского штата Огайо, где проживал «фюрер», да тремя-четырьмя пунктами в Европе и на Дальнем Востоке, где у «фюрера» были свои представители.
Скоро и эта затея приелась скучавшему от безделья политическому шарлатану. Выход газетки и объезды «верноподданных» прекратились. Вонсяцкий снова уплыл за океан и там, в Америке, в штате Огайо, занялся созданием «военного музея русской армии», то есть собирательством полковых значков, погон, кокард, фотографий, гравюр и другого материала, имеющего какое-либо отношение к царской армии.
Но вернусь к «Часовому». Если не считать короткого срока, когда Орехов получал от Вонсяцкого некоторое денежное подкрепление, весь остальной долголетний период его существования он был, так сказать, «на подножном корму», то есть имел своей материальной базой главным образом те скудные средства, которые поступали в редакцию от подписки и киосковой продажи. Есть основания предполагать, что это положение резко изменилось в послевоенные годы, когда Орехов совершил поездку в Англию, откуда вернулся окрылённый, по-видимому, не только новыми надеждами, но и ещё чем-то более существенным.
Прерванное в 1941 году издание «Часового» возобновилось и сразу было поставлено на широкую ногу, а сам Орехов в первом же номере своего возрождённого детища заявил во всеуслышание, что период эмигрантского шатания в годы войны в вопросе о признании Советской власти как исторически законной кончился и что он, Орехов, вновь возвращается под старые знамёна и лозунги непримиримой борьбы с этой властью «до победного конца». К этому же он призывал и всю эмиграцию.
Это было в 1945–1946 годах, незадолго до моего отъезда из Франции, когда совершенно ясно обозначилась гальванизация с помощью американского золота трупов большинства российских политических мертвецов. Именно тогда восстали из политического гроба и Керенский, и Деникин (последний вскоре сменивший гроб политический на гроб вполне реальный).
На личности В.В. Орехова я считаю нужным остановиться несколько подробнее. Происходил он из интеллигентских или полуинтеллигентских кругов. Конец гражданской войны застал его в чине капитана. Во врангелевской армии он состоял в одном из железнодорожных подразделений, сведённых после эвакуации в железнодорожный батальон. Из Галлиполи он попал в Болгарию, а оттуда в Париж. Там в начале 20-х годов и началась его политическая карьера. Было ему тогда не более 26–27 лет. Орехов сразу занял позицию антисоветского активиста, представлявшего зарубежную «боевую» контрреволюционную молодёжь. С таким ликом он попал в делегаты пресловутого «Зарубежного съезда». С трибуны этой анекдотической «учредиловки» он призывал и молодёжь, и всю эмиграцию к борьбе против Советской власти «до победного конца».
Приблизительно в это же время он занял пост генерального секретаря Союза галлиполийцев, председателем которого был тогда престарелый артиллерийский генерал Репьев. Одновременно Орехов стал выпускать под своей редакцией новый, им самим основанный «боевой» антисоветский журнал «Часовой». На страницах журнала Орехов в течение всех 15 лет довоенного периода и последующих послевоенных лет звал русское зарубежное контрреволюционное офицерство на «последний и решительный бой» с Советской властью, а Евгений Тарусский печатал очерки летней лагерной жизни эмигрантских детей на Лазурном береге Средиземного моря. Этих детей (не более 100–150), собранных со всех уголков Франции, он величал «новой Россией», которой принадлежит будущее. Он уверял, что эмиграция может спать спокойно, пока у неё имеются эти замечательные дети, поющие хором «Боже, царя храни» и бережно выпестовываемые гвардейским полковником Богдановичем (в годы войны – заместителем эмигрантского «фюрера» Жеребкова в эмигрантском филиале гестапо).
Постепенно круг сотрудников «Часового» расширялся. В нём начали принимать участие бывшие офицеры генерального штаба, военные историки, военные бытописатели, фельетонисты и т.д.
«Часовой» явно пришёлся «ко двору» воинствующей клике правого сектора белой эмиграции. Начальники РОВСа в свою очередь были в восторге и от журнала, и от его редактора. Орехову дали в качестве служебного редакционного помещения одну комнату в помещении РОВСа (впоследствии редакция перешла в его собственную маленькую квартиру в парижском предместье Аньер).
Дело расширялось, а сам Орехов пошёл в гору. В 1927 году он добровольно оставил должность секретаря Галлиполийского союза, передав её полковнику С.А. Мацылеву (впоследствии перешедшему на должность генерального секретаря РОВСа), и всецело отдался своему детищу, которое регулярно выходило два раза в месяц и расходилось по всем углам тех стран, где осели бывшие офицеры царской и белых армий.
Постепенно Орехов из фанфаронствующего мальчишки превратился в довольно крупную фигуру антисоветского зарубежья. Он бывал гостем в замке Шуаньи и вёл беседы с великим князем Николаем Николаевичем; имел возможность лицезреть «государя императора Кирилла»; находился в постоянном контакте с Врангелем, Деникиным, Кутеповым, Миллером; поддерживал связь с бывшими послами Временного правительства, финансистами, промышленниками, общественными деятелями правого сектора. В РОВСе он был вполне своим человеком и сумел угодить и «старикам» царской армии, и «штабс-капитанской молодёжи» белых армий. Его видели всюду: на молебнах, панихидах, торжественных собраниях, совещаниях, докладах, банкетах, где шумели и гремели эмигрантские витии правого толка.
Зато он открещивался как от чумы от «левого» сектора белой эмиграции – от милюковщины и керенщины. И милюковцев, и керенцев он считал предтечами большевизма и ненавидел их самой лютой ненавистью, которую только можно себе представить. «Левые» платили ему тем же: на страницах милюковских «Последних новостей» сотрудники этой газеты изощрялись в издевательствах и свистопляске вокруг «Часового», а попутно и всего РОВСа, который считал этот журнал своим официозным органом. Годами шла эта перепалка. С обеих сторон слышался скрежет зубов. Только война и вызванное ею закрытие и милюковской газеты, и ореховского журнала положили конец этому внутриэмигрантскому словесному и печатному побоищу.
В 1937 году французский политический корабль снова накренился «влево»: к власти вновь пришли радикалы и социалисты. Обстановка для воинствующих элементов правого сектора белой эмиграции складывалась неблагоприятно. Орехов перевёл редакцию и издательство своего журнала в Бельгию и обосновался в Брюсселе, где и застала его война. В Париже он бывал теперь лишь наездами.
В последние предвоенные годы он в своих антисоветских неистовствах делал ставку на Гитлера, видя в нём будущего «бескорыстного» помощника белого офицерства в деле «священной борьбы против большевизма».
Грозные события, неожиданно разразившиеся в июне 1941 года, казалось, задели и этого неукротимого антисоветского активиста. Казалось, что удар грома заставил даже и людей этой категории проснуться и понять бездну своего морального падения.
Увы… Это только казалось!
В первые дни после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз я случайно столкнулся с ним на Елисейских полях, одном из самых фешенебельных проспектов мира, заполненном в предвоенные годы тысячами мчавшихся автомобилей всех марок и десятками тысяч элегантных, одетых по последней моде пешеходов обоего пола. Сейчас он был пуст: ни одного автомобиля, несколько велосипедов и редкие прохожие. Шёл второй год гитлеровской оккупации Франции.
Я окликнул Орехова. До войны мне приходилось неоднократно бывать у него и лечить членов его многочисленной семьи. Я уже знал, что «Часовой» закрыт в Бельгии по распоряжению гестапо. Вид у Орехова был совершенно подавленный. Стараясь избежать иронии в голосе, я спросил его:
– Не кажется ли вам, Василий Васильевич, что ставка, которую вы и ваши единомышленники делали на Гитлера как на будущего «спасителя России», была тяжёлой и, простите меня за откровенность, преступной ошибкой?
– Да, это так…
Он низко опустил голову и добавил:
– Мы ошиблись, мы ужасно и непоправимо ошиблись… Гитлер – не союзник. Он – наш враг. Нам нужна великая, единая, неделимая Россия. Ему – уничтожение России и уничтожение славянства. Но Россия выдержит и это испытание. Меня ни на минуту не покидает вера в то, что Россия непобедима. Как это произойдёт, я не знаю, но победить Россию ему не удастся…
Мы шли по пустынному проспекту. Я продолжал:
– А не кажется ли вам, что ваша ошибка идёт гораздо дальше и что двадцать лет подряд вы и ваши единомышленники толкли воду в ступе, грезя о так называемой «будущей великой, единой, неделимой» и ведя борьбу с теми, кого вы считали расхитителями русской земли? Выходит ведь как раз наоборот: величие, единство и неделимость Российской державы сейчас с оружием в руках защищают вместе со всем русским народом те, которых вы считали своими врагами?..
– Выходит, что так… – тихо ответил он и ещё ниже опустил голову.
Больше мне не пришлось его видеть. Но в первые послевоенные годы я узнал, что эти проблески каких-то патриотических настроений, смутных, неясных и робких, рождённых разразившейся над родиной грозой, и этот намёк на какое-то перерождение традиционной эмигрантской идеологии коснулись Орехова только поверхностно. Подлинного перерождения, которое в эти годы наступило у тысяч эмигрантов, с Ореховым не произошло. Сейчас же после победы он поехал в Лондон, где в его старые опустевшие мехи было влито новое антисоветское вино. Вернулся он из Англии тем, чем был все 20 лет до войны. Об ошибках больше не было речи. Борьба «до победного конца» возобновилась, и труба «Часового» протрубила поход.
В настоящей главе мне неоднократно приходилось упоминать, что в 1920–1941 годах правой части эмиграции пришлось пережить очень много разочарований. Поэтому ряды воинствующего контрреволюционного офицерства медленно, но верно редели. Одна за другой лопались как мыльные пузыри диверсионные вылазки кутеповских, миллеровских и туркуловских агентов; «вожди» один за другим сходили в могилу; «весенние походы» превратились в сплошной анекдот. Надежды на «внутренний взрыв» в Советском Союзе рухнули. Воздушный замок, который выстроила эта часть эмиграции, дал такие трещины, что эмигрантской мысли далее оставаться в нём стало невозможно.
Очень многие из числа воинствующих «активистов» прозрели, частично или полностью. Отсюда их отход и от РОВСа, и от других антисоветских организаций. К 1941 году организации эти растеряли больше половины своих членов, отмежевавшихся от всякой антисоветской политики. Но другая часть продолжала бряцать оружием и трубила во все трубы о том, что «есть ещё порох в пороховницах». Когда же в международных отношениях наступали острые моменты, эта часть поднимала голову, бросалась во все авантюры, которые при данной ситуации были возможны, и, не добившись ровно ничего, отступала «на заранее приготовленные позиции», терпеливо выжидая, когда международная обстановка сложится снова так, что станет возможной новая реализация бредовых идей «крестового похода против большевизма».
В середине 30-х годов разразилась гражданская война в Испании. Нужно ли говорить, что сотни этих воинствующих активистов очертя голову ринулись в качестве добровольцев в мятежные войска генерала Франко. Эти профессионалы от контрреволюции составили во франкистских войсках целое подразделение, просуществовавшее до конца гражданской войны. Многие из них сложили там свои головы. Описаниями их «подвигов» были полны в те годы страницы «Часового».
Наступил 1940 год. Началась финская война.
Новое волнение в рядах «активистов». На этот раз война идёт на советской границе. Вот когда начнётся наконец настоящий «весенний поход», которого 20 лет ждут «рыцари белой мечты»!
В штабе РОВСа – оживление. Совещания старших начальников следуют одно за другим. Канцелярия штаба заполняется бывшими офицерами белых армий – шофёрами, рабочими с заводов Рено и Ситроэна, официантами парижских ночных кабаков, грузчиками, ночными сторожами. По сто раз в день слышится один и тот же вопрос:
– Когда же начнётся «русская акция»?
Председатель РОВСа генерал В.К. Витковский торжественно заявляет, что им отправлена главнокомандующему финской армии Маннергейму докладная записка, в коей он почтительно доводит до сведения фельдмаршала, что по его первому зову российское зарубежное воинство готово ринуться в бой с большевиками.
Генеральный секретарь РОВСа полковник С.А. Мацылев в свою очередь развивает перед собирающимися в заведуемой им канцелярии «рыцарями» идею «короткого удара по Петрограду» (так в эмиграции продолжали называть Ленинград), после чего в этом городе будет образовано под охраной финских штыков общероссийское правительство, которое и призовёт русский народ к свержению Советской власти.
Посетители внимательно слушают эти разглагольствования ровсовских стратегов и, придя домой, начинают укладывать рюкзаки и чемоданы.
Но ждать им приходится долго.
Фельдмаршал не удостаивает Витковского ответом, но делает при этом следующее высказывание, которое через ряд посредников доходит до улицы Колизе:
– Я веду борьбу не с красными русскими, а с русскими вообще. В услугах белых русских не нуждаюсь. В свою армию их не пущу.
Об этом заявлении мне впервые стало известно из уст Мацылева, которого я хорошо знал ещё до крымской эвакуации. Несмотря на своё положение, он весьма скептически относился ко всем беснованиям «рыцарей белой мечты» и в минуту откровенности признался с глазу на глаз, что, по его мнению, вся деятельность РОВСа в конечном счёте является лишь «толчеей воды в ступе» и больше ничем. Сам же он, по его словам, принимал участие в этой толчее только потому, что вне этого омута ему «некуда было податься» и что поэтому ему ничего другого не оставалось делать, как «плыть по течению», высказывать штампованные «белые мысли», разрабатывать стратегические планы борьбы с «мировым злом – коммунизмом» и быть постоянным и неизменным участником ровсовских молебнов, панихид, торжественных собраний и банкетов.
Высказывание Маннергейма вызывает в штабе РОВСа смущение. Полученного щелчка по носу скрыть нельзя. Ежедневные докучливые посетители канцелярии на улице Колизе расходятся понуря голову. Канцелярия пустеет.
Но вот подошёл грозный 1941 год. Значительная часть вчерашних антисоветских активистов и недавних поклонников Гитлера прозрела. Многие из них совершенно порвали с традиционной контрреволюционной психологией и чётко заняли патриотическую позицию.
Однако остались и неисправимые. В первую очередь весь командный состав РОВСа и других сходных с ним по духу организаций.
Лишь только весь мир облетело телеграфное сообщение о гитлеровском вторжении в Советский Союз, как начальник РОВСа Витковский обратился с призывом ко всем членам этой организации включиться в начатую Гитлером «священную борьбу» и вступать в ряды германской армии.
Десятки тысяч бывших подчинённых генерала Витковского во Франции, генерала Абрамова в Болгарии, атамана Краснова в самой Германии и других «военачальников» отвергли с проклятиями этот облечённый в форму приказа призыв.
Но некоторые с восторгом отозвались на него.
В Париже запестрели эмигрантские фигуры в немецкой военной форме с повязкой на руке и напечатанным на ней словом «переводчик» или в коричневой и чёрной форме вспомогательных германских военных организаций – военно-инженерной (так называемой «организации Тодта») и военно-транспортной (так называемой «организации Шпеера»). Незримое и неслышимое слово «измена» повисло в воздухе. Произнести это слово вслух никто не отваживался: Париж был полон агентами гестапо.
Одним или двумя годами позже начальники отделов РОВСа на Балканах приступили с благословения Гитлера и по прямому его указанию к формированию самостоятельного крупного военного соединения – так называемого русского «охранного корпуса», предназначенного для борьбы с югославской партизанской Народно-освободительной армией. Возглавил корпус генерал Штейфон, бывший начальник штаба генерала Кутепова. Весь командный его состав, сержанты и рядовые настояли из русских эмигрантов, живших в Югославии и Болгарии.
Корпус этот зверски расправлялся с югославскими партизанами, выступившими с оружием в руках против гитлеровских полчищ, оккупировавших Югославию, и оставил по себе в югославском народе такую зловещую память, которую, по выражению этих партизан, стереть сможет лишь сотня грядущих лет.
В предыдущем моём повествовании я рассказал о политической деятельности так называемого правого сектора русской послереволюционной эмиграции. Описал я её такой, какой она прошла перед моими глазами за время пребывания в Париже с 1926 по 1947 год. Само собой разумеется, что этот мой рассказ не претендует на исчерпывающую полноту. Я и не задавался подобной целью. Совершенно невозможно перечислить и нарисовать все политические фигуры этого правого крыла, промелькнувшие на парижском горизонте в описываемые годы. Столь же невозможно перечислить все мелкие организации, группы, союзы, объединения и общества, которые быстро возникали и быстро исчезали на этом горизонте. Да вряд ли это представило бы какой-либо интерес для читателя.
Упомяну ещё вскользь, что в те годы в Париже подвизался украинский «самостийник» Петлюра, убитый на парижской улице выстрелом из револьвера эмигрантом Шварцбродом, мстившим ему за массовое истребление евреев на Украине в 1918–1919 годах. Суд над Шварцбродом превратился в сенсационный процесс и кончился оправданием подсудимого.
В те же годы подвизался в Париже и на юге Франции пресловутый белогвардейский казачий генерал Шкуро, стяжавший в годы гражданской войны громкую известность на юге России своими убийствами, разбоем, грабежами и насилиями.
Доживал свои дни и умер в Париже известный анархист Махно.
Всех не перечтёшь.
Правый сектор белой эмиграции являлся численно главной составной её частью. Именно он «задавал тон» политической деятельности эмиграции в течение первой четверти века, прошедшей с момента Октябрьской революции. Но было бы ошибкой думать, что общий облик и мышление этого массива людей, а равно и других составных частей эмиграции оставались неизменными. Об этом я уже упоминал и к этому вопросу мне неоднократно придётся возвращаться в дальнейшем изложении.
Основной движущей силой в расслоении эмиграции и в постоянном изменении психологии её большинства (а в активных её группировках также и в перемене тактики) было общее политическое развитие в мире, в частности – и в особенности! – рост могущества и международного авторитета Советского государства. Уже крымская катастрофа 1920 года, а одним-двумя годами позже и последние «белые» катастрофы эпохи гражданской войны открыли глаза отдельным эмигрантам на истинное положение в Советской России и во всём мире и привели к полному краху их белой идеологии. Но в те годы число таких прозревших было ещё ничтожно. Следующим этапом было официальное признание Советского государства рядом европейских и неевропейских держав. У значительного числа эмигрантов окончательно рухнули надежды на возобновление иностранной интервенции. Отсюда отход от политиканства, приносившего этой категории эмигрантов только разочарования в их безнадёжных и безрассудных мечтаниях.
Очень большое значение для сдвигов белоэмигрантской психологии, в частности в военном секторе, имел рост военного потенциала Красной Армии, неуклонное её совершенствование и быстро возрастающая техническая мощь. Последнее признавали даже многочисленные её недоброжелатели из числа специалистов – иностранные и эмигрантские. Не укрылся от взора очень многих ранее реакционно настроенных белоэмигрантов и постепенный рост международного авторитета Советского Союза, а также его нарастающее экономическое могущество, сколь бы ни старались неисправимые «пророки» доказывать противное.
Тревожное международное положение середины и конца 30-х годов, возможность европейской или мировой войны вызвали у очень значительной части эмиграции стремление к полному пересмотру своих позиций в вопросе о том, какое место она должна занять в случае военного конфликта, в который был бы вовлечён и Советский Союз. Отсюда создание в Париже новой организации – Дома оборонца.
В Дом оборонца входили эмигранты, провозгласившие во всеуслышание лозунг безоговорочной защиты Советского Союза всеми доступными им способами в случае нападения на него извне. В эту организацию вошли и многие младороссы, не отрекаясь при этом от своего лозунга «Царь и советы».
Все без исключения «оборонцы» были арестованы французскими властями в день объявления войны (2 сентября 1939 года) и отправлены как «подозрительные» в административном порядке в один из концентрационных лагерей Юго-Западной Франции. Часть его узников по распоряжению германского командования была освобождена оттуда вскоре после разгрома Франции в 1940 году. Все же остальные «оборонцы» поплатились за свой патриотический порыв почти пятилетним пребыванием в петеновских тюрьмах и лагерях, из которых вышли живыми далеко не все. Многие из них тремя годами позже выехали в Советский Союз в качестве советских граждан.
Говоря об эволюции эмигрантской политической мысли, я должен упомянуть ещё об одной организации, носившей название Союза возвращения на Родину. Она появилась в начале 20-х годов и существовала долго, но охватывала сравнительно ограниченный круг эмигрантов.
В заключение этой главы мне остаётся сказать несколько слов о «левом» секторе эмиграции, далеко не столь многочисленном по сравнению с правым и в свою очередь делившемся на ряд отдельных групп. Наиболее сплочёнными и многочисленными в нём были те круги, состоявшие почти исключительно из интеллигенции, которые группировались вокруг П.Н. Милюкова – лидера дореволюционной конституционно-демократической (кадетской) партии (после Февральской революции переименованной в республиканско-демократическую).








