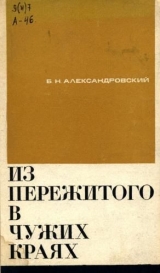
Текст книги "Из пережитого в чужих краях. Воспоминания и думы бывшего эмигранта"
Автор книги: Борис Александровский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Читателю, родившемуся и воспитанному в советском обществе, довольно трудно представить себе эту лестницу. А между тем она не фантазия, не миф и не политический плакат, а нечто вполне реальное.
Ни талант, ни ум, ни образование, ни воспитание не определяют порядкового номера ступени, на которой очутится человек, попав в любое государство капиталистического мира. Его положение в этом классовом обществе, разделённом непроницаемыми перегородками, определяют исключительно материальные ценности, которыми он располагает: деньги, банковский текущий счёт, рента, драгоценности, недвижимость, дорогая квартирная обстановка, торговый фонд, пай в акционерном обществе или какая-либо редкая специальность, нужная в данный момент социальной верхушке данного государства. Если ничего этого у него нет, то он ни при каких обстоятельствах не сможет занять какую-либо другую ступень, кроме самой низшей. И ему не помогут ссылки на то, что всё это у него когда-то было. Никого не интересует то, что было. Принимается во внимание только то, что есть. Это – неумолимый закон жизни капиталистического общества. Он-то и определяет судьбу человека и его положение в этом обществе.
Именно это и случилось с белой эмиграцией.
Лишь единицы из её состава имели за границей к моменту революции какие-либо материальные ценности, давшие им возможность независимого сносного существования. Вся остальная масса явилась на берега Балканского полуострова, в Германию, Францию, Чехословакию и другие страны в том виде, который чётко и лаконично обрисован в латинском изречении: «Omnia mea mecum porto» («Всё, что у меня есть, я ношу с собою»).
С первого же дня пребывания за рубежом перед новоявленными эмигрантами встали вполне реальные вопросы: что делать дальше? Как существовать? Где, как и чем зарабатывать себе хлеб насущный?
Капитализм ответов на эти вопросы не даёт. Делай что хочешь! Существуй как знаешь! Зарабатывай как можешь!
Дальше произошло то, что должно было произойти: вчерашние адвокаты стали ночными сторожами, архитекторы – шофёрами, инженеры – грузчиками, фрейлины её величества – официантками, начальники департаментов – швейцарами, полковники, капитаны, поручики – шахтёрами, грузчиками, дворниками, жокеями, лакеями, уборщиками.
Интеллектуальный труд разделяет в капиталистических странах судьбу труда физического: предложение этого труда всегда превышало и превышает спрос. Отсюда безработица и в этом секторе.
Лишь очень немногим эмигрантам удалось как-то зацепиться за окружающую их жизнь и устроиться на работу по своей специальности. Вся остальная масса расположилась на последней ступени лестницы и так и не смогла сойти с неё в течение всех последующих лет.
Очутившись в «стане погибающих», эти люди, познавшие когда-то сладость жизни «стана ликующих», почувствовали себя униженными и оскорблёнными до крайнего предела. Они затаили в себе глухую злобу. Но злоба эта потекла совсем не по тому руслу, по которому она, следуя законам логики, должна была бы течь. В описываемую пору ни один русский белый эмигрант не отдавал себе отчёта в том, что судьба и положение в обществе его самого и его сотоварищей есть не более как частный случай общей судьбы всех эксплуатируемых. Его злоба против эксплуататоров, на которых ему, попав за границу, пришлось работать, была бы вполне понятна и закономерна. Он же обрушил её целиком на всю страну, в которой теперь работал, и на народ, среди которого он жил, считая их виновниками своего падения.
А между тем ни страна, ни народ были тут ни при чём. В частности, как мне уже приходилось отмечать в предыдущей главе, общая конъюнктура, сложившаяся в Болгарии в описываемые годы, была очень благоприятной для эмигрантов.
Болгария (так же как и Югославия) согласилась принять в 1921 году несколько десятков тысяч человек – бывших военнослужащих врангелевской армии, донских казаков и «гражданских беженцев». Я уже говорил, что при этом решении играли роль не только политические соображения, но и глубоко вкоренившиеся в сознание каждого болгарина идеи славянофильства и чувство глубокой признательности России и русскому народу за освобождение в 1878 году от пятивекового турецкого владычества.
Попав в Болгарию, бывшие обитатели галлиполийского, лемносского и константинопольского лагерей в подавляющем большинстве очутились на тяжёлых, изнурительных и скуднооплачиваемых работах у частных предпринимателей. И вот свою затаённую злобу и неприязнь к тем, на кого они вынуждены были трудиться, белоэмигранты перенесли на всю Болгарию в целом, на весь болгарский народ, на его культуру, искусство, быт и нравы.
За пять лет, проведённых мною в Болгарии, близко соприкасаясь с тысячами белых эмигрантов, я не запомнил ни одного случая, чтобы кто-нибудь из них заинтересовался болгарской историей и культурой, познакомился с богатой болгарской литературой и поэзией, изучил болгарское народное искусство и, наконец, хотя бы свободно говорил по-болгарски.
Русские эмигранты неизменно говорили в своей среде о Болгарии и болгарах в пренебрежительно-высокомерном тоне. Считая себя прямыми потомками того поколения, которое вступило в 1877 году на болгарскую землю в качестве освободителей, они претендовали на то, чтобы победоносные лавры их предков были целиком перенесены на них самих. Они недоумевали и негодовали, когда увидели, что болгарский народ отнюдь не склонен считать обоснованными эти странные претензии.
После этого читатель поймёт, что, когда в 1923 году для белых эмигрантов, осевших в Болгарии, открылась возможность переезда во Францию, тысячи их ухватились за неё с восторгом. Был провозглашён новый лозунг: «Лицом к Европе!»
А о том, что во Франции их ждут ещё более тяжёлые и изнурительные работы и что выход из создавшегося положения заключается не в том, чтобы переезжать из страны в страну, а в чём-то совсем другом, никто из них в описываемые годы не думал. «Ведь всё это временно. Завтра – «весенний поход», большевики будут свергнуты и мы с триумфом вернёмся в Россию…»
Итак, началось массовое переселение эмигрантов с Балкан во Францию. Оно продолжалось до конца 20-х годов, то есть до того момента, когда разразился очередной экономический кризис во всех странах капиталистического мира. Заказы, сыпавшиеся на французскую промышленность из-за границы как из рога изобилия, кончились. Часть фабрик и заводов закрылась. Торговые предприятия лопались одно за другим. Приток туристов, давший Франции в 1926 году 2 миллиарда долларов, прекратился. Русских эмигрантов, работавших на заводах, – шахтах и других частных предприятиях, выкинули за борт первыми.
Но всё же за 1923–1927 годы во Францию переехало с Балкан несколько десятков тысяч эмигрантов.
Лозунг «Лицом к Европе!» временно давал им надежду и иллюзию некоторого приобщения к «настоящей европейской жизни» вместо «прозябания в какой-то деревне», как они часто называли страны Балканского полуострова. Но чувства их к Франции были довольно смутными и во всяком случае далёкими от восторга.
Психологический «климат» во Франции для русских эмигрантов был совершенно иной, не имевший ничего общего с тем отношением, какое они встретили в 1921 году в Болгарии.
На этом «климате» стоит остановиться подробнее. Начинать опять приходится издалека.
Первую мировую войну русское интеллигентное общество, за исключением истинно революционной его части, относившейся к войне непримиримо, встретило с сознанием каких-то сверхвысоких и благородных целей, какие эта война якобы преследовала. Тут были и самые тёплые чувства к обиженной Австрией «младшей славянской сестре» – Сербии, и освобождение из-под ига габсбургской монархии западных и южных славян, и религиозный фанатизм под лозунгом «Крест на святую Софию!», и политический лозунг «Константинополь и проливы!». Сверх всего этого ненависть к прусской военщине, преклонение перед страданиями раздавленной Бельгии, восхищение так называемыми «демократическими свободами» союзных парламентарных государств и многое другое.
Словом, кажется, было всё, кроме самого главного – понимания настоящих причин, вызвавших эту бессмысленную бойню, обошедшуюся Европе в 10 миллионов человеческих жизней.
Истинной физиономии империализма никто, кроме просвещённых в вопросах социологии одиночек, разглядеть не смог. На западноевропейских союзников это общество смотрело с благоговением и восторгом. Отношение его к ним было проникнуто духом рыцарской верности. В своём маниловском прекраснодушии оно верило во взаимность этих чувств.
Но это длилось недолго.
В 1916–1918 годах я в качестве младшего врача одного из пехотных полков русской армии, занимавшего участок фронта в лесах и болотах Полесья, был свидетелем того, как в этом созданном фантазией здании рыцарского служения союзникам появились глубокие трещины.
Фронтовое офицерство, как и всё русское интеллигентное общество, не могло не видеть, что, в то время как русские армии, плохо вооружённые и истекающие кровью, устилали своими трупами грандиозные пространства в ходе военных операций, предпринятых с целью облегчения положения западных союзников, эти союзники, развернувшие к 1916 году всю свою военно-техническую мощь, не спешили облегчить положение своего великого союзника на Востоке, когда ему приходилось туго.
На Востоке: сводки о грандиозных наступательных операциях, о взятых городах, о занятых обширных территориях или же, наоборот, об отступлении истекающих кровью, почти безоружных армий и об оставленных городах, уездах, губерниях.
На Западе: «Нами взят домик паромщика…» или: «Нами оставлен домик паромщика…»
Шила в мешке не утаишь. Нельзя было утаить и того, что русское интеллигентное общество раньше не знало психологии правящих классов и военного командования западных партнёров по союзу, именовавшемуся Entente cordiale (Сердечное согласие).
А психология эта в данном вопросе была необыкновенно проста: «Воевать до последней капли крови… русского солдата!» Свои же союзнические обязательства выполнять весьма своеобразным способом: продавать этому союзнику пушки, пулемёты и винтовки, в которых он так нуждается; взимать за них плату золотом; извлечь прибылей от этой продажи не 20 и не 30 процентов, как в мирное время, а 100, 200 и более.
Не правда ли, неплохо?
Вот почему к концу первой мировой войны определённая часть русской общественности говорила об Англии, Франции, Бельгии, Италии и США тоном нескрываемого раздражения и злой иронии:
– Не союзники, а «союзнички»!..
С этим раздражением и неприязнью и вступило во Францию после первой мировой войны большинство русских эмигрантов. Последующие годы ещё более усугубили эти чувства. По каким причинам – об этом будет сказано в одной из последующих глав.
VII
Политическая деятельность эмиграции
К середине 20-х годов «русский Париж» как политический центр русской послереволюционной эмиграции полностью сформировался. Но прежде чем говорить о политической деятельности этой эмиграции, необходимо сказать несколько слов о том, что следует понимать под термином «русская эмиграция», так как в этом понятии, казалось бы простом, допускались и допускаются некоторые неточности.
Первая неточность заключается в том, что вся проживавшая за рубежом масса русских отождествляется с «эмиграцией» в узком смысле слова. В понятие «эмигранты» нельзя, например, включать русских – постоянных жителей государств и областей, отколовшихся от Российской империи после революции. Далее, нельзя назвать эмигрантами русских военнопленных 1914–1917 годов, а также офицеров и солдат бригад, посланных царским правительством в 1915 году на помощь Франции и по каким-либо причинам застрявших за границей (за исключением тех, кто не пожелал вернуться на родину из политических соображений). Не принадлежат к эмигрантам и те лица, которые выехали за границу до революции по делам личным, семейным, торговым, имущественным и т.д. и которые застряли там в силу тех же обстоятельств.
Вторая неточность заключается в том, что понятие «эмигранты» часто отождествляется с понятием «политические», то есть антисоветские эмигранты. Между тем среди всей многотысячной массы эмиграции в целом очень значительное число эмигрантов полностью отмежевалось от всякой эмигрантской «политики» антисоветского стиля и не принимало никакого участия в том бесновании и в той толчее воды в ступе, которые столь характерны для так называемой «активной» части эмиграции.
Эти люди мечтали лишь о том, чтобы рано или поздно соединиться с родиной, притом с родиной вполне реальной, а не той фантастической «будущей Россией», которую создало воображение «активной» эмиграции. Временно же, находясь за рубежом, они стремились лишь к тому, чтобы честным трудом добыть себе средства к существованию. Увы! Капиталистическая система отказывает в этом праве миллионам людей, и среди этих миллионов людей из «стана погибающих» оказались вкрапленными и многие десятки тысяч русских эмигрантов.
Читатель вправе задать вопрос: а из кого же состояла так называемая «активная» часть эмиграции?
В иностранных кругах, а отчасти и среди отдельных советских людей в довоенные годы имел хождение миф, будто вся эта эмиграция вообще состояла из «князей, графов, сановников, банкиров и помещиков». Едва ли нужно говорить, что подобные представления – совершенный примитивизм. Все перечисленные лица не составляли и одного процента эмиграции.
Но с другой стороны, нельзя отрицать и того факта, что численное соотношение представителей различных классов и социальных прослоек было в эмиграции не таким, каким оно было в дореволюционной России. Процент рабочих, крестьян и мелких ремесленников среди эмигрантов был совершенно ничтожен. Основная масса «активной» эмиграции состояла из белых офицеров, недоучившихся студентов, мелких и средних чиновников, старых царских офицеров, дворян, торговцев, мелких промышленников и некоторого количества лиц интеллигентных профессий.
Верхушка «активной» части эмиграции была представлена в послереволюционные годы обанкротившимися лидерами бывших политических партий; бывшими редакторами газет; бывшими полководцами, растерявшими свои армии и своих подчинённых; бывшими промышленниками, фабрикантами и финансистами, лишёнными фабрик, торговых предприятий и банков; бывшими сановными вельможами, мечтавшими о возрождении самодержавного царского строя. Далее шли всякие претенденты на царский престол – «фюреры», «вожди» и «вождики» всех калибров, всякого рода «главы» новых партий и группировок, выскочки, ловкачи, политические шарлатаны, авантюристы, невропаты и психопаты, новоявленные истерические «орлеанские девы» и просто пройдохи и чуть ли не уголовные преступники. Все они шумели, кричали, бранились, умоляли, обещали, угрожали…
Довольно трудно полностью перечислить все нюансы антисоветской политической мысли, царившей в 1917–1941 годах в эмиграции. Невозможно также перечислить все партии, союзы, общества, группировки и другие эмигрантские организации, исчислявшиеся сотнями. Многие из них внезапно появлялись на эмигрантской политической арене и столь же внезапно таяли и исчезали. Другие обнаруживали необыкновенную живучесть, несмотря на давно поблекшие лозунги и покрывшееся плесенью и пылью содержание. Одни – вроде пресловутого РОВСа – насчитывали в своих рядах десятки тысяч членов, в других их числилось каких-нибудь три-четыре десятка, вроде, например, анекдотического Общества ревнителей памяти государя императора Николая II или какого-нибудь Общества бывших воспитанников пензенской гимназии.
В оценке русской послереволюционной эмиграции часто делают ещё одну существенную ошибку, а именно считают, что эмиграция представляла собою сплочённую монолитную массу. Это – величайшее заблуждение. Общего в «активной» эмиграции было только одно: её антисоветское настроение. В остальном эта расплывчатая, аморфная масса потерявших прежнее положение, озлобленных, с надломленной волей и уязвлённым самолюбием людей была полна внутренних противоречий и раздиралась постоянной междоусобной борьбой, переходившей в бешеную грызню. Взаимная грызня представляла собою характернейшую черту её жизни. Время от времени иностранцы, входившие по какому-либо поводу в контакт с эмигрантской массой, задавали эмигрантам вопрос:
– С кем же, собственно говоря, вы ведёте борьбу – с Советской властью или друг с другом?
Несмотря на обилие нюансов эмигрантской политической мысли, всю «активную» часть эмиграции можно было бы условно разбить на две основные составные части: правый сектор и «левый» сектор.
Трудно передать ту бешеную ненависть, которую питали люди этих двух категорий по отношению друг к другу, и те взаимные проклятия, которыми они осыпали друг друга.
Вот, схематично, образ мыслей правых: «Это вы, проклятые и слюнявые российские интеллигенты, устроили нам «всё это»! Это вы десятками лет просвещали народ, натравливали его на законного царя, расчистили путь революции и подготовили торжество хама! Вы погибли сами – и это очень хорошо, вы этого заслужили. Но вы погубили всю Россию. Этого вам русский народ не простит и никогда не забудет…»
Кто, когда и при каких обстоятельствах дал им право говорить от имени русского народа, правые, конечно, не уточняли.
«Слева» в ответ им неслось: «Это ваша вина, тупоголовые бюрократы и царские дармоеды! Если бы вы вовремя послушались нас и осторожно спускали бы Россию «на тормозах», то никакой революции не было бы! Вы погибли – это отлично, лучшего и желать нельзя. Но вы погубили Россию и русский народ! История назовёт вас истинными виновниками «всего этого»».
За исключением крайних монархических группировок, правая половина эмиграции включала в себя все те элементы, которые в построении своего воздушного замка «будущей России» не заостряли вопроса о форме правления и о той власти, которая «придёт на смену большевикам». Люди эти желали только одного: падения Советской власти, а что будет дальше – задумывались не слишком много. Они были реставраторами, но реставрировать собирались только капиталистический строй, вне которого они не мыслили себе «будущей России».
Старые кадровые офицеры царской армии, дворяне и представители чиновного мира, конечно, больше тяготели к монархии, которая обеспечивала им привилегированное положение в обществе. Офицерам военного времени, составлявшим ядро РОВСа, и части сильно поправевшей за годы революции и гражданской войны интеллигенции, наоборот, больше импонировала фигура некоронованного «вождя», который, по их мнению, чаяниям и вожделениям, рано или поздно въедет на белом коне в Москву, воздвигнет тысячи виселиц и перевешает всех, кого они считают «врагами народа». После этого начнётся построение «будущей России» и сами собою потекут молочные реки в кисельных берегах.
Этот правый сектор эмиграции ненавидел самой лютой ненавистью всех тех, кто «расчистил путь большевизму» и кто, будучи в эмиграции, не был склонен верить ни в «законного царя» ни в «вождя на белом коне». Всё, что не умещалось в эту веру, почиталось ими керенщиной. Имя Керенского они не могли произносить без скрежета зубовного. В газетах, брошюрах, листовках, мемуарах осыпали его ругательствами и проклятиями. С их точки зрения, именно Керенский и все «слюнявые интеллигенты» виновны «во всём». Под этим «во всём» они подразумевали Октябрьскую революцию и утерю ими своего привилегированного положения.
Победу Октябрьской революции они объясняли тем, что у Временного правительства в те дни не хватило нескольких батальонов и батарей. А не хватило их потому, что «Керенский прошляпил». Располагай он этими батальонами и батареями, никакой революции и не было бы. Просто и ясно.
Эта часть эмиграции читала преимущественно ежедневную газету «Возрождение», выходившую в Париже и издававшуюся миллионером-нефтяником Гукасяном (или, как его чаще звали, Гукасовым). Газета была выразительницей так называемого «умеренного» течения правого сектора. Редактором её был в первые годы П.Б. Струве, бывший «легальный марксист», опрометью убежавший задолго до гражданской войны с позиций всякого марксизма, хотя бы и легального. Через несколько лет, после конфликта с Гукасовым, он был уволен этим полновластным хозяином газеты с должности редактора. Его сменил некий Семёнов, оставшийся редактором вплоть до прекращения её существования в 1940 году.
Газета «Возрождение» была довольно живучей. Просуществовала она 15 или 16 лет и имела большой круг постоянных читателей, главным образом среди правого сектора. Монархической пропаганды в прямом смысле она не вела, хотя о павшем строе говорила в почтительном тоне. Издателю и окружавшей его группе бывших крупных промышленников и финансистов было совершенно безразлично, какой образ правления будет в «будущей России» – монархический или республиканский. Важно было лишь одно: смести с лица земли ненавистный им социалистический строй и вновь занять в «будущей России», реставрированной на капиталистический лад, утраченное ими положение.
Изо дня в день на протяжении 15 лет со страниц газеты сыпались обещания скорого падения Советской власти. Делались ставки то на «крестьянское восстание», то на ближайший «переворот», который завтра совершит Красная Армия, то на неминуемый финансовый и экономический крах, который вот-вот произойдёт в СССР, то на вмешательство «международных сил» и на возможность войны, которая положит конец «затянувшемуся пребыванию большевиков у власти».
Учёные-экономисты с цифрами в руках доказывали, что пятилетка провалилась. Военные специалисты приводили «точные» данные, что Красная Армия не в состоянии вести никакой войны и способна лишь на парады да на разные показные трюки. Политические мудрецы каркали, что после смерти Ленина высший партийный аппарат неуклонно идёт к развалу. Одним словом, прочитав любой номер «Возрождения», эмигрант-читатель вполне закономерно мог начать укладывать свои чемоданы и готовиться к возвращению в «освобождённую от большевиков Россию».
Но не только с большевиками вело борьбу «Возрождение». Бешеная ненависть к «слюнявым интеллигентам, расчистившим путь большевизму», сквозила в каждой строчке этой газеты. Я не помню ни одного номера «Возрождения», в котором не было бы злобной ругани по адресу выразительницы общественного мнения «левых» эмигрантов – милюковской газеты «Последние новости» или по адресу Керенского и керенщины.
Значительно малочисленнее были своеобразные монархические группировки крайнего правого фланга. Когда в начале 20-х годов находившийся тогда в Италии и вскоре переехавший во Францию бывший верховный главнокомандующий русскими армиями в 1914–1915 годах великий князь Николай Николаевич возглавил в эмиграции «священную борьбу против большевизма», правый сектор эмиграции увидел в нём будущего «законного царя из дома Романовых», которому надлежало въехать на белом коне в Москву после «падения большевиков».
Однако превосходительные и сиятельные знатоки «основных законов Российской империи» из числа санкт-петербургской и царскосельской сановной знати быстро разобрались в вопросе о претендентах на престол государства Российского и заявили во всеуслышание, что считать «законным царём» великого князя Николая Николаевича никак невозможно, ибо права на оный престол, бесспорно, принадлежат двоюродному брату последнего царя великому князю Кириллу Владимировичу, и никому больше.
Николаевцы не сдались. Бывший «верховный» пользовался среди бывших военнослужащих несомненным авторитетом. Им импонировал этот властный, жестокий, с железной волей человек, солдат до мозга костей, гроза всего генералитета и офицерства войск гвардии и Петербургского военного округа ещё до первой мировой войны. В их воображении это была самая подходящая фигура для въезда в Москву на белом коне и для коронования в Успенском соборе.
Но кирилловцы тоже не уступили. Законы остаются законами. Никаких импровизаций в таком «важном» вопросе не полагается. И пока николаевцы в ожидании будущего коронования величали своего вождя «высочеством», кирилловцы успели посадить на трон новоявленного «помазанника божия» и объявить его «величеством» и «императором всероссийским».
Итак, на эмигрантском горизонте появился «император». Империи, правда, не было, но верноподданные имелись налицо. Они были представлены почти исключительно верхушкой павшего строя, то есть дворянской, чиновной и титулованной знатью.
Около «императора» выросла, как полагается, «собственная его величества канцелярия», во главе которой был поставлен некий капитан 2-го ранга Графф.
На долю некоторых «избранных» посыпались «монаршие милости». Началась раздача титулов и наград. Одной из первых удостоилась этой «чести» жена англо-голландского нефтяника-миллиардера госпожа Детердинг, русская по происхождению: она получила из рук «императора» звание «княгини Донской».
Как, в самом деле, не присвоить ей столь высокое звание? Ведь не воздухом же должны питаться «собственная его величества канцелярия» и весь громоздкий аппарат «власти», выросший вокруг «законного царя», да и сам «царь». А тут – соблазнительный запах нефти… И ласкающий слух звон жёлтого металла – долларов, фунтов стерлингов, гульденов. Никогда не мешает стать поближе к источнику этих благ. Ведь когда пробьёт час выступления в «крестовый поход против большевизма», «крепкая» валюта очень и очень понадобится!
Но заниматься только раздачей титулов – маловато. У «царя» есть дела не менее важные: нужно вплотную подойти к вопросу о построении «будущей России» под скипетром «законного царя из дома Романовых». В первую очередь необходимо обеспечить её министрами и губернаторами.
Да не подумает читатель, что я перехожу к пересказу анекдотов. Это – страничка подлинной и вполне реальной эмигрантской политической жизни, до слёз смешная по форме и бесконечно убогая по существу. В описываемые годы часто можно было встретить на парижских улицах или в вагонах метро эти музейные фигуры российских сановных старцев, горячо дискутирующих между собой по поводу «назначения» кого-либо из них на пост костромского губернатора или самарского вице-губернатора.
Значительно хуже обстояло дело у «законного царя» с армией. Ядром, из которого по эмигрантским чаяниям должна быть развёрнута армия «будущей России», был и оставался РОВС. А РОВС совсем не был склонен признавать Кирилла законным царём.
При жизни великого князя Николая он крепко держался за последнего как за «вождя». После его смерти «верховная власть» перешла к председателю РОВСа генералу Кутепову, которого бывший «верховный» назначил своим преемником. От «законного царя» РОВС всегда держался на почтительном расстоянии.
Но «законный царь из дома Романовых» в уныние не впал. Он столь же рьяно принялся за составление списков полководцев несуществующей армии, как до этого – за списки губернаторов.
Незадолго до войны великий князь Кирилл умер. На «престол» вступил его сын Владимир. Свистопляска с назначениями несколько поутихла, но полностью не прекратилась. Ряды «верноподданных» значительно поредели за естественной смертью лиц, их составлявших. Пополнения не было. Но оставшиеся в живых кирилловцы столь же ретиво, как и в предыдущие годы, служили панихиды по «в бозе почивающем государе императоре Кирилле» и молебны о здравии «благочестивейшего, самодержавнейшего государя императора Владимира». Вся их духовная жизнь протекала в фантастическом мире «будущей России», где им предстояло играть, по их мнению, только главные роли.
Не менее забавной политической группировкой 30-х и 40-х годов была разновидность кирилловцев – младороссы. Состояла она из совсем молодых или относительно молодых кирилловцев, заявивших в один прекрасный день во всеуслышание следующее: «Царь из дома Романовых – это, конечно, очень хорошо. Только подобная идеология всё же устарела. Спасение России не в одном царе. Нужно ещё одно слагаемое – народ. И не просто народ, а советы. Да, да, советы при царе! Ведь были же земские соборы в допетровской Руси! Почему бы не быть теперь советам? Итак, да здравствуют царь и советы!»
Рождение этой новой группировки, обособившейся в отдельную младоросскую партию, произвело целую бурю в эмигрантском стакане воды.
Правый сектор эмиграции вопил: «Позвольте, господа! Да что же это такое? Выходит, что и в эмиграцию уже успела проникнуть большевистская зараза! Не угодно ли: советы? Но ведь это же форменный большевизм! До чего мы дожили!»
«Левый» сектор был в свою очередь скандализован не менее правого, хотя в несколько ином направлении: «Чёрт знает что такое! Ну, народоправство – это очень хорошо и вполне понятно. Но ведь они докатились до советов! И при чём тогда царь? Получается сплошной ералаш и какой-то противоестественный симбиоз махрового монархизма с большевизмом».
Младороссы со своей стороны шумели: «Старая эмиграция сгнила. Мы, младороссы, – соль земли. Завтра в России будет переворот. Русский народ позовёт нас. Старой эмигрантской рухляди там делать нечего. Строить Россию будем мы. Мы будем помощниками законного царя из дома Романовых. Рядом с царём будут выборные советы. Царь и советы спасут Россию!»
Следует отметить, что в политическом профиле младороссов при всём его сумбурном характере проглядывали кое-какие черты, которые указывали на то, что в противоположность всем остальным эмигрантским партиям и группировкам младороссы до известной степени считались с происходящими в Советской России социальными сдвигами. Мне неоднократно приходилось слышать от отдельных младороссов, с которыми я сталкивался в моей врачебной деятельности, что руководство их партии вменяло в обязанность всем своим членам систематически изучать советские газеты и журналы (проникавшие тогда во Францию с большим трудом) и читать советскую художественную литературу, что в те времена среди так называемой «эмигрантской общественности» считалось крамолой и признаком «подлинной большевистской заразы». В последние предвоенные годы многие младороссы вступили в Дом оборонца – организацию, объединившую эмигрантов, стоявших на позиции безоговорочной защиты Советского Союза в случае нападения на него извне.
Но как ни шумели кирилловцы, удельный вес их на эмигрантской политической кухне был всё же очень незначительный. Николаевцы забивали их своею численностью.
Рождение этой «николаевской массы» в эмиграции относится к началу 20-х годов. Жадно ловившая каждую политическую фигуру, из какого бы болота она ни появилась, эмигрантская политическая мысль остановилась на великом князе Николае Николаевиче как на «вожде», как только он очутился вблизи от «русского Парижа».








