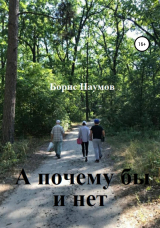
Текст книги "А почему бы и нет"
Автор книги: Борис Наумов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Борис Наумов
А почему бы и нет
Жизнь интересна в своём непрерывном течении,
но, ещё более интересная и забавная она, если
смотреть и оценивать её с высоты прожитых лет.
Мои наблюдения
Глава 1. Самые, самые мои детские годы. Трудности и преодоления
Я не раз спрашивал свою любимую, покойную маму:
– Это правда, что, когда я появился на свет, то через минуту я открыл один глаз и, как бы прищуривая другой, начал осматривать окружающую обстановку?
Мама сама однажды сообщила мне такую новость. Она говорила это в контексте какого-то разговора, то ли в шутку, то ли с целью приукрасить значение моего появления для нашей последующей жизни. Не знаю, но теперь уже спросить не у кого.
– Ну, может быть, и не через минуту, а через десять, или через день, не помню я точно этого, – уже более ответственно она отвечала, когда я позже во второй или в пятый раз задавал ей каверзный вопрос.
А мне очень хотелось узнать подробности о моём «любопытстве» в первые минуты своего земного пребывания. Отец тоже не вносил ясности в интересующую меня ситуацию и только загадочно улыбался, приговаривая при этом:
– Да, да! По-моему, ты уже народился с открытыми глазами. Ну, и потом тоже, они у тебя не закрывались никогда. Всё высматривали что-то, выпытывали, запоминали. Да и поступки твои, поэтому были загадочными и необъяснимыми, а приносили они нам немало хлопот.
В общем, как бы то ни было, толком я так ничего и не узнал о начале своего жизненного пути. Но, где-то там, в «закромах» моего серого вещества зародилось и сохранилось убеждение в том, что жизнь – это интересная штука, и надо идти по ней с открытыми глазами. Или, хотя бы, с одним из них.
Были предвоенные годы. Я ещё ничего не понимал, но лёжа в своей «зыбке» – так называлась подвешенная к потолку, качающаяся деревянная коробка-кроватка – я видел молодую, красивую маму. Она была очень добрая, ласковая, счастливая. Но, временами своими, широко раскрытыми, глазами я замечал на её счастливом лице непонятную мне озабоченность и тревогу. Я начинал плакать, высвобождать свои ручки из аккуратно скрученного одеяльца. Однажды, помню, мама наклонилась ко мне, и крупная слеза упала мне на щёчку. Резко дёрнув рукой, я освободился от плена и ладошкой вытер эту слезу. Как большинство детей, я тоже любил всё пробовать на вкус. Мамина слеза оказалась горько-солёной и в чём-то очень значащей. Я всю жизнь потом помнил этот вкус и всегда, в предчувствиях каких-то неприятностей, он ощущался у меня на языке. Много-много лет я не мог объяснить связь своих жизненных неудач или их ожидания с горько-солёным вкусом, и только потом, имея за плечами ворох прожитых лет, я понял источник таких ощущений.
Наверно, мне тогда ещё не было года, но необычайность маминой слезы заставила меня подняться, сесть внутри качнувшейся зыбки и дотянуться ручкой до мокрой полоски на щеке.
– Мама, не плачь, – прошепелявил я эти три слова, или что-то похожее на них.
Молчаливое удивление на несколько минут застыло на родном мамином лице.
– Не плачь, – повторял я, как мне казалось, самые важные и нужные в то время слова.
Наконец, мама ожила, улыбнулась и вытащила меня из тёплого лежбища. Она прижала к себе и начала целовать моё лицо. Я всё помню, и это, кажется, был первый эпизод моей жизни, который сохранился в памяти до самых последних лет.
У родителей был ещё сын Слава, на целых три года старше. Да и до него были ещё дети – два сыночка и дочка. Они в голодные годы тридцатых годов умерли от болезней и голода. Естественно, что их я не могу помнить, а говорю об этом только потому, чтобы представить маму уже опытной, видавшей виды женщиной.
– Не плачу я, родненький. Это слеза счастья упала на твою щёчку. Отец, иди сюда, послушай, как говорит твой сыночек, – обратилась мама к моему отцу.
Не знаю, с этого момента, или до него, мои любящие родители называли друг друга не по имени, а просто «отец» и «мать». Наверно, им это нравилось и казалось, так лучше всего проявлялась их взаимная любовь. Ну, что ж, пусть будет так, ведь главное не в словах, а в чувствах, которые они отображают.
А я не выдал более ни одного слова, когда мои родители восхищались и просили меня произнести ещё что-нибудь.
Только вот память такая странная штука, что важные, этапные события через некоторое время стираются, тускнеют, а совершенно незначительный эпизод в моей жизни остался в ней навсегда и, как я теперь понимаю, на уровне подсознания формировал мой характер, поступки и действия.
Сейчас, вспоминая и описывая эпизод моего первого «разговора» с мамой, я пытаюсь осмыслить и пояснить тот печальный или тревожный образ родного лица. Все мои последующие годы жизни, личный опыт, общения, и другая обширная информация позволяют теперь предположить, что в предвоенный год среди народа уже чувствовалось приближение большой беды. Разговоры об этом не велись, но каждый человек по-своему ощущал витающую в воздухе тревогу. Думаю, такой момент я и уловил на лице своей матери и впервые почувствовал, что слёзы даже родной матери имеют горьковато-солёный вкус.
После этого запомнившегося мне эпизода не случалось в моей жизни ярких событий. Знаю только, что я чувствовал любовь своих родителей и совершенно необъяснимую тягу к старшему брату Славику.
Приближалось лето сорок первого года. Я помню, беспричинно стал плакать, не имея на то никаких оснований. Не могу объяснить такое тогдашнее поведение, но сейчас чётко понимаю, что был полностью здоров, а слёзы и капризы появлялись без видимых на то оснований.

Папа, мама, Славик и я
Я уже крепко стоял на своих ногах, и настойчиво, но безуспешно пытался догнать или убежать от Славика. Лето было тёплое, и зелёная травка во дворе придавала детям ощущение всеобщего удовольствия и счастья. Мама позволяла нам с лихвой получать это счастье, хотя сама не принимала в этом участия и всё чаще и чаще оставалась в доме.
Она была беременна и, видимо, чувствовала себя не совсем комфортно. Я не понимал тогда её состояния, но, всё равно, мы с братом чего-то от неё требовали и получали необходимую ласку и заботу.
Грянул июнь сорок первого, который в корне изменил всю нашу жизнь и детство сделал суровым, пасмурным, голодным и безрадостным.
Папа работал на ткацкой фабрике и, не имея специального образования, сумел приобрести профессию красильщика и завоевать авторитет хорошего мастера своего дела. Он в первый же день войны был призван в армию и вместе с другими людьми мужского пола был направлен на фронт. Отдельными штрихами всплывают у меня в памяти события тех дней. Слёзы, душераздирающий плач женщин, крики детей и бесшабашные, под гармошку, песни подростков. Всё это создавало в моей детской головке полный хаос и неразбериху.
Больше всего, действовали на моё сознание и поведение беззвучный плач и крупные слёзы на щеках мамы. Она, провожая отца, придерживала руками округлившийся живот, что-то шептала ему, сделав полностью мокрым его лицо. Слов родителей мы со Славиком не слышали, но понимали, что в эти минуты рушится наш привычный, счастливый мир. А тревога и печаль взрослых прочно входили в наши детские головки.
Несколько дней после отъезда отца в доме стояла гнетущая тишина, и любые неуклюжие детские попытки, хоть что-то, вернуть из прошлого в сегодняшний день заканчивались неудачей и ещё, более убийственной, печалью на родном лице.
Мама несколько дней ходила работать на фабрику, откуда почти всё мужское сообщество ушло на фронт. Но, фабрика должна была работать и выпускать качественное сукно, так необходимое теперь для пошива шинелей, портянок, одеял. Работа была тяжёлая, изнурительная, и организм мамы не выдерживал двенадцатичасового издевательства над собой. Однажды, к концу рабочей смены, ей стало плохо, и она упала возле ткацкого станка. Руководство фабрики разрешило ей больше не выходить на работу и оформить декретный отпуск. Теперь мама была всё время с нами дома. Мы с братом, особенно я – мне исполнилось два годика – были довольны такой переменой в нашей жизни. Но, были в этом и отрицательные моменты. Дело в том, что на фабрике, работающим по двенадцать-четырнадцать часов труженикам, давали на обед нечто съедобное. Я помню сейчас это «нечто», потому, что мама съедала половину, или даже меньше, такого обеда, а остальное приносила нам – голодным малышам. Это была какая-то перетёртая, полужидкая субстанция, название которой я и теперь я не могу подобрать. Тем не менее, мы с братом всегда набрасывались на недоеденную мамой порцию и с превеликим удовольствием её поглощали.
А теперь, когда мама перестала ходить на работу, исчезла и эта наша радость.
Весной сорок второго года у нас появился братик. Мы, или я буду говорить о себе, не совсем понимали, откуда и зачем появился этот кричащий комочек. Но, он занимал почти всё свободное мамино время, а мы со Славиком потеряли часть её любви и внимания. Сначала нам было обидно от такой потери, но, потом, со временем, видя, как мама хлопочет вокруг появившегося у нас человечка, наша с братом обида и недовольство стали исчезать. Мы чаще стали подходить, смотреть на его любопытное личико и качать, перешедшую к нему по наследству, зыбку.
Трудно сказать, что испытывала тогда мама от появления нового члена семьи: любовь, радость, а может быть, разочарование от неудачного времени для вхождения в этот мир. Малыш был слабеньким, плаксивым и, возможно, чем-то больным. Мама не могла полноценно накормить его, так как и сама всегда была полуголодной, а поэтому малыш – назвали его Шуриком – часто плакал и медленно набирал вес.
Мне, в два с половиной года, трудно было понять, почему этот человечек постоянно кричит. Но, память моя, обострённая трудностью существования, до сих пор хранит моменты, как жарким, летним днём мы со Славиком гладили его оголившиеся ножки и ручки. Они были тёплые, мягкие и очень тонкие. А у мамы в такие моменты, глядя на нас, глаза почему-то становились влажными и грустными.
Летом мама опять пошла на фабрику, и мы со Славиком остались одни на хозяйстве. Она оставляла нам еду для братика и давала подробную инструкцию, как и когда его надо кормить. Мы и сами должны были чем-то питаться, поэтому дополнительно к крохам, которые оставляла мама для нас, мы использовали дары лета. Щавель, «конёвки» – конский щавель, грибы – луговки и что-то ещё в сыром виде. Всё это прямо с корня шло в наши животы. Мы набивали их так, что чувство голода исчезало, зато появлялось постоянное ощущение боли в животе. Мне долго потом казалось, что бурчание и непрерывная боль – это непременное состояние человеческого организма, без которого никто не обходится.
Когда мы со старшим братом и такими же друзьями – одногодками выходили в поле или на луг за добычей, за младшим братиком присматривала наша двоюродная сестра Нюра, которая была старше Славика лет на пять и жила по соседству с нами.
Мама уходила часов в шесть утра и приходила только вечером – уставшая, молчаливая, но также любящая и ласковая. Она тут же делила пополам принесённое для нас со Славиком хлёбово, и мы с удовольствием, после дневной зелёной диеты, вмиг поглощали его. А вот с Шуриком у неё возни было гораздо больше. Молока, как я теперь понимаю, у неё не было, или почти не было, и она умудрялась что-то для него сделать. Но, это «что-то», видимо, ему не очень нравилось, и он выплёвывал его, сопровождая это действо очередным повышением громкости плача. Мама уговаривала его, снова давала ему отведать приготовленную еду, но успехов не всегда добивалась.
Сейчас я вспоминаю эти процедуры, удивляюсь и восхищаюсь терпением матери, её изобретательностью. Она, уставшая до изнеможения на работе, изготавливая тёплые солдатские портянки, которые, может быть, по счастливой случайности, достанутся и её мужу, нашему отцу, умела ещё и нас, троих малышей, приласкать и как-то накормить.
А завтра в пять утра надо вставать, чтобы снова повторить прошедший тяжёлый день.
Оставаясь дома вдвоём, мы – два малолетних «няня», не зная ещё ничего о детском воспитании, пытались разговаривать с Шуриком. А он, пялив на нас свои бессмысленные глазки, наверное, думал: «Оставьте меня в покое». Или ничего не думал, просто смотрел на нас и хотел кушать и пить, пить и кушать. Мы давали ему бутылочку с какой-то жижей, которую он не полюбил с «самого глубокого» детства.
Время шло, наступила осень, и зелёная полевая подкормка исчезла из нашего рациона. Живот стал болеть меньше, зато голодное журчанье, как музыкальное сопровождение, постоянно напоминало нам о том, что жизнь продолжается и надо терпеть и ждать.
Ножки и ручки у нашего Шурика не становились толще, и мы, по крайней мере я, не испытывали по этому поводу беспокойства. Плакать он стал меньше, видимо понимая, что плачем от нас ничего не добьёшься. Это я сейчас, на склоне лет так шучу, а тогда каждый из нас жил той жизнью, которая нам досталась.
Ближе к зиме мама пыталась научить Шурика, если не стоять на ножках, то хотя бы сидеть на диване. Она обкладывала его со всех сторон подушками, надеясь на то, что так окрепнет его спинка и шейка, и он постепенно сам сможет садиться. Но успехов не было. Как сейчас, помню, мы повторяли процедуру укрепления позвоночника обкладыванием подушками, но через некоторое время Шурик умудрялся раздвинуть все ограничения. Он падал на диван боком или носом в подушку. Нам со Славиком стоило большого труда и внимания, чтобы не потерять бдительность, сразу поднять его и не дать задохнуться в подушках.
Когда наш отец был дома, мы жили, как все рабочие семьи – не бедно и не богато. Всё, самое необходимое в доме было – и надеть, и поесть. А теперь, в тот единственный выходной день в воскресенье, когда маме надо было набраться сил и заняться детьми, она что-то собирала в узелок и с другими женщинами шла в ближайшие деревни, чтобы это «что-то» поменять на еду. Она приносила немного муки, какой-то крупы, чаще всего пшена и, если удавалось, кусочек сала. К вечеру она возвращалась усталая, но довольная. Обнимая нас, она всегда в таких случаях говорила:
– Вот теперь мы заживём, отъедимся.
При этих словах у нас почему-то наполнялся рот слюнной, и мы радостно предвкушали будущее «отъедание».
Надо ещё сказать, что жили мы в частном доме, и у нас был огород. Не знаю, когда и как, может быть, с помощью Нюры, мама умудрялась в огороде что-то посадить: немного картошки, свёклы, капусты, тыквы. Одним словом, не богатые, но какие-то продовольственные запасы на предстоящую зиму она делала.
В тёплые летние дни мы со старшим братом, успокоив и накормив Шурика, выходили на улицу поиграть с такими же мальчишками. В этих наших прогулках таилась одна опасность, о которой нас всё время предупреждали взрослые соседи и наша мама. Дело в том, что раз в неделю, а может быть, и чаще, по улицам, заглядывая в каждый дом, ходили группы цыганок. Они были ярко одеты, шумные и непредсказуемые. Подходя к дому, они стучали в окно, приглашая хозяев к разговору. Они предлагали женщинам погадать, за что надеялись получить награду. В домах были, чаще всего, одни старушки, которые, несмотря на бедность, часто соглашались послушать цыганок, узнать от них что-нибудь о своих мужьях, сыновьях. Обычно цыганки говорили женщинам, что их мужики живы, хорошо себя чувствуют и скоро вернутся домой. Женщины хотели это услышать, верили всему и благодарили цыганок, отдавая всё, что можно было оторвать от своего стола: кто-то даст одно-два яичка, у кого ещё осталась корова, тот угощал молоком или творогом. Вот такое взаимовыгодное существование образовалось в те сложные времена.
А нам, малышам, взрослые, в том числе и наша мама, говорили, что цыганки воруют детей и уносят к себе в табор. Что там цыгане делают с детьми, никто не знал, но нам было достаточно и этой информации.
Мы, малышня, только завидев издалека разноцветные, непонятные для нас одеяния, разбегались по домам и прятались там, пока цыганки не пройдут в обратном направлении.
Однажды мы потеряли бдительность, и я, не успев забежать в дом, спрятался в зарослях крапивы, которая выросла возле дома высотой в рост человека. Цыгане были страшнее крапивы, поэтому я, не ощущая боли от ожогов, притаился, дрожа всем телом. Мне хотелось плакать от того, что страшно, больно и обидно – все разбежались, а меня оставили на «съедение» цыганам.
Подойдя к нашему дому, одна из цыганок, которая была постарше, увидела мои голые ноги, торчащие из зарослей крапивы. Она подошла ко мне и таким ласковым, какого я не ожидал услышать от цыганок, голосом сказала:
– Не бойся, сыночек, вылезай оттуда. У тебя ножки и ручки горят красным пламенем.
А я, не доверяя её вкрадчивому голосу, залез ещё дальше в заросли, надеясь, что оттуда меня она не достанет.
«Вот и всё, – думал я – сейчас она вытащит меня и засунет в свою большую сумку, висевшую у неё за плечами».
Что будет со мной дальше, я не пытался угадать. Мне было достаточно представить только первый шаг, который сделает эта страшная цыганка.
Она вынула откуда-то из складок своего обширного платья одно яичко и удивительно соблазнительно пахнувшую лепёшку. Сил моих не было, чтобы отвести глаза от такой приманки.
– Возьми вот, поешь, сыночек, – протянула она мне, видно, только что у кого-то полученную за гадание награду.
Дрожащими руками, ещё не вылезая из крапивы, я попытался взять угощенье, потеряв на время страх от возможности цыганского плена.
Цыганка наклонилась и нежно рукой провела по обожжённым крапивой моим ногам.
Такой второй материнский жест полностью меня обезоружил, и я потихоньку начал выползать из убежища. Странным образом от нежного прикосновения женской цыганской руки мои ноги перестали гореть от ожогов. Я не смотрел ни на свои ноги, ни на цыганку, а видел только протянутые мне «вкусняшки» и, преодолев страх, осторожно взял всё, что было у неё в руке.
– Не бойся меня, дорогой. Мы не едим детей. У меня самой в таборе трое таких малышей, как ты.
Эти слова ещё больше меня обезоружили, и я с жадностью начал есть лепёшку, оставляя яичко на закуску.
Съев половину лепёшки, я, наконец, посмотрел в глаза цыганки, которая стояла рядом и по-матерински глядела на меня. Я увидел в её глазах нежность и слезу, тихо ползущую по щеке.
Положив яичко в карман штанишек, я окончательно вылез из зарослей крапивы и стоял, не понимая, что делать дальше. Знал теперь я только одно: цыгане не страшные, и я больше не буду их бояться.
Погладив меня по головке, цыганка улыбнулась и поспешила догонять своих коллег по «бизнесу».
А я стоял долго, глядя ей вслед и крепко сжимая в кармане ещё не съеденное яйцо.
Событие, только что происшедшее со мной возле крапивных зарослей, не представляет собой какого-то особенного значения и не стоило бы того, чтобы вспоминать о нём, но оно, в каком-то смысле, перевернуло мои детские восприятия жизни и предопределило дальнейшие мои поступки, образ мышления и многое-многое другое.
Я больше не бегал в потайные места, чтобы спрятаться при появлении цыган и, даже наоборот, ждал их и выходил навстречу. Несколько раз я потом ещё встречался с той волшебницей, которая изменила моё поведение и понимание жизни.
Мои друзья-мальчишки и старший брат долго не могли понять меня и удивлялись моей смелости.
Между тем, пришла осень, потом и зима нагрянула. Мы со Славиком по совету мамы долго пытались поддержать Шурика, обкладывая его подушками на диване. Но он не только не становился крепче, но и слабел с каждым днём. Была ли у него какая-то болезнь, или нет, мне это неизвестно. Знаю только, что мама неоднократно приглашала доктора на дом (тогда не было понятия «вызвать» врача или скорую помощь), но он не мог определить причину болезненного состояния малыша и только выписывал какие-то порошки, микстуры. Всё было бесполезно. Шурик не мог самостоятельно сидеть, головка у него плохо держалась. Мама, как белка в колесе, билась, металась между работой на фабрике и домашними проблемами. Зная о состоянии младшего ребёнка, на фабрике ей сначала сократили рабочий день, потом вообще освободили от работы, предоставив отпуск по семейным обстоятельствам.
Была зима, снегу намело по колено, морозы разукрасили волшебными узорами окна в доме.
Может быть, мой старший брат Слава что-нибудь знал, но я ни о чём не догадывался, когда пришли к нам бабушка с дедушкой и тихо с мамой о чём-то переговаривались. Лицо у мамы было красное, опухшее от слёз. Бабушку нашу мы все внуки почему-то называли мамой старой (мамстара). А внуков у бабушки было много – человек двадцать. Да и детей было семеро: двое мальчиков и пять девочек. Старший мальчик – мой дядя Евгений – был танкистом и потом, как выяснилось позже, сгорел живьём в танке. Бабушка, как, и другие матери и жёны, тоже часто пользовалась услугами цыганок, чтобы узнать какие-нибудь сведения о судьбе дяди Жени. От них же она узнала, что он погиб в бою, а смерть была мучительной. Позже было официально подтверждено о жуткой кончине старшего сержанта Расторгуева Евгения Васильевича.

Бабушка (мамстара) и дедушка (тятя) Расторгуевы
Бабушка была строгой и решительной женщиной. Я её, позже, для себя называл Вассой Железновой. Она в общении с нами – внуками не часто опускалась до сюсюканья. А сегодня нас со Славиком она обнимала, гладила по головкам, чем-то угощала. Потом пришли тётя Мотя и тётя Даша. Нас они тепло укутали и хотели на санках отвезти к бабушке. Но тут пришли двое соседских мужиков – оба были инвалидами – и я увидел, как они взяли с маминой кровати какой-то свёрток и понесли на улицу. Мама громко заплакала, бабушка на неё прикрикнула, и все заспешили на выход. Когда люди вышли, а мы с братом остались в комнате, он мне шепнул:
– Шурик умер, – и больше не проронил ни слова.
Только теперь я понял причину маминых слёз и появления у нас в доме такого количества родственников.
Я понял слова брата о смерти Шурика, но сейчас не помню, были ли у меня тогда какие – то чувства, или нет. Знаю точно, что я не плакал и даже не переживал, видно, ещё не до конца понимая, что такое смерть, и, что Шурика больше не будет с нами никогда.
Мужики положили маленький свёрток на санки и куда-то повезли. Несколько женщин, вслед за ними и за сгорбленной, заплаканной мамой по узкой, протоптанной в глубоком снегу тропинке, молча, пошли. Мы с братом смотрели им вслед и не знали, что делать нам – сидеть одетыми или раздеться и ждать их возвращения. Наконец, раздевшись, Слава подошёл к опустевшей зыбке и, обращаясь ко мне, сказал:
– Нет. Смерть.
– Что нет?– задал я ему глупый вопрос.
– Шурика нет.
Вот только теперь дошёл до моего сознания смысл слова «смерть» и, что мы сейчас навсегда потеряли нашего младшего братика.
Кажется, в эту минуту я второй раз после встречи с цыганкой перешагнул некую грань между детством и взрослой жизнью.
Спустя некоторое время мама с нашими тётками и бабушкой вернулись и все расселись вокруг обеденного стола. Вскоре пришли и двое мужиков, которые увезли завёрнутого белым материалом Шурика.
На столе появились две тарелки с едой и бутылка какой-то жидкости. Один из мужиков, молча, налил в стаканы жидкость из бутылки, и все, опять же без единого слова, подняли эти стаканы. Мужики выпили, крякнули, утёрлись, что-то взяли из тарелки и начали усердно жевать. Женщины поднесли стаканы ко рту, но никто из них не сделал ни глоточка. Выпив ещё по стакану или полстакана жидкости, мужики встали и вышли из комнаты.
– Ну, дочка, крепись – обратилась «мамстара» к нашей матери, – у тебя вон ещё двое. Их надо вырастить. А завтра отправь их ко мне. Пусть поживут у нас с дедом. Да и ты приходи. Чего тебе здесь одной в холодной избе куковать? Места у нас хватит.
Мама ничего не ответила на предложения бабушки, но было видно, что они ей понравились, и мы переедем к ней жить.
В связи с нашим семейным горем, маме на фабрике предоставили один день отпуска, чтобы прийти в себя и оформить кое-какие документы. Тётя Даша пришла за нами, и мы повторили вчерашнюю процедуру одевания, рассчитанную на приличный мороз.
С этого дня мы стали жить у мамы старой, осваивая новые условия и правила жизни. Дедушка, или как мы его звали «тятя», тоже работал на ткацкой фабрике, так что дома мы бывали в основном с бабушкой и двумя тётками – мамиными сёстрами – Дашей и Мотей. Они были близнецами, и исполнилось им по семнадцать лет. На фабрику их почему-то ещё не брали, и занимались они делами по дому. Вечерами они выходили с подругами погулять и частенько пели молодёжные, популярные в то время песни. Мой, ещё не забитый всякой всячиной, мозг запомнил некоторые песни и, как сейчас помню, когда меня укладывали спать, мне почему-то очень хотелось пропеть одну – другую песенку. Всем присутствующим, видимо, нравилось моё исполнение. Они усмехались, дослушивая мои излияния до конца, пока я не сбавлял свою голосистость и окончательно не замолкал, засыпая.
Жилось у бабушки нам со Славиком неплохо, и вскоре я стал забывать о младшем братике, недавно ушедшем в мир иной.
Ткацкая фабрика, где работали почти все местные жители, как и любое производство, таило в себе разные неприятные неожиданности. Однажды наш дедушка, тятя, появился дома не поздно вечером, как обычно, а в середине дня. Дедушка был среднего роста, худенький, с красивой, седой бородой. Его привезли на санях две молодые женщины. Мы, молча, смотрели, на них, ничего не понимая. А женщины положили тятю на кровать и, взяв под руку бабушку, сообщили ей новость:
– Опрокинулась бутыль с кислотой, а дед ваш стоял рядом. Бутыль разбилась и съела ему ногу.
– Как? Что значит, съела? – только и успела спросить бабушка.
– Сами увидите. Доктора пригласите, – не вдаваясь в подробности, ответила одна из женщин. Они, не прощаясь, молча, вышли из комнаты.
Бабушка подошла к тяте, откинула покрывало, и мы увидели лоскуты штанины и, кем-то наложенные окровавленные тампоны, прилипшие к обожжённой от паха до колена ноге. Дедушка застонал, а тётя Даша взяла нас со Славиком за руки и отвела в другую комнату.
Так, в очередной раз за короткое время, жизнь преподнесла нам негативный урок, закаляя нашу детскую психику.
Мама приносила с работы несколько кусочков хлеба, которые давали ей для поддержания сил и здоровья семьи. Хлеб был выпечен из ржаной и овсяной муки и на треть состоял из длинных, острых овсяных колючек, которые, как я позже узнал, имеют название «ость». Эти колючки давали хлебу дополнительный вес и объём, но были совершенно непригодны для еды.
Однако я с удовольствием потреблял положенный мне по возрасту кусочек такого хлеба, долго пережёвывал его, как бы подсознательно понимая, что еды у меня очень много и удовольствия тоже будет достаточно. Но это удовольствие частично уменьшалось оттого, что острые овсяные колючки вонзались в горло, больно его царапая. С трудом же, проглотив кусочек, мы обрекали себя на предстоящее мучительное и долгое сидение на туалетном горшке. Но, это нас не останавливало, и мы с братом всегда с нетерпением ждали прихода мамы с работы.
Хочется ещё отметить, что мучительное наслаждение овсяным хлебом иногда, но очень редко, прерывалось появлением пеклеванного хлеба. Мама его приносила и долго раздумывала над тем, как же его поделить между всеми. Это был желтоватый, мягкий, как вата, вкусный до умопомрачения хлебушек. Кусочек, который доставался мне, наверное, весом грамм пятьдесят, я ел целый день. Откусывая по крошке, я старался долго держать его во рту. Но он, почему-то не подчинялся мне и быстро таял, оставляя приятное послевкусие. Вот с таким мучительным наслаждением и предательски исчезающим жёлтым кусочком я проводил долгие зимние будни.
Мы со Славиком росли, познавая суровый мир и, всё-таки умудряясь наслаждаться мелкими детскими радостями.
Я стал забывать папин образ, и все военные события проходили, не оставляя в моей памяти важных, значительных моментов.
В один прекрасный день вернулся с фронта муж тёти Насти, старшей сестры моей мамы. Он потерял пальцы на правой руке и был комиссован по причине непригодности. Первые дни после его возвращения у них в семье было много радости. Тётя Настя где-то находила самогонку и каждый день, на радостях, приносила её вернувшемуся мужу. Она была довольна тем, что вот муж, хоть и без пальцев, но живой, вернулся домой, и теперь им легче будет прокормить двоих детей.
Но, время шло, а муж не хотел заканчивать праздник возвращения и требовал всё больше и больше веселящего напитка, пока тётя Настя не сказала ему:
– Хватит, дорогой муженёк. Пора браться за работу.
Она думала, что её слова будут правильно восприняты, но реакция оказалась совершенно противоположной. Оставшаяся невредимой левая рука была настолько «работоспособной», что без труда справлялась с сопротивлением тёти Насти. Бывший солдат так успешно использовал нерастраченную на фронте злость, что его жена после этого несколько дней лежала, не имея сил подняться. Такие воспитательные процедуры повторялись довольно часто, и мы, родственники, почти не видели тётю Настю без синяков и кровоподтёков, а её мужа в, более или менее, приличном состоянии. Даже после того, как у них один за другим родились ещё двое сыновей, моих двоюродных братьев, покалеченный на войне отец не смог найти себя в мирной жизни.







