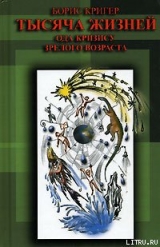
Текст книги "Тысяча жизней. Ода кризису зрелого возраста"
Автор книги: Борис Кригер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)
Глава шестьдесят четвертая
Купель уныния и тоски
Уныние истощает душу, и душа перестает икать. Нет, я хотел сказать – искать. Искать Бога. Человек может превратить себя в купель уныния, и не помогут ему ни виртуальные дома, ни суперсовременные компьютеры, ни все богатства мира, собранные на его кухне. Средство от уныния, увы, – не в наружном мире. Оно внутри, а посему мало зависит от внешней игры материи.
Я слишком просто решил проблемы рода человеческого в главе о философии Кригера. Мол, не имеет человек права быть несчастным. Дал ему в зубы самореализацию – и ать-два! С вещами на выход! Хотя из жизни обычно уходят даже без вещей.
Бегите от уныния, но не в вожделение и обжорство, не в тупые развлечения и мелькающие огоньки компьютерных игр.
Ищите укромное место, которое способно наполняться радостью бытия и небытия вне зависимости от внешних раздражений и соблазнов, в своей душе.
Если нет возможности пересилить химию гормонов настроения – берите лекарства, позвольте себе стакан вина, наконец, или два… На меня вино, увы, не действует. Если на вас действует – значит, вам повезло.
Слава богу, человечество всегда находило средства подлечить совершенно измотанную душу, однако, едва укрепившись, не пленяйтесь возможностью залить свою тоску вином, ибо в вине еще больше тоски, чем в его отсутствии. Недаром кто-то сказал, что даже боль, порожденная тоской, менее невыносима, чем сама тоска. Тоска – самое бесплодное из всех человеческих переживаний.
Химера свободы воли позволяет нам по-разному проживать в своих малюсеньких клеточках существования, иллюзорных исканиях, в небрежных игрищах, нелепых ожиданиях тягучую муку бытия.
Увы, не всегда в моей воле отбросить уныние, как заштопанный старый балахон. Химия мозга топит меня во мраке, не дает вольного воздуха, сжимает мою грудь тяжелым ожиданием. Я тянусь к антидепрессантам, к прозаку Легчает. Какая разница, как отогнать тоску и неизбывный страх существования?
Читатель, простишь ли ты мне мой гордый разговор с Иисусом, упомянутый в начале этой книги? Прости. Не сердись на меня. Я, правда, ищу какого-нибудь просвета… Даже если представить себе, что мы действительно вовсе не высшие зеркала Вселенной, а просто жалкие муравьи, потоптанные чьими-то безмерными ногами, наша трагедия от этого не становится меньше, не превращается в послушный фарс, как это часто бывает на исходе тяжелого блуждания по пустырям и пустыням.
Даже если допустить, что все мы – лишь отъявленное ничтожество… Нет, не так. Я сам – ничтожество. Однако же мои страдания и поиски, рывки прочь из глубокой, болотной тоски – это все не пшик. Нет. Это все не просто так разбросанные листочки нечитанной оберточной газеты.
Люди делали оберточную бумагу из мумий. Вы этого не знали? Поверьте мне на слово, без сносок и цитат. Люди в своей звериной сути более тупы и неразборчивы, чем дикие и оголтелые чудовища. Однако необходимо их любить – иначе пустота. Иначе не просто пустота, а мрак убийственного одиночества, не того уединения, которое может быть целебно, а именно сквозящего одиночества на века, на целые эпохи нескладных солнцестояний.
Пусть я трижды ошибаюсь во всем, даже в самом том факте, что ошибаюсь. Пусть моя книга напрасна, пусть даже вся жизнь моя напрасна, пусть жизнь всех наших цивилизаций – всего лишь разорванный в клочки альбом с неудавшимися снимками, жалкая полуночная кутерьма. Я все равно должен это любить, ибо нет и не было, и главное, не будет мне иной данности, иного прозрения, иного совета свыше… Я здесь и сейчас; подует ветерок – и кроме этих строк не будет и следа от моего несносного упрека в том, что среди живущих ничтожно мало попыток подняться над собой, преодолеть немыслимое головокружительное тяготение нашей с вами звериной породы и увидеть нечто, что навсегда могло бы вывести нас из тоски и уныния, вознести нас чуть выше, чем блистающие, холодные вершины наших амбиций.
Моя книга – лишь самонадеянная и назойливая попытка унять скуку, тоску, уныние и беспризорность.
Одна надежда – она уже обречена на небытие, как обречен и я, и, похоже, и вы тоже, мой терпеливый, а потому в чем-то союзный мне читатель. Я попробую вывернуть наизнанку и эту мысль. Я найду способ полюбить и свое ничтожество, и смерть, и небытие, и что бы то ни было, уготованное нам взамен этого небытия, на что, однако, надежда, к счастью или несчастью, хрупка, как пузырек, наполненный испарившейся микстурой.
Глава шестьдесят пятая
В духоте жадности и зависти
Жадным быть нехорошо. К сожалению, очень многие так не считают. Ведь жадность и зависть являются двигателями человеческого прогресса. Без них люди сидели бы и, помахивая ножками и разинув рот, смотрели в небеса… Светящиеся мотыльки звезд… Кстати, в современном интернете уже продаются даже звезды.
Те, кто гордятся, что не завидуют, возможно, просто не испытывают зависти к конкретным достижениям других… Поэт не завидует белке, которая припасла орехи. Может быть, он даже не завидует другим поэтам, ибо считает свои стихи лучшими на свете, однако, возможно, он завидует славе Пушкина. Ах, Пушкин, Пушкин. Сколько раз я ему говорил: «Перестань баловаться огнестрельным оружием».
А давайте, правда, перестанем завидовать… Вот мой Маськин говорит, что все зло в этом мире от глупости и зависти человеческой. Глупость и зависть – родные сестры. Жадность и трусость – родные братья.
Я, конечно, тоже не разбежался пока бросать деньги на дорогу как кандидат в апостолы… Может, потому, что не за кем следовать? Чем дальше я живу, тем легче я расстаюсь и с вещами, и с деньгами… Голыми вошли, голыми и уйдем…
Ах, люди, люди, сколько раз вы меня обвиняли, когда у меня НИЧЕГО не было, мол, что ж ты такой умный, раз ты такой бедный, а теперь, когда у меня есть всё, вы подчас просто ненавидите меня по определению.
Глава шестьдесят шестая
В плену гордыни и тщеславия
Каюсь, каюсь. Человек, взявшийся писать самороман на шестьсот страниц, не может быть скромным… Однако моя гордыня какая-то странная. Возможно, это связано с тем, что я часто ощущаю себя отдельно от себя самого… Я всегда был несносным хвастуном, а занятия бизнесом и вовсе лишили меня последних остатков скромности. В бизнесе для рекламы все средства хороши, и кто страдает излишней скромностью, остается в придорожной канаве.
Однако это не оправдание гордыни и тщеславия.
Я как-то заполонил интернет, кажется, поисковик www.aport.ru. своими стихотворными строчками. То есть там, где люди ставят платную рекламу, я просто поставил по две строчки из разных стихотворений, и люди натыкались на них, когда вводили ключевые слова: «литература», «поэзия» и так далее.
Эти строчки вели на мой сайт, где были опубликованы все мои стихи, однако в качестве эксперимента сайт был безымянным и было неясно, кому принадлежат стихи, кто их автор. Внизу каждой страницы предлагалось оставить адрес электронной почты, если читатель желает получать новые стихи. За несколько дней на этом сайте побывало более четырехсот читателей, и они оставили около тридцати адресов своей электронной почты. Как только я поставил под стихами свое имя, – за тот же срок было оставлено только два или три адреса.
Что это? Неужели мое имя имеет такой отталкивающий эффект? Вы знаете, я согласился бы, чтобы все, что я пишу, было безымянным, если читателю так легче все это воспринимать. Я действительно не считаю, что индивидуальность автора столь важна для восприятия. Более того, я прекрасно знаю, какова магия известного имени. Сколько раз мы в недоумении ставили назад на полку в книжном магазине книгу, имя автора которой мы никогда не слышали, и, с другой стороны, как часто мы покупаем книгу только из-за известного имени автора…
Мое тщеславие, если вы утверждаете, что я им страдаю, не простирается ни на мое имя, ни на мою личность. Я бы хотел донести свои мысли до небольшой кучки людей, которым бы они показались созвучными их жизням, но увы, напрямую этих людей отыскать невозможно, необходимо пройти мимо толп тех, кому до моих произведений нет никакого дела.
Поэтому я отношусь к своим творениям двояко, как бы пребывая в двух разных ипостасях. Сначала я творю, затем я превращаюсь в того, кто пытается донести свои книги до тех, для кого они были написаны…
Вы можете поймать меня на слове: где-то я писал, что литература должна быть для себя, писать нужно без оглядки на читателя… Вы знаете, я чаще всего не оглядываюсь… Пишу то, что мне хочется или просто приходит в голову. Читательское внимание мне нужно лишь для того, чтобы иметь стимул писать еще, ибо чем-то же мне надо занять свою повседневность?
Глава шестьдесят седьмая
Поступь гнева и жестокости
Если вы всё еще продолжаете читать мой роман и не захлопнули его в раздражении, выслушивая мое невоздержанное хвастовство о Шекспирах и христах, то послушайте еще одну раздражающую правду.
Меня сильно били и унижали в школе. Это хороший повод стать страшным, жестоким тираном и убить пятьдесят миллионов человек. Я этого не сделал. (По крайней мере пока, и не собираюсь.) Скажите мне за это спасибо. Мир действительно должен быть благодарен всем и каждому, кто не перебил половину его населения или всё целиком не пустил его гулять в тартарары.
По природе я, казалось бы, являюсь мирным и безобидным, однако откуда-то же взялась моя воинственная фамилия: Кригер. Ведь по-немецки, да и по-норвежски моя фамилия означает «воин», а «криг» – означает «война».
Меня перестали серьезно обижать только тогда, когда я понял одну простую и весьма известную вещь —всегда будь готов перегрызть горло любому. Люди это чувствуют и отступают. Звери это чувствуют тоже.
Поначалу это понимание являлось моим тайным открытием, которое я приобрел в процессе долгих размышлений. Но после некоторого времени эта готовность нашла отклик и в моем сердце. Видимо, в нем забряцали клинками моих дедов жаркие гены вояк.
С виду я мирный, может быть, даже слишком миролюбивый и бесконфликтный. Но когда моим оппонентом переступается определенная черта, во мне просыпается древний воин, готовый умереть на вражеских пиках, – но умереть, рвя им их поганые горла!
С годами жизнь моя становится все менее и менее реальной для меня. Я погружен в глубочайшую купель сонного бытия. Сначала поняв умом и лишь потом приняв сердцем, я стал готов на борьбу до конца, борьбу без правил, пока обидчик не пожалеет, что имел несчастье со мной связаться.
Приехав в леса Канады, я бежал от людей, потому что боялся конфликтов и их исходов. Но тут меня стали осаждать дикие звери. Во двор повадился медведь и стал выкапывать посаженные Маськиным овощи. Волки загрызли на моем дворе оленя.
Я вдумчиво и показательно обписал всю свою территорию, и вы знаете, это помогло. Больше медведь не приходил. Волки – тоже. Может, еще и от того, что я поставил вокруг двора двухметровый забор с колючей проволокой сверху…
Я храбр по вынуждению, но яростен по собственному выбору. Если выдается возможность броситься в атаку – я не пропускаю случая. Конечно, я не дерусь и не кусаюсь. Разумеется, речь идет о цивилизованных методах борьбы – письма, суды, адвокаты, инсинуации, интриги, блеф, угрозы в разумных пределах. Но я чувствую в себе новую энергию погибнуть борясь, – энергию, которую ранее я не замечал и не понимал, а теперь чувствую ее все больше и больше.
Конечно, такое мое свойство пугает окружающих, особенно потому, что большую часть своей жизни я выгляжу совершенно безобидным и обладаю исключительной терпимостью по отношению к людям, которые, казалось бы, должны меня раздражать. Однако стоит им перейти какую-то, одному мне известную грань, и я начинаю войну, и тут уж все средства хороши, и чем больше обменов ударами, тем дальше мы можем зайти в этой борьбе.
Я когда-то писал, что подобная вражда бесполезна, все равно с недавнего времени нам запрещают физически уничтожать противников. В чем же смысл, если не представляется возможности довести борьбу до ее логического конца?
А смысл в самом процессе. А смысл в том, что я воюю играючи. Противник думает, что я преследую настоящие цели – отсудить деньги или добиться еще чего-нибудь, мне причитающегося. Вовсе нет. Когда я воюю, меня интересует исключительно сам процесс. В этом, если хотите, для меня естественное выражение моей агрессивной природы.
Именно потому, что редко могут меня раскусить, люди от меня шарахаются. Когда я рассказываю им о своей агрессивности в спокойном состоянии, они смеются мне в лицо и, конечно же, не верят. Когда же я упоминаю о своем миролюбии в разгаре войны – люди вновь смеются, если им, конечно, еще до смеха, потому что при моей агрессивности и изобретательности трудно поверить в мое миролюбие.
Так что и эта глава, я боюсь, будет воспринята как плохая шутка или как разновидность дурного фарса.
Но я хотел написать для себя правду о себе, и я это сделал. Я миролюбив большую часть своего существования, но когда приходит время воевать, меня мало что может остановить.
Обычно я начинаю предупреждать о своих агрессивных намерениях задолго до того, как вступаю на тропу войны. Как это ни странно, в подавляющем большинстве случаев меня не слышат или мне не верят. Людям кажется, что они меня понимают и что такой разумный и уравновешенный человек, которому есть что терять, не может пойти на безрассудные действия и потратить непропорциональные деньги и силы на, казалось бы, бесполезную борьбу.
Увы, в большинстве случаев мои оппоненты ошибаются. Самой легкой формой агрессии, которую и агрессией-то назвать нельзя, является то, что если противник находится со мной в деловых отношениях – я просто прерываю с ним связи. Может быть, это самонадеянно, но я считаю, что в какой-то мере это можно оценить как агрессивное действие.
Если же противник чем-то действительно выводит меня из себя, я вступаю на тропу войны. Обычно это происходит посредством совершенно официального ритуала.
Я торжественно открываю врата храма Януса и отрываю свой томагавк, громогласно и победоносно заорав: «ЭТО ВОЙНА!»
Тут я составляю план из 13—16 пунктов, в соответствии с которым и собираюсь довести противника до белого каления. Поскольку я не преследую никаких материальных или иных выгод, моя война беспроигрышна, ибо процесс доведения противника до белого каления ничем нельзя прекратить, разве что противник взмолится: «Да ладно, Боря (он же Брюс, он же Бернард, он же Кай Ли Ге – как меня зовут разные народы), хватит, прости уж меня дурака /дуру, – больше не буду». Я обычно легко отхожу и прощаю, но такое случается редко, опять же потому, что противник считает, что мне нужна победа материальная, а не духовная.
Я никогда не применяю незаконных методов борьбы, что делает мою борьбу неуязвимой. Читая законы и материалы судов для развлечения, я весьма подкован в законодательствах нескольких стран, и если и делаю вещи не очень этические, то разве что на уровне того, чего нельзя делать адвокатам, но адвокатами я пользуюсь редко и мне эти вещи делать можно, потому что я частный гражданин и не подчиняюсь ограничениям адвокатской этики. Я обожаю сочетать блеф с правдой. Могу написать судебный иск на пять миллионов и не подать его в суд, а могу и подать, и противник никогда не знает, блефую я или нет. Конечно, борьба со мной изматывает противника как финансово (на каждый мой иск надо отвечать, а то суд, того гляди, присудит в мою пользу), так и морально. Я же чувствую себя вполне прекрасно, и чем агрессивнее в ответ на мои действия становится противник, тем агрессивнее и изобретательнее становлюсь я. Мои постоянные шутки (в стиле иска в суд по правам человека или жалобы в ООН) перемежаются с вполне серьезными оплеухами. Иногда конфликты затягиваются на годы, и лишь дойдя до конца списка, я поднимаю трубку и совершенно миролюбиво звоню противнику: «Привет. Я тут закончил список из 16 пунктов. Мне продолжить еще, или достаточно?» И знаете, еще ни разу ни один противник не предложил продолжить.
Обычно мы заводим теплый разговор, весело обсуждая подробности нашей схватки, далее я получаю долгожданное извинение, и мы расходимся, как в море корабли: я – посвежевшим и слегка взбодренным, противник – с легким нервным или соматическим расстройством типа диабета или язвы желудка.
Так что можете меня убить, можете меня подкупить, но лучше просто меня не обижайте. Не отвяжетесь. А обидели – извинитесь. Я прощу. Я добрый.
Глава шестьдесят восьмая
В замках властолюбия и надменности
В человеческом сообществе все как у собак. Нужно правильно крутить хвостом, скалить зубы и применять другие собачьи ужимки, а иначе загрызут. Властолюбив ли я? Конечно, мне хочется держать все под контролем. А как же? Однако по большей части я пускаю все на самотек и свято верю в силу автономности и самостоятельности. Как только что-то идет не по-моему, я отделяю этих людей от себя и предоставляю им самостоятельность. Можно ли это назвать властолюбием?
Вообще, я не знаю, откуда в душе моей поселилась неизбывная усталость. Я хочу, чтобы все меня оставили в покое и ни с чем ко мне не лезли, как-нибудь решая проблемы своими силами. Разве это может быть охарактеризовано как властолюбие? Не знаю. Я всегда презирал повадки собак, всегда пытался не следовать их сложным ритуалам, приседаниям, расшаркиваниям, и что же? Меня били, бьют и будут бить.
Конечно же, я надменен в своей безаппеляционности, но честное слово, мне кажется, что люди умирают не от болей в сердце, а от усталости прогибать спину, скалить зубы и махать хвостом.
Глава шестьдесят девятая
Какая все-таки замечательная штука смерть
Смерть – это замечательно. Едва умерев, я надеюсь, мы, наконец, выясним для себя вопрос, есть загробная жизнь или нет. Разве это не счастье? Разве это не тот самый вопрос, который неотступно преследует нас всю жизнь? Вот он как раз и решится.
«Ах, – скажете вы, – а если там, за гробовой доской, ничего нет?» Небытие! Ну, так это же замечательно! Во-первых, нет ничего проще, чем просто не быть. Ничего не нужно делать, решать, пытаться изменить. Более того, вам более не нужно являться вами, поскольку вас больше нет! Разве это не счастье?
Потом, сам факт присоединения к большей части человечества (поскольку мне кажется, что мертвых все-таки гораздо больше, чем живых) – разве это не счастье? Вы станете, с вашей точки зрения, ничем не отличным от всех остальных, умерших до вас, и тех, что обязательно умрут после вас.
Ну а если, как назойливо утверждают тысячелетия религий и верований, нас и там не оставят в покое, разве это не замечательно? Только не надо, пожалуйста, о рае и аде. Всех не перевешаете!!! Ну, как будет, так будет. Столько противоречий, что все равно, как ни изворачивайся при жизни, очень легко продешевить… Конечно, неприятно быть с непривычки бестелесным духом, несомым ветрами кармы, но что поделаешь… Все лучше, чем полное небытие. Или полное небытие лучше? Ну что, мне удалось вас запутать?
Вы просто не ждите от смерти ничего хорошего —не прогадаете. Впрочем, не ждите и ничего плохого. К этому делу нужно подойти спокойно и с юмором, пока мы еще можем растягивать в улыбке наш перекошенный страхом рот.
Знакома ли вам Элизабет Кюблер-Росс? Мы еще вспомним ее в конце этой веселой главы. Она много писала о смерти и умирании. Можно уклониться от обсуждения смерти, но нельзя уклониться от самой смерти.
Проблема в том, что умирать придется каждому. (Я, конечно, сочинял фантазии о переписывании наших мозгов на компьютерные диски, но даже и в этом случае жить продолжит диск, а нам, его прототипу, так или иначе придется отбыть в мир иной.)
Смерть – такое же великое событие, как и рождение. А подготовка к ней, умирание, – такая же полноценная часть бытия, как и детство. Нет второстепенных, неважных этапов жизни, каждый этап богат по-своему. И если мы отворачиваемся от смерти, то она рано или поздно застанет нас врасплох. А нежданные гости, сами знаете… не желательны.
Кто-то сказал, что человек начинает жить подлинной жизнью, лишь осознанно приняв неотвратимость смерти. Свободно и достойно отказавшись от бесполезного сопротивления, он обретает возможность жить.
Чувство страха знакомо всем. Так когда же человек боится? Прежде всего пугает неизвестность. Между нашим состоянием сейчас и тем, что с нами случится через минуту, существует разрыв; этот промежуток заполнен неопределенностью. Человек боится того, что его ожидает. Поэтому у некоторых людей возникает тяга к «уверенности в завтрашнем дне». Иногда все общество начинает тосковать по определенности, и тогда начинаются разговоры о необходимости «сильной руки», что приводит к диктатуре в том или ином обличье. Возможен и другой вид страха. Это так называемая тревога отделения: ребенок боится оторваться от матери, любящий боится потерять объект своего чувства, каждый боится быть выброшенным из этого мира, где все так знакомо и привычно.
Что нам известно о будущем? Оказывается, с полной определенностью мы можем знать только одно —все мы когда-нибудь умрем. Завтра или через несколько десятков лет, но это обязательно произойдет. И здесь очевидна парадоксальность нашего восприятия мира. Страх рождается от неизвестности. Нам ничего не известно о нашей судьбе, кроме достоверного факта конца нашего земного существования. И эта абсолютная неизбежность вызывает в нас сильнейшее чувство тревоги, настолько сильное, что мы не можем его вынести. Мы предпочитаем неведение. Как можно ощущать себя, зная, что рано или поздно тебя не будет? Как жить, творить и действовать в мире, зная, что все закончится для тебя? Как общаться с людьми, зная, что каждый из них раньше или позже будет закопан в землю, или предан огню, или физически уничтожен каким-нибудь иным образом?
Человек остается со смертью один на один. Ничто не спасает его, даже «глубокомысленные» рассуждения типа «когда ты есть – смерти нет, когда смерть наступила – тебя уже нет». Не помогает, потому что в самой сердцевине человеческого существа саднящая рана – я умру. Одна современная духовная писательница заметила, что смерть бьет человеческое существо в самую сокровенную его сердцевину так унизительно, так ужасающе радикально, что его спонтанной реакцией может быть только бегство (в мучение или презрение), которое «спускает с цепи» всякое зло. Смерть ужасна. Она – злейший враг. Несмотря на все научные объяснения смерть остается непостижимой. Внезапно предстающая жуткая картина собственной смерти со всей ее неизбежностью вызывает шок. В самой глубине личности открывается незаживающая язва. В первую очередь страх относится к собственной смерти. Смерть в газетах и по телевизору стала привычной. Подтверждается старая поговорка: «Смерть одного —трагедия, смерть ста тысяч – статистика».
Умом человек, конечно, понимает, что когда-нибудь умрет, но в то же время… не знает этого. Вернее, не хочет знать. Он убегает от знания. Цивилизация помогает ему в этом. Общество вырабатывает нормы приличия. Разговоры о смерти неприличны. Существует стремление скрыть смерть от детей. Прослеживается тенденция изолировать смерть в стенах больниц и моргов, расположить места упокоения усопших подальше от городов. Помимо санитарных, играют роль соображения дистанцировать живущих от их умерших близких, чтобы о них ничто не напоминало. В некоторых кантонах Швейцарии похоронным автобусам запрещено появляться на улицах в дневные часы, чтобы мысли о смерти не смущали граждан.
Есть и другая крайность – десакрализация смерти. Особенно ярко это видно на примере так называемого черного юмора, сюда же относятся эвфемизмы типа «перекинулся», «дал дуба», «откинул копыта», «сыграл в ящик», «приказал долго жить»… Но и здесь за натужными остротами проступает леденящий страх. Тогда применяется другой образ защиты. Выработан набор приличествующих случаю фраз: «Бог дал, Бог взял» или «Все там будем». Ритуал соболезнования достаточно формален и сводится к произнесению банальностей, за которыми не стоит внутренней солидаризации. Нередки случаи, когда поминальная трапеза, начавшись положенными словами, завершается как праздничное застолье, сопровождаемое… пением под предлогом того, что покойник-де не хотел бы, чтобы мы грустили.
Для большинства из нас смерти не существует в том же смысле, как Антарктиды – каждый знает, что она есть, но не имеет к ней никакого отношения. Знание о том, что человек умрет, оттесняется далеко на периферию сознания, а иногда – в область бессознательного. Так происходит потому, что включаются механизмы психологической защиты. Когда знание становится невыносимым, человек от него отказывается, – отказывается от единственного достоверного знания о себе. Он покупает мираж комфортного существования в современном мире ценой самообмана.
М. Хайдеггер писал: «Смерть вызывает тревогу, потому что затрагивает самую суть нашего бытия. Но благодаря этому происходит глубинное осознавание себя. Смерть делает нас личностями». Итак, мы отказываемся доверять себе, своим убеждениям, своим чувствам. Отрекаясь от страха смерти, мы предаем самих себя. Мы отбрасываем свое богоподобие, предпочитая уподобляться бессловесным тварям.
Человечество достаточно изощрено в избегании принятия очевидного факта смерти. Испанский философ X. Ортега-и-Гассет полагает, что вся человеческая культура и искусство возникли для преодоления страха смерти. Не правда ли, интересно было бы посмотреть на культуру людей, если бы они были бессмертны?
Известный социолог и антрополог Э. Беккер считает, что структура человеческого характера есть не что иное, как система защиты от невыносимого страха смерти. Его концепция такова: знание собственной смертности может привести человека к безумию. А черты характера суть, по выражению аналитика Ш. Ферен-чи, скрытые психозы.
Выстраивается последовательность: страх смерти – возможность безумия – психологическая защита —характер.
Итак, сколько людей, столько типов защит.
В то же время существуют и общие закономерности, выработанные на протяжении долгого пути развития человеческой цивилизации.
Вся наша жизнь есть затяжной процесс умирания, а посему мы можем к ней применить знаменитые фазы Элизабет Кюблер-Росс (которая, кстати, недавно умерла). Я грубо вырываю ее систему из рамок психологии обреченного больного и переношу ее на всю человеческую жизнь.
Сначала мы пребываем в первой стадии – отрицания. В ней мы проводим безоблачное детство, которое в моем случае было прервано несвоевременным сообщением о том, что все мы умрем, которое я получил от бабушки.
Затем наступает вторая стадия – гнев. В гневе проходит наша юность. Вслед за этим приходит стадия вы-торговывания жизни: «А если я буду вести здоровый образ жизни, то я еще долго-долго не умру; если я откажусь от вредных привычек, замолю все грехи, буду набожным, буду делать только правильные вещи, может быть, смерть отступит или не будет катастрофой всей моей жизни?». Так обычно проходит у некоторых средний возраст. Когда заканчивается и эта стадия, наступает период депрессии: «Жизнь все равно не имела смысла, все беспросветно». Так начинает рассуждать подступающая старость. И лишь потом наступает заключительная стадия – принятия: «Да, я умру. Смерть предстоит всем. В чем-то моя жизнь была достойной, где-то я падал, но теперь все отступает перед тем, что мне суждено пережить. Я постараюсь сохранить присутствие духа, спокойно принять все, что мне предстоит, и не отягощать моих ближних страданием».
Я просто отделяюсь сам от себя, и в таком случае не вижу в смерти ничего дурного. Смерть плоха только по отношению к нам, ну и к нашим близким. Для мира в целом – смерть хороша и является гармоничнейшей частью мироздания. Ну что вас связывает с вами? Вы вообще достоверно-то помните, кто вы есть? Чем вы занимались две недели назад? О чем вы думали утром в прошлый понедельник? Чувствуете, какая тончайшая нить связывает вас с вами, а все остальное – безграничное мироздание, которому нет никакого дела до вас? А вы попробуйте слиться с этим мирозданием так, чтобы и вам никакого дела до самих себя не было. Я пробовал – и иногда у меня получается. Незабываемое счастье свободы от самого себя. Какое мне дело до себя самого!!!
Поменьше трагизма, давайте поскорее перескочим в стадию принятия, признаем, какая все-таки замечательная эта штука – смерть, и лишь тогда мы сможем вполне оценить, какая же замечательная штука жизнь… А иначе мы так и проведем всю жизнь, умирая.








