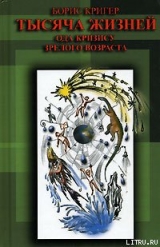
Текст книги "Тысяча жизней. Ода кризису зрелого возраста"
Автор книги: Борис Кригер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
Глава пятьдесят девятая
Как я обманываю свой мозг, и как мозг обманывает меня
Мозг мой, конечно, сопротивляется моему интеллектуальному промискуитету. Тот факт, что я заигрываю со многими языками и науками, выводит его из себя, и он был бы рад разом все забыть и перейти на травоядное существование. Однако рано мне еще выпускать свой мозг наружу попастись на привольных лугах безумия. Кто знает, сколько мне еще доведется пользоваться этой славной счетно-вычислительной машинкой под названием мозг. Он, кажется, находится у меня в голове, в органе округлой формы между шеей и шапкой. Если заблудитесь – вот вам подсказка: это орган с ушами.
Итак, я научился обманывать свой мозг. Когда в очередной раз он не желает запоминать какие-нибудь китайские иероглифы, я его внезапно оставляю в покое, а только он расслабится, как я беру китайскую книжку и начинаю внимательно и подробно рассматривать пока непонятные мне знаки. Вскоре мозг, пребывающий в отключке, обращает внимание на мое с виду невинное занятие и как любопытный котенок спрашивает меня: «А это что значит? Я видел этот значок с хвостиком уже много раз…». А я ему отвечаю: «Не знаю. Ты же ничего не хочешь запоминать, дырявая моя голова».
Мозг смущается и отвечает: «Ладно. Давай поищем в словаре, а то уж очень мне неймется… Этот знак ты показываешь мне так часто, что он меня начинает колоть и беспокоить, как шершавая стелька…».
В этом и есть мой секрет дрессировки собственного мозга. Мозг взрослого человека – субстанция ленивая. Ничему учиться он более не желает и считает ниже собственного достоинства запоминать вещи, которые ему представляются ненужными. Если вы даже из-под палки заставите его запомнить какие-нибудь слова на иностранном языке, ублажите его подсказками и ассоциациями, он все равно постарается их забыть, ибо гордо полагает, что нечего его засорять всякой ерундой.
Отчасти он, конечно же, прав, но мне-то приспичило прожить тысячу жизней, а как же их прожить, не запомнив одно и то же слово на восьми языках?
Заставляя мозг слушать и разглядывать части чужого языка, я привожу его в состояние, когда услышанное слово или увиденный знак начинают его теребить и беспокоить. «Мало ли что, – думает себе мозг, – а может, и правда хозяин переселился в Китай…» Мозгуто в черепной коробке темно и одиноко, и в общем-то не видно, что там, снаружи, происходит. Он только фиксирует, что хозяин каждый день слушает новости по-китайски и рассматривает китайские иероглифы. «Вдруг хозяин иммигрировал в Китай?» – пугается мозг и начинает хаотично запоминать слова и знаки, а то мало ли что, вдруг хозяину это нужно, чтобы добыть сладенькое пропитание, а ведь мозги питаются исключительно сладеньким.
Тут-то я его и ловлю. Мозг начинает сопротивляться, но поздно… Сам того не заметив, он уже выучил столько слов и знаков, что хозяин начинает чего-то читать и о чем-то говорить, и мозгу приходится поневоле согласиться поставить в реестр слов, означающих, скажем, приветствие, еще одну фразу: «Ни хао…».
Мозг по ночам нашептывает на ухо подсознанию —мол, зачем хозяину восемь приветствий? Зачем хозяину восемь слов, означающих «стол», на разных языках?
Подсознание обещает помочь и снит мне сны-ужасы, что якобы я заключен в недрах объемных иероглифов и никак не могу из них выбраться.
Однако это на меня не действует. На следующий день все повторяется сначала.
Так я и обманываю свой мозг. Как же он обманывает меня? Ах, очень просто. Стоит мне отвернуться, пару недель не почитать по-французски – и вот я уже с трудом что-либо понимаю. Он безжалостно выбрасывает из памяти все, что только можно выкинуть без немедленного ущерба для рассудка. Как надоевший балласт, выбрасываемый из воздушного шара, того самого, что как-то заглянул ко мне в окно ванной комнаты старенькой викторианской гостиницы в городе Бате в Англии. Я, помнится, умывался, и вдруг боковым зрением почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Я посмотрел в окно и увидел бесшумный воздушный шар с намалеванным на нем лицом, заглядывающий ко мне в окно… В первый момент, как водится, я испугался, волосы встали дыбом, но потом успокоился. Что поделать, если горожане решили полетать в долине рядом с гостиницей на воздушных шарах.
Итак, мой мозг, как воздушный шар, сбрасывает весь балласт, но только не устремляется вверх, к небесам, а валится в привычную спячку, ибо от рождения сонен и чрезвычайно ленив.
Глава шестидесятая
Язык мой – враг мой
Я давно стал замечать, что то, что я говорю, производит на людей отнюдь не благоприятное впечатление, хотя хочу я произвести именно благоприятное. Иногда они сначала соглашаются и, казалось бы, даже довольны, но потом многие из них пропадают из моей жизни, никогда ко мне более не возвращаясь. Причем в публичных выступлениях я обычно успешен, однако в личной беседе люди готовы меня задушить, причем, мне кажется – как ни странно, – не в объятьях. Я одинаково раздражаю и русских и китайцев, и немцев и евреев, о французах и англичанах и говорить нечего, так что мне нет места на этой Земле. Более того, выучив их языки, я раздражаю их непосредственно, без переводчиков, которые могли бы сгладить хотя бы отчасти шершавую поверхность моей нестерпимой натуры.
Сначала меня много били в детстве, видимо, именно за то, что я говорил. Потому что я точно помню, что обычно я сначала говорил, а потом меня били. Однако далее меня били уже и без того, чтобы я что-либо говорил. Я всегда поражался, насколько простые советские школьники способны рационализировать любой процесс.
Точно помню: один приятель специально пролил себе на руку кислоту, чтобы попробовать, будет ли она жечь. Случилось это на уроке химии. Не знаю как, но я случайно проговорился об этом вслух, и химичка услышала. Был скандал. Вызывали его родителей, а мне он наотмашь дал по морде как раз сразу после моего устного извинения… Но это установленный факт, когда мой язык повредил целости и сохранности моего лица… В других случаях частого битья мне уже трудно припомнить прямую связь.
Разговоры разговорами, но настоящее битье, я думаю, еще не началось, ибо, как вы заметили, я принялся писать. А за написанное бьют крепче, чем за сказанное.
Мне кажется, что мои слова имеют какую-то отталкивающую силу, я с трудом догадываюсь, в чем она кроется, но точно сказать не могу. Мои тексты умудряются раздражать даже больше, чем порнография, больше, чем педофилический роман Набокова… Чем же я так странно раню людей? Может быть, тем, что называю роман Набокова «Лолита» педофилическим? Ну а какой он – богословский, что ли, ей-богу?
Вы, кстати заметили, что в этом моем саморомане больше нет иллюстраций? Ушла художница. Поменялся редактор. Художница сказала, что по этическим соображениям не может продолжать со мной работать. Не согласна с некоторыми положениями моей философии, и главное, с моим отношением к деньгам, изложенным в предыдущей части. И ведь заметьте, если я правильно помню, я никого не призывал убивать, сжигать в печах, и вообще, кажется, вел себя пока вполне мирно. Как говорится, вы пока узнали меня только с хорошей стороны… Я еще себя покажу…
Моя способность раздражать окружающих, видимо, имеет очень глубокие корни в моем характере. Я бы дал здесь свое объяснение, но, боюсь, снова буду обвинен в хвастовстве, зазнайстве и неуважении к роду человеческому. Да, но если я не дам своего объяснения здесь, то на кой черт нужно писать самороман? Где же тогда давать это объяснение? На том свете? Кому оно на том свете нужно?
Итак, почему же, по-моему мнению, язык мой —враг мой?
Ну, во-первых, я несносный хвастун. Те оправдания, что я привел в начале своего произведения со скромным подзаголовком «сарабанан» (ой, дислексия крепчает! «Самороман» конечно! А надо было назвать его «самоэпос»), думаю, не действуют. Мол, мне нужно хвастаться, чтобы заряжать себя энергией, – такое же оправдание, как слова вампира, оправдывающего свое кровопийное поведение: «Я пью кровь, потому что мне надо питаться…». Вставь себе батарейку, сами знаете куда, и черпай энергию, сколько нужно… А хвастаться нехорошо.
Во-вторых, то, что я говорю и пишу, имеет утопический налет еврейской нерациональности, о чем я тоже неоднократно упоминал. Обычно я рассуждаю не о бабочках, не о цветочках отвлеченных, а о жизни человеческой в самых подробных ее проявлениях, а посему, если собеседник или читатель со мной согласится, то наутро ему необходимо либо пустить себе пулю в лоб, ввиду никчемности всей его предыдущей и беспросветности всей последующей жизни в свете моих откровений, либо пустить пулю в лоб мне (что, конечно, облегчит мое и его состояние, однако если мое – навсегда, то его – ненадолго, сделав его последующую жизнь еще более беспросветной), либо поскорее забыть о моем существовании (что делает большинство), либо, наконец, кардинально поменять свою жизнь (чего не делает никто).
Поэтому большинство людей идет по самой простой дорожке – они заключают, что я негодяй, что обо мне необходимо как можно скорее забыть, если уж меня невозможно уничтожить физически или морально без особого ущерба для собственного благополучия.
В-третьих, я создаю иллюзию доступности, говорю со всеми на равных, делаю вид (так считают люди), что люблю людей и проявляю к ним искренний интеpec, а на самом деле являюсь оголтелым самовлюбленным маньяком, с которым лучше дела не иметь.
В-четвертых, расположив к себе читателя или собеседника, я вдруг произношу нечто такое, от чего человек от меня отворачивается, причем я с трудом могу распознать, что именно его так вывело из себя.
В-пятых, я сам нередко внезапно отворачиваюсь от людей, которые стали мне скучны, и таким образом лишь подтверждаю свою, с их точки зрения, подлую сущность.
В-шестых, я кажусь людям слишком противоречивым, а посему непоследовательным, или даже вруном и мошенником. Единство и борьба противоположностей во мне не слишком их убеждают. У меня нет стойких догм, и я в рамках одной главы могу защищать противоположные позиции… в обоих случаях претендуя на искренность. То, что я нахожусь в постоянном поиске и отрицаю существование истины вообще, звучит для многих как издевка и чрезвычайное кощунство.
В-седьмых, я совершенно естественно говорю всем в лицо правду, какой она мне представляется, а это есть величайшее преступление перед человечеством, ибо правда ранит настолько, что воспринимается повсеместно как ложь и намеренное оскорбление. Перенос этой моей привычки на письменный язык лишь усилил отталкивающий эффект моей натуры, которая лично мне нравится.
В-восьмых, люди завидуют мне, моей свободе и моему образу жизни, но зависть эта настолько нестерпима их сердцу, что признаться в ней они не могут, а посему пытаются всеми силами доказать себе, что им эта свобода не нужна, что это никакая не свобода, что кончу я плохо и что держаться от меня нужно подальше.
В-девятых, людей раздражает моя уверенность в собственной правоте, и собеседник или читатель чувствует, что я якобы не воспринимаю его как оппонента. Возможно, поэтому со мной практически никогда не спорят, а просто бьют по роже, чем сразу ставят точку в человеческом разговоре. Хотя я был бы не прочь поспорить с каждым, даже с «рабом у таверны…», но сам за собой я «оставляю лишь руины» человеческих отношений.
В-десятых, я редко бываю серьезным, и все время в какой-то мере прикалываюсь. Это воспринимается как факт, что для меня нет и не может быть ничего святого. Я все время играю, но никогда не играю в благородство. Мои интриги бесконечны и перетекают одна в другую. Сам бы убил, но жалко. Вы видели, какой у меня хвостик?
В-одиннадцатых, я закоренел в своих убеждениях, и наглость моя посему не имеет границ. Ради красного словца – не пожалею и отца, и мать-перемать и т. д.
В-двенадцатых, я никого ни во что не ставлю.
Для меня нет авторитетов, более того – я сам себе не авторитет.
Мне обязательно надо попробовать когда-нибудь помолчать, но боюсь, что пустые страницы в моей книге будут раздражать читателя даже больше, чем страницы, заполненные моими нестерпимыми рекомендациями о том, как надо перестать всем находиться в ЖОПЕ[120]120
ЖОПЕ – это не то, что вы подумали, это аббревиатура, обозначающая «Желание обязательно побить его».
[Закрыть]. Короче, по мнению многих, я человек нехороший, и всему враг – мой язык!
Часть седьмая
ОТ СЧАСТЬЯ БЫТИЯ К СЧАСТЬЮ НЕБЫТИЯ
Глава шестьдесят первая
Мои смертные грехи
Я все время повторяю: «Господи, прости мою душу грешную!» Иногда, конечно, моя дислексия крепчает и выходит что-то вроде: «Прости мою грушу брюшную!» Но если серьезно, все, что я наговорил в этом романе о Боге, очень, конечно, хорошо, только вряд ли имеет какое-либо ко мне отношение. Великий вселенский Бог слишком масштабен и слишком занят вращением галактик. А посему признаюсь, что для меня Бог точно такой же, как и Боженька для бабушки на скамейке – старенький, и миленький, и грозный, если сердится, но, в общем, очень неплохо ко мне относящийся. Я редко к нему обращаюсь, когда мне плохо, и точно так же, как старушка в церкви, тихо молюсь и прошу помочь. Бывает это нечасто. Вот когда Анюта, она же Маськин, чуть не умерла в Норвегии и ей делали операцию, я смотрел в дощатый белый потолок норвежского дома и молился, просил ее сохранить, и Бог меня услышал.
Я очень часто благодарю Бога, гораздо чаще, чем что-либо прошу у него. Особенно я благодарю его, когда он вкладывает в мои уста что-то такое, что мне кажется стоящим и важным, хотя, конечно же, и это всего лишь нестерпимая иллюзия. Помногу раз на дню я прошу простить мою душу грешную, и это звучит стойким рефреном моей повседневности.
«Вот так-так! – скажете вы. – А как же высокая философия? Морочил нам голову всю книжку, а тут обрадовал старушечьей новостью – молится он… Ну здрасьте, приехали. А какому Богу-то молимся, сынок? Яврейскому, что ли?»
Да как вам сказать, дорогой мой читатель… И еврейскому, и нееврейскому… Бог-то один…
«Здрасьте… – скажете вы. – Опять осенило нашего писателя… А главное, как новехонько это звучит…»
Ну что вам сказать, милый мой читатель, грешен я, грешен… Ничего не знаю, ничего не умею. Не жизнь у меня, а кавардак получается. Всё чего-то пыжился, пыжился, а кроме бабушкиного Боженьки ни к чему не пришел.
Я не буду с вами спорить и пытаться изобрести что-нибудь пооригинальнее. Всё уже сказано, и то, что всё уже сказано, давно тоже сказано. Все, чем я занимаюсь, пиша эту книгу, – просто провожу время, то самое время, которое отделяет небытие до рождения от небытия после смерти.
Я мог бы заниматься чем-нибудь другим в этот самый момент, например мог бы пойти и приготовить себе скучный завтрак, но я подсел к столу и пишу бессмысленные слова о том, что всем давно известно и что не представляет никакого интереса ни для кого, возможно, кроме меня самого. Зачем вы это читаете? А бог вас знает, ну читаете – и ладно. Читайте.
Итак, моя попытка прожить тысячу жизней не то чтобы не удалась. Она удалась, ибо я сам с трудом верю, что это всё еще я, и это всё еще та же самая жизнь… Я смог создать себе иллюзию разнообразия, и видимо, буду пытаться поддерживать эту иллюзию. Не знаю, стану ли я прыгать с парашютом или нырять к акулам, чтобы жизнь казалась мне более реальной. Но сумасшедшие идеи уже начали вертеться в моей бедовой голове.
Я достиг того самого перевала, после которого идет спуск в долину небытия, и пока еще я могу что-либо сделать в материальном мире, мои пальцы стучат по клавиатуре, и на экране возникают слова на одном из славянских языков. Кажется, это русский.
Чем же мне занять себя на этом спуске? Кто знает, будет он крутым и внезапным, или пологим и долгим?
Мне кажется, что следует не выдумывать колеса, а, как и водится, обратить мутный мой взгляд к своим собственным порокам, и если не искоренить их полностью, то просто определить и, по крайней мере, перестать ими бахвалиться.
Вы, возможно, подумаете, что это очередной бред в стиле церковно-библейской мути? Покайся… Нет, я полагаю, что грехи, особенно грехи смертные, следует попытаться унять – не для жизни небесной, в существование которой еще нужно поверить…
Грехи мешают жизни земной. Они изъедают душу и делают ее дряблой, как шкурка от полусгнившего банана. Я верю, что для того чтобы пройти спокойным шагом от счастья бытия к счастью небытия, следует посетить и попробовать хотя бы отчасти унять классические смертные грехи: гордыню, тщеславие, лень, вожделение, обжорство, жадность, зависть, уныние и тоску, гнев, жестокость, властолюбие. Спокойно заглянуть в глаза смерти, постигнув, какая все-таки замечательная штука смерть, и лишь тогда обернуться назад и познать, какая все-таки замечательная штука жизнь —не тысяча жизней, разношерстных и торопливых, а одна-единственная, – моя неповторимая жизнь.
Глава шестьдесят вторая
Бесстыжие глаза лени
Лень – это не просто валяние на диване. Нередко мы путаем расслабленное состояние отдыха, в котором нет ничего предосудительного, с истинной ленью, чьи тупые и заплывшие бессовестностью глаза взирают на нас из недр наших душ.
Лень – это не просто нежелание что-то делать. Лень – это во многом отказ от прилежного отношения к жизни, от смирения и приятия собственного места в этой вселенной. Я отказался быть полотером. Возможно, это был замечательный поступок, в нем скрывалось стремление к высшим сферам, однако и полотер может приникнуть к мудрости жизни. Когда тряпка, такая мокрая и реальная, равномерно проходит по гладкому полу, делая его ярким и влажно-блестящим, ты словно паришь, и сие занятие уже не кажется бессмысленным и унизительным… Лень моя шептала мне про унижение и глупость, про безысходность и неприемлемость, а на самом деле именно она толкала меня вперед, именно она требовала не заниматься ничем, что мне неприятно и не питает другие мои пороки. Лень всегда была двигателем прогресса. Эскалаторы и автомобили, стиральные машины и телевизоры – вот истинные символы всепоглощающей лени.
Лень для меня – это неспособность естественно и самозабвенно приняться за любой труд и рутинно выполнять его честно и добросовестно. Втайне я уважаю таких людей – да-да, тех самых пахарей, идущих за плугом на кубинских полях. Мне тоже очень хотелось сунуть свое наглое серебряное песо в мозолистую руку работяги и пойти немного за плугом, ощутить тяжкий и неподъемный для меня труд пахаря. Это вовсе не было бы показателем того, что я якобы излечился от лени. Пару шагов за плугом – это ничто, это пыль, о которой нечего и говорить. А попробовать всю жизнь, каждый божий день делать нудную, тяжелую, подчас раздавливающую, убивающую работу и при этом быть счастливым, и чувствовать себя на своем месте… Я зову этих людей чернью? Сам я чернь после этого. Кроме тихой зависти и уважения такой труд, на грани медитации и единения с вселенной, вызвать ничего не может. А ковыряться в навозе? – спросите вы. Пусть в навозе, лишь бы не презирая самого себя. Конечно, одна только лень не смогла бы вырвать меня из простой опоечной действительности поломытия. Тщеславие, властолюбие и многие другие пороки по списку толкали меня вперед и притащили туда, где я нахожусь сейчас, – где-то на пути между рождением и смертью. Лишь с этой точкой отсчета трудно поспорить в моем сегодняшнем положении.
Я говорю – не надо бороться со своими пороками… Как с ними бороться? Как только я заставляю себя работать на наскучившей или кажущейся мне бесполезной работе, я прихожу в бешенство, я страдаю настолько остро, что появляется желание вообще не быть, не существовать. Это не стремление к самоубийству. Это нечто иное: ты просто как будто впадаешь сам в себя и хочешь пропасть таким образом, как будто никогда и не существовал. Мне кажется, что это возможно… Вы никогда не испытывали такого чувства? Когда моя работа кажется мне напрасной или по какой-то причине наскучила мне хуже горькой редьки, мне хочется именно так пропасть и не существовать. Ну, и как побороть такую непреодолимую сильную лень? Вы скажете, это не лень? Нет, это – лень. Нежелание добровольно и радостно трудиться есть лень. Даже если вы заставляете себя из-под палки – вы ленивы, ленивы, ленивы. Только скучный труд – однако вопреки всему приносящий радость, – избавляет от проклятия лени.
Глава шестьдесят третья
Идолы вожделения и обжорства
Наверняка история человечества не обошлась без грубого вмешательства инопланетян. Прилетели, небось, на заре времен, выловили обезьян, наших предков, подкрутили какие им было нужно гены и заставили строить пирамиды в качестве космических маяков. А когда стройка завершилась, пнули нас под зад иноп-ланетянской ногой. Так с тех пор мы и шарахаемся. А от чего еще люди такие недоделанные?
Если бы нас напрямую создал Бог, он не сотворил бы это полуволосатое существо, с трудом и, по всей видимости, временно, отказавшееся от каннибализма. Существо это мы именуем человеком.
Боженька, конечно, нас не оставил. Приголубил полуобезьян, и мы маемся со своей острой генетической недостаточностью ума и благородства, только Боженьку нашего имея в качестве единственного заступника.
Вожделение явно гипертрофировано в человеческих сынах. Когда бал правят половые гормоны, можно не задумываясь гасить свет, ибо нет ничего более тупого, как бессмысленная погоня за формами грудей и бедер с одной-единственной целью – вы, впрочем, догадываетесь, какой. Нет, не с целью деторождения. Если бы деторождения – я промолчал бы.
Вожделение не имеет ничего общего ни с деторождением, ни с любовью, ни с простой человеческой дружбой. Оно, скорее, сродни обжорству, ибо в обоих случаях предметом страсти является плоть. Плоть и ничего более. И какая разница, желаете вы насладиться овощем или чем еще. И то и другое – плоть.
Многие из нас умом понимают, что, кроме звериной сущности, в нас ничего не говорит, когда наши мысли и взгляды фиксируются на тех подробностях, которым не следовало бы волновать истинных наследников вселенского разума.
Но плотское сильнее нас, и оно по-прежнему так или иначе руководит миром.
Я, конечно, тоже мог бы темнить, подобно таким гениям выкручивания мозгов, как, например, Джойс. Вы помните известное заявление Джойса о том, что он писал для того, чтобы историкам литературы было над чем поработать в течение последующих четырехсот лет?
Однако я скажу прямо. Вожделение, увы, есть естественное продолжение нашей животной сути, причем даже более животной, чем у многих зверей, ибо большинство видов размножается только в определенные периоды, а в остальное время не испытывает особого интереса к сексу. Наша человеческая страстность тем более животна и низка, ибо не ставит своей целью рождение детей.
Ну и что же, мне теперь мракобеситься и морализировать? Запрещать и порицать?
Мы все жалкие жертвы вожделения, подвергаемые безжалостной критике со стороны немощных и обделенных. В сущности, если посмотреть вожделению прямо в его застывшие в неподвижном, тяжелом взгляде глаза, мы не увидим там ничего, кроме невинной страсти, вокруг которой в основном и накручены – исключительно моралью человеческой – неприятности.
Если вожделение не приводит ни к каким последствиям и если сие происходит не из преступных побуждений, так что же в нем плохого? Времени отнимает немного, энергии тоже вроде бы немного… При соблюдении определенных предосторожностей вредит здоровью гораздо меньше, чем обжорство.
В чем же все-таки отличие вожделения от обжорства? Ах, все дело в том, что вожделение бессмысленно без предмета вожделения, а предметом вожделения чаще всего является другой человек. Следовательно, в отличие от обжорства, нам необходима определенная кооперативность со стороны предмета вожделения, дабы эта страсть, порок, грех, или божественная и в тоже время простая человеческая радость имела место. Конечно, можно вожделеть предмет мечты, но здесь не об этом речь.
А собственно, что такое вожделение? Вожделение – это пустое времяпровождение, ибо не несет в себе созидательной сущности. Что-то вроде детской болезни. Некоторые ею переболевают в процессе юношеского становления, но некоторые не могут успокоиться всю жизнь.
Чем же вожделение отличается от любви? Тем же самым, чем отличается кастрюля от супа. Вожделение —это кастрюля, без любви она пуста, однако любовь без кастрюли расплещется в пространстве, так и не найдя единственно возможной для нее формы.
Обжорство еще более сложно победить, ибо если без плотской любви некоторые люди умудряются прожить всю жизнь, то без еды трудно долго протянуть. Поэтому границы обжорства размыты и неясны.
Если вы помните, когда я упоминал свою помощь голодающим негритятам, я сразу перечислил свое возмутительное меню обжоры и чревоугодника. Я намеренно желал высветить греховность сего соседства, ибо неумеренность в еде и чревоугодие на фоне голодающих людей и душ есть грех и безумство. Оправдание, что я закупал все эти яства у немца-повара лишь для того, чтобы поддержать его бизнес, тоже не является достаточным.
Мне кажется, в поисках умеренности решением может стать отвлечение мыслей от вожделения и обжорства, ибо и то и другое, безусловно, является прямым следствием скуки и душевной пустоты, безделия и запаха небытия. Верно ведь кто-то сказал: до чего опустишься, с тем и останешься; до кого упростишься, с тем не разлучишься.
Я не против простых земных радостей, я против возведения их на пьедестал в качестве идола. Я согласен на них как на чудное обрамление нашей суетной, вечно ищущей жизни, но никак не в качестве путеводных звезд, манящих наши настырные ненасытные корабли в направлении, поверьте, необитаемых островов.








