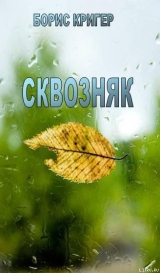
Текст книги "Сквозняк"
Автор книги: Борис Кригер
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
Концепция времени в виртуальной реальности также значительно отличается от так называемого реального мира. Время в виртуальной реальности обратимо и может течь вспять, останавливаться и даже течь параллельно в различных виртуальных реальностях.
Погружение в подобную виртуальную реальность создает совершенно новые психологические факторы. Не исключено, что виртуальная реальность будет широко применяться для решения психологических проблем. Виртуальная психологическая помощь уже сейчас становится бурно развивающейся областью психологических услуг в Интернете. Существуют различные обозначения для этого вида психологической помощи, а именно: психологическая помощь on line, консультирование виртуального психолога, кибертерапия.
Замена психолога компьютером, как это ни странно, может иметь даже больший терапевтический эффект, потому что в психологе мы неизменно видим не только и не столько специалиста, сколько другого человека, который способен нас осуждать, испытывать презрительные чувства к нашим слабостям… В очень многих случаях пациент не поведает настоящему психологу того, что он откроет машине. Грязные с точки зрения пациента побуждения, агрессивные наклонности и так далее – все это вольно или невольно будет скрываться от психолога, пока между пациентом и его терапевтом не сложатся уникальные, доверительные отношения. С компьютером же пациент может чувствовать себя гораздо более раскованным, осознавая, что машина не обладает моральными установками и уж во всяком случае не имеет собственных психологических напряженностей, которые мы рано или поздно можем наблюдать в любом человеческом психологе.
Цель виртуального взаимодействия психологической программы и пациента, как и психологического консультирования лицом к лицу с обычным психологом, состоит в том, чтобы помочь человеку улучшить качество своей жизни.
В принципе ежедневный анализ собственного психологического состояния и мотивации своих поступков, разбор значения снов и других подсознательных сигналов может стать необходимой рутиной, процедурой столь же обычной для человека будущего, как ритуал личной гигиены. В таком случае наличие программ, способных поддерживать человека в состоянии психологического здоровья, становится неизбежным атрибутом виртуальной эпохи, в которую только начинает входить человечество.
Фармакология счастья и регуляция поведения
В современной литературе трудно найти положительные оценки фармакологического воздействия на человеческое настроение и поведение. Чаще всего можно встретить критические материалы, говорящие об одурманивании людей, потере ими истинного «я».
Знаменитая на Западе книга «Brave New World»,[18]18
Дословно «Смелый новый мир» (англ.). (Строчка из трагикомедии Уильяма Шекспира «Буря».) В некоторых русских изданиях название романа переводится как «О дивный, новый мир» или «Прекрасный новый мир».
[Закрыть] написанная Олдосом Хаксли еще в 1932 году, считается пророческой и представляет собой классическую антиутопию. На страницах романа описывается мир далекого будущего, в котором люди выращиваются на специальных заводах-эмбрионариумах и заранее (с помощью воздействия на эмбрион на различных стадиях развития) поделены по умственным и физическим способностям на пять различных каст, которые выполняют разную работу, что, нужно отметить, является прямым исполнением рекомендаций Платона, изложенных в его «Государстве».
Итак, в книге Хаксли общество поделено на касты. От «альф» – крепких и красивых работников умственного труда до «эпсилонов» – полукретинов, которым доступна только самая простая физическая работа. В зависимости от касты младенцы воспитываются по-разному. Так, с помощью гипнопедии у каждой касты воспитывается восхищение перед более высокой кастой и презрение к кастам низшим.
В этом обществе нет места чувствам и считается неприличным не иметь регулярных половых связей с разными партнерами (основной лозунг: «Каждый принадлежит всем остальным»), однако беременность является страшнейшим позором. Люди в этом «мировом государстве» не стареют, хотя средняя продолжительность жизни – шестьдесят лет. Регулярно, чтобы всегда быть в хорошем настроении, они употребляют наркотик «сому», у которого нет негативных действий («сомы грамм – и нету драм»).
Невольно приходит на ум тот факт, что в современном западном мире огромное число людей, особенно работников умственного труда, употребляют прозак и подобные ему препараты, которые, как утверждается, не имеют серьезных побочных эффектов. Прозак является антидепрессантом, селективным ингибитором обратного захвата серотонина, то есть препятствует разрушению в мозге вещества, отвечающего за хорошее настроение. Таким образом, не удивительно, что этот препарат способствует повышению настроения, уменьшает чувство страха и напряжения, устраняет дисфорию – злобно-тоскливое, подавленное настроение, сопровождающееся крайней раздражительностью и склонностью к агрессии. Первоначально прозак применялся для лечения клинических депрессий различного происхождения и различных неврозов. В настоящее время прозак нередко принимают люди, которые в прежние времена не были бы признаны больными.
В конце 2001 года в прокат вышел американский фильм «Нация прозака».[19]19
Prozac Nation, 2001, USA.
[Закрыть] Сюжет основан на том факте, что в США ежегодно выписывается 300 миллионов рецептов на прозак и другие антидепрессанты. Прозак, который, по идее, помогает людям переживать психологические кризисы, начал входить в моду в 1980-е годы, а сейчас его чуть ли не вместе с витаминами употребляет половина американцев. Можно сказать, прозак наряду с виагрой и гербалайфом входит в тройку лекарств, особенно любимых массовой культурой и СМИ. Прозак, например, употребляет мафиозный босс из телесериала «Сопрано», а реальное лицо, писательница Элизабет Вурцель, начала пить эти таблетки в середине 1980-х, поскольку страдала юношеской депрессией. Сейчас Вурцель вроде бы здорова. Именно она написала автобиографическую книжку «Нация прозака: молодые и депрессивные в Америке», по которой и был поставлен фильм.
…Замкнутая девочка, отличница, красавица и журналистка Элизабет Вурцель выросла без отца, с истерично-заботливой матерью. Без труда поступив в Гарвард, Элизабет пускается во все тяжкие – алкоголь, наркотики, секс, помноженные на творческие амбиции журналистки. В результате она впадает в глубочайшую депрессию, теряет друзей, бой-френда и чуть не вскрывает себе вены. Лишь курс прозака помогает ей справиться с проблемами и впоследствии стать знаменитой писательницей.
Попытки человечества использовать различные средства для улучшения настроения и уменьшения страха не новы: с незапамятных времен люди пили вино, употребляли наркотические растения.
Отчего же человеку все время хотелось поднять себе настроение? Возможно, дело в том, что из поколения в поколение пресловутый эволюционный отбор действовал на выживание наиболее депрессивных, а потому острожных и пугливых, в то время как самые смелые и веселые легко шли на риск и погибали, так и не успев передать свои гены потомству.
Сегодня эволюция в своей грубой биологической форме перестала довлеть над человеком, а требования общества таковы, что веселые, смелые и предприимчивые люди с оптимистичным характером более успешны, чем депрессивные трусы.
«Депрессия <…> детерминирована силами, лежащими вне нашей индивидуальной биохимии; она обусловлена тем, кто мы, где мы родились, во что верим и как живем», – пишет Эндрю Соломон в своей книге «Полуденный демон. Анатомия депрессии».[20]20
Solomon, Andrew. The Noonday Demon. An Anatomy of Depression. London: Chatto & Windus, 2001.
[Закрыть] В главе «История» он отправляется в умозрительное путешествие в другие эпохи, напоминая нам о том, насколько по-разному воспринималась депрессия в различные времена. То это признак божественной немилости, то – гениальности, то грех, то избыток черной желчи, то нехватка серотонина. Эта глава еще раз убеждает в том, что депрессия, ее понимание и переживание – не только биохимическое состояние, но и социальный феномен.
Многообразно и противоречиво течение каждого отдельного случая депрессии, многообразно и противоречиво ее лечение. Главу «Лечение» Эндрю Соломон заканчивает словами: «На кого-то действует одно лечение, на кого-то – другое… Тот, кто не переносит медикаменты, может многого достичь с помощью психотерапии; а кому-то, кто потратил тысячи часов на психоанализ, поможет таблетка». Жизнь Эндрю Соломона, как он считает, спас препарат Xanax. Он пишет: «Мне становится страшно от мысли, что бы со мной было, если бы промышленность не произвела на свет лекарство, спасшее мне жизнь».
Отношение к депрессии зависит от представлений, господствующих в обществе, и, как ни странно, от политики государства. Этому вопросу посвящена десятая глава «Полуденного демона» – «Политика». Оказывается, именно политики определяют понимание этиологии, течения и лечения депрессии. Именно политики определяют финансирование тех или иных направлений в науке, именно политики решают, кто будет проводить исследования, именно политики влияют на отношение к депрессивным людям в обществе. Более того, именно политики решают, кого лечить, а кого нет, и являются законодателями моды на лечение. На понимание понятия «депрессия» влияют четыре принципиальных фактора. Во-первых, медикализация, которая «глубоко укоренилась в американской душе». Во-вторых, благодаря фармакологической пропаганде в обществе господствует мнение, что депрессия – результат низкого уровня серотонина, подобно тому как диабет – результат низкого содержания инсулина. Такой точки зрения придерживается и Эндрю Соломон: «Помню, как во время собственной депрессии я не мог делать самых простых вещей… Я мог винить в этом свой серотонин, и так и делал». В-третьих, средства массовой информации преподносят обществу образное представление депрессии, как бы научную иллюстрацию: «У депрессивных людей мозг серый, а у счастливых он окрашен в цвета “Техниколор”…» Картинка эта стоит тысячи слов и убеждает людей в необходимости немедленного лечения. Четвертый фактор можно назвать чисто политическим: депрессивные люди не склонны участвовать в избирательной кампании, они не подают голоса, не отдают своих голосов, а значит, не вызывают никакого интереса со стороны политиков. Депрессивных просто не существует в политическом пространстве.
Исходя из этих, в самом широком смысле политических коннотаций, следует и выбор терапии Эндрю Соломоном, и господствующее понимание депрессии в США. Депрессия – проблема функционирования мозга. И, по мнению Соломона, единственное средство исправления дисфункции предлагают фармакологические компании. Противники подобного мнения часто встречаются в стане философов. Такого рода средство Жак Деррида описывает как фармакон – греческое слово, используемое для обозначения лекарства и яда, амбивалентное понятие, подрывающее формальную логику. Фармакон, считает Деррида, «соблазняя, сбивает с пути»,[21]21
Derrida J. La pharmacie de Platon // La dissemination. Pаriz: Edition du Seuil, 1972.
[Закрыть] учреждает и разрывает дискурсивный порядок. Мы не можем принять односложное решение по поводу лекарств. Мы их любим и ненавидим… Что вредно, а что полезно? Полезным оказывается то, что позволяет человеку функционировать, делает его адаптивным, социальным и социально полезным.
Возможно, окажется, что и у прозака есть множество неприятных побочных явлений, но так или иначе целое поколение людей освобождено от буквально неизбежной необходимости искать утешение в наркотиках и алкоголе. Не следует обольщаться, что, не будь прозака, люди ничего не употребляли бы и ходили бы по улицам трезвые и суровые. Нет, они все равно искали бы выход и прибегали бы к кокаину, как это делал даже отец психоанализа, знаменитый Зигмунд Фрейд. Хотя сейчас Фрейд более известен как исследователь другой проблемы, первый его труд был посвящен именно этому наркотику. Он попробовал кокаин в 1884 году и вскоре понял, что обнаружил удивительное вещество. В своей первой крупной публикации «О коке» он пропагандировал кокаин как местное обезболивающее средство и лекарство от депрессии, несварения желудка, астмы, различных неврозов, сифилиса, наркомании и алкоголизма. Он также считал, что кокаин усиливает сексуальное влечение.
Так ли наивны были его выводы в свете того, что в состав вездесущей кока-колы когда-то входил экстракт из листьев коки? Отец кока-колы мистер Пембертон увлекался изобретением лекарственных снадобий. В свое время он даже придумал нашедшее сбыт средство от крупа, которое принесло ему несколько тысяч долларов прибыли. После этого Пембертон занялся более серьезным бизнесом. В середине XIX века европейские офтальмологи и ларингологи начали использовать для местной анестезии во время операций спиртовую настойку листьев Erythroxylon coca, вечнозеленого южноамериканского растения из Центральных Анд. В скором времени немецкие химики Фридрих Гадке и Альберт Ниман выделили из коки активный алкалоид, который Ниман назвал кокаином. В 1863 году французский фармацевт Анджело Мариани смешал экстракт коки с красным бордосским вином и пустил это снадобье в продажу для врачевания «усталости духа и тела». Благодаря умело поставленной рекламе оно принесло своему создателю мировую славу и гигантские доходы (его считают первым человеком, сделавшим на кокаине миллионное состояние). «Вином Мариани» восхищались Генрик Ибсен, Эмиль Золя, Жюль Верн, Роберт Стивенсон, Артур Конан Дойль, ему посвящали музыку Жюль Массне и Шарль Гуно, его пили английская королева Виктория, испанский монарх Альфонс VIII и папа римский Пий X, им подкреплялись и при российском императорском дворе. В соответствии с рекомендацией Мариани нужно было ежедневно выпивать три бокала, в которых содержалось около ста миллиграммов чистого кокаина, – доза отнюдь не маленькая. Коварный напиток повсеместно запретили к продаже лишь в годы Первой мировой войны.
Рецепт Мариани, опубликованный во французском фармакологическом справочнике, заинтересовал Пембертона. В 1884 году он открыл небольшую фабрику по выпуску «пембертоновского французского кокаинового вина», которое пользовалось немалым успехом, хотя и стоило отнюдь недешево – по доллару за бутылку. Это было все то же «вино Мариани», но с небольшой добавкой экстракта орехов кола (точнее, семян западноафриканской колы заостренной, Cola acuminata). Этот экстракт был весьма популярным возбуждающим средством (в нем содержится много кофеина). Дела шли хорошо, через год Пембертон обзавелся тремя компаньонами, и в январе 1886 года они зарегистрировали свое товарищество как Пембертоновскую химическую компанию (Pemberton Chemical Company). Так родилась кока-кола.
Те читатели и особенно читательницы, которые гордо отрицают какое-либо фармакологическое воздействие на свой организм, должны знать, что даже банальный шоколад представляет собой своего рода фармакологическое вещество, сходное по воздействию с прозаком. По мнению экспертов-фармакологов, создать лекарство на основе шоколада в принципе возможно. Одним из самых полезных веществ, имеющихся в шоколаде, является тирамин, под воздействием которого в человеческом организме выделяется тот самый серотонин (так называемый гормон счастья). Ну, и всем известный кофеин, присутствующий в шоколаде, тоже не стоит сбрасывать со счетов.
Таким образом, в массовом употреблении прозака нет ничего нового. Более того, люди, которые воздерживаются от приема подобных препаратов, проигрывают в конкурентной борьбе за рабочие места, за лучшие карьеры в политике, бизнесе, искусстве. Борющиеся один на один со своей депрессией имеют меньше шансов привлечь внимание партнера для создания семьи.
Известно, что прозак снижает сексуальное влечение, что, в общем, позитивно сказывается на частоте супружеских измен… Может быть, излишняя сексуальная озабоченность является проявлением невроза? Ведь недаром, как известно, определенный вид макак после сильного испуга начинает заниматься любовью. Так или иначе, прозак может даже способствовать продолжению рода, поскольку решение завести ребенка имеет скорее не сексуальную, а социальную подоплеку. Поскольку снижение напряженности в семье, необоснованных страхов за будущее позволяет принять это главное с биологической точки зрения решение, нельзя сказать, что прозак препятствует биологической эволюции.
Опять же, неважно, хорошо или плохо то или иное фармакологическое средство. Важен сам принцип, заключающийся в том, чтобы использовать все возможные средства для достижения стабильного состояния счастья и социальной активности.
Поскольку даже сам Зигмунд Фрейд, который, казалось бы, должен был излечить себя, не прибегая к лекарственным средствам, все же не мог справляться со своими депрессиями и неуверенностью в себе, очевидно, что человеку в депрессии фармакологическая помощь подчас необходима. Но таблетки вовсе не являются универсальным решением. Нужно воспитывать людей таким образом, чтобы они обучались самоанализу.
Однако, скорее всего, человечеству рано или поздно придется кардинально вмешаться в химию человеческого мозга, которая в результате древнейших факторов эволюции не очень подходит для жизни в современном мире.
И в наши дни жизнь полна разочарований, неприятностей, истинных и мнимых страхов. Конечно, можно совершать каждодневный титанический подвиг и, сжав зубы, идти по жизни как герой, страдая от своего неподатливого характера, однако так уж устроено природой, что характер все равно обманет эдакого героя и подведет его в самый неподходящий момент…
Любое явление может быть превращено в антиутопию. Светлейшая идея всеобщей любви, проповедуемая христианством, была превращена в кошмар инквизиции. Наука будущего, возможно, сделав лекарства индивидуальными (то есть создаваемыми автоматически в соответствии со специфическими свойствами каждого конкретного индивида), или, научившись воздействовать на мозг нехимическими сигналами, может помочь человеку начать соответствовать его амбициозным целям.
Во всяком случае, выходя в виртуальный мир, где присутствуют разумные, приветливые и оптимистически настроенные искусственные личности, человеку придется тянуться за новым стандартом, который начинает диктовать его собственное чудо-создание – искусственный интеллект. Компьютеры не страдают депрессиями, они не сердятся и имеют только те эмоции, на которые мы их программируем. За плечами искусственного интеллекта не было миллионов лет биологической эволюции. Ему нечего бояться. Пришло время и нам найти способ достижения, пусть и фармакологического, но все же столь необходимого состояния покоя и счастья.
Виртуализация воображения
Строго говоря, виртуальность не является новшеством. Человеческое воображение всегда было способно создавать свой особенный виртуальный мир. Его отличие от реальности, создаваемой современными компьютерами, заключается в том, что воображение рисует довольно расплывчатые визуально-слуховые образы, уникальные для каждого индивида в отдельности, в то время как виртуальное пространство, создаваемое компьютерами, универсально для всех пользователей.
Первыми шагами к виртуальному пространству было зарождение языка и изобразительное искусство, пусть и в самой примитивной, наскальной его форме. Далее такие средства стимуляции воображения, как книги, создавали в сознании разных людей схожие образы, однако индивидуальность этих образов, их размытость, неустойчивость и неопределенность не обеспечивали в достаточной мере общего пространства воображения. Такие относительно новые методы передачи образов, как кино и телевидение, унифицировали виртуальный мир, сделав его общим для многих индивидуумов.
С появлением виртуальной среды, создаваемой компьютерами, произошло как бы слияние человеческого воображения в единый воображаемый мир. Именно поэтому мы можем говорить о зарождении некоего общего виртуального пространства человечества, или по крайней мере той его части, которая уже прочно связывает свою жизнь с глобальной системой Интернета.
Соотношение между виртуальным пространством воображения и реальным миром можно представить в виде айсберга. У разных людей это соотношение отличается. Лесоруб большую часть жизни занят взаимодействием с физическими силами и объектами, в то время как философ-мечтатель гораздо больше времени проводит во власти своего воображения.
Если раньше в виртуальные глубины была погружена лишь малая часть сознания среднего индивида, в то время как большая его часть находилась над поверхностью, пребывая в мире реальных образов и объектов, то теперь наше сознание все более погружается в виртуальное пространство и лишь небольшая его часть остается на поверхности.
Этой самой поверхностью можно считать разделительную черту между реальностью в обычном понимании слова (когда она представляется как совокупность раздражителей, находящихся в материальном мире и действующих на органы чувств), и виртуальной реальностью (являющеюся опять же совокупностью раздражителей, находящихся в виртуальном мире и действующих на все те же органы чувств).
Виртуальным миром является система объектов, чья физическая основа принципиально отличается от наблюдаемых свойств объекта. Например, реальное дерево, которое мы наблюдаем в окне, состоит из древесины, которая в свою очередь представляет собой совокупность органических молекул с углеводородной химической основой. То, что мы наблюдаем и воспринимаем как зрительный образ, является отражением света от поверхности, образованной этими молекулами.
Точно такое же дерево на экране компьютера заключает в себе физические явления, происходящие внутри экрана компьютера (разные в различных типах экранов), а также определенные состояния электронов на жестком диске компьютера, где с помощью бинарного кода записана информация о том, как должно выглядеть дерево. Принципиальная разница между деревом в окне и деревом на экране компьютера заключается не в том, что одно дерево реально, а другое нет. И тот и другой объект имеет физическую основу и воздействует на наши органы чувств. Разница в том, что дерево в окне существует вне зависимости от нашего желания его созерцать (даже если это дерево было посажено нами исключительно для этой цели, оно прежде всего существует не для нас, а для себя, выполняя предписанное ему биологическое предназначение), в то время как виртуальное дерево создается только с целью демонстрации образа и не имеет никакой отдельной цели и способности, отличной от той, которая предписана ему на основе компьютерной программы и электронно-физического ее обеспечения.
Но в том-то и дело, что с точки зрения наших органов чувств оба дерева в принципе могут быть идентичны. Если развитие техники пока все еще отстает от возможностей наших органов чувств отличать реальные деревья от виртуальных, то можно предположить, что через некоторое время мы окажемся не в состоянии устанавливать какие-либо различия. Виртуальная реальность вполне способна воздействовать на все наши органы чувств, и рано или поздно виртуальную реальность можно будет воссоздать на том же уровне достоверности, с какой мы наблюдаем материальный мир. Особенно, если вместо опутывания проводами, сенсорами и прочими громоздкими придатками виртуальной реальности наших дней, можно будет непосредственно вмешиваться в прохождение нервных импульсов в нервной системе человека. В таком случае возможно достижение ощущения реальности даже более реальное, чем сама реальность. Человеческие органы чувств имеют определенные ограничения. Например, острота нашего зрения в несколько раз уступает остроте зрения хищных птиц. Обоняние у собаки в сотни раз чувствительнее, чем у человека. Представьте себе, что по зрительному нерву человека будет направлена информация, соответствующая остроте зрения орла, или, если нервные окончания человека окажутся к этому не приспособлены, то с помощью определенного аппарата подобная картинка будет создана непосредственно в участке коры головного мозга, ответственной за создание зрительных образов.
Уже в настоящее время, несмотря на несовершенство современных компьютеров, человек все больше времени проводит перед экранами компьютеров и телевизоров. Различные виды деятельности от работы до развлечений переносятся по ту сторону экрана. В иные дни современный индивид буквально полностью погружен в виртуальное пространство электронных сообщений, интернетных сайтов, телепрограмм. Остающееся на сон время тоже нельзя характеризовать как встречу с физической реальностью, поскольку сны в какой-то мере тоже представляют собой виртуальное пространство, с той лишь разницей, что во сне вместо сознания преобладает подсознание.
Безусловно, во всяком движении вперед необходимо принимать во внимание консервативность человека. Существуют определенные вещи, которые могут быть признаны рациональными, но от которых человек еще долгое время будет отказываться в силу того, что воспитание вкусов и морали происходит через передачу оных от поколения к поколению. Поэтому сложно представить себе, что человечество пойдет на резкие изменения в своих основных привычках.
Вместе с тем от поколения к поколению вводятся значительные новшества, и то, что, скажем, для нашего поколения имеет ностальгическую ценность, может быть совершенно лишено смысла для наших детей и внуков, не говоря уже о более отдаленных потомках. Уже сейчас многими детьми громоздкие тома наших библиотек кажутся чем-то невероятно нелепым. Зачем нужна книга толщиной в несколько сот страниц, если простым нажатием кнопки нельзя найти нужное словосочетание, как это возможно в любом электронном тексте…
Нельзя сказать, что философская деятельность не в состоянии наметить основные тенденции развития будущего. Даже принимая во внимание непредсказуемость многих явлений, открытий и прочих факторов, можно заявить, что развитие человечества в сторону виртуализации своей среды обитания не чуждо общему ходу человеческой истории.
Причем виртуализация среды необязательно ведется только через компьютерные взаимодействия. Появление отделочной плитки на фасадах домов, построенных из бетона или просто из фанероподобных материалов, вместо массивных камней и кирпичей – это тоже шаг в направлении виртуализации нашего мира. То есть рациональность строителей подсказала им использование новых материалов, в то время как консерватизм человеческих вкусов заставил архитекторов пойти на компромисс и предложить внешнее сходство с домами прошлого.
Использование при создании скульптур специальных видов резины вместо мрамора тоже является примером виртуализации нашей среды обитания. Древний латинский лозунг Essequamvideri – быть, а не казаться, более не в почете. В настоящее время вещи и явления склонны представляться нам определенным образом, в то время как на самом деле они имеют совсем другую основу. Остается один лишь вопрос, а что же это значит – на самом деле? Существует ли такая окончательная реальная реальность, которую невозможно было бы подвергнуть сомнению? Увы, этот древний, как мир, вопрос, пожалуй, невозможно разрешить, оставаясь на человеческих, антропоцентрических позициях. Ведь все объекты, рассматриваемые и изучаемые в философии или гуманитарных науках, всецело принадлежат к сфере человеческого опыта. Познавательный человеческий опыт может быть только индивидуальным, поскольку не может существовать никакая форма гуманитарного опыта, непосредственно не связанная с деятельностью конкретного человеческого мозга и телесного субстрата. Ни психический опыт животных, ни сигнальная симуляция опыта, производимая компьютерной техникой, сами по себе, безотносительно к деятельности людей, не могут рассматриваться в категориях смысла или значения, сущности или явления. Все многообразие так называемых фактов действительности, которые можно воспринимать органами чувств, о которых можно что-либо знать или говорить, представляет собой что-то только потому, что является составной человеческого опыта. Таким образом, опыт – это способ не только освоения и осмысления действительности, но и способ ее конституирования и квалификации.
Кроме непосредственного восприятия реальности человек еще и производит ее индивидуальное осознание. Сартр в своей работе «О воображении»[22]22
Сартр, Жан-Поль. Воображаемое. Феноменологическая психология воображения. М.: Наука, 2001.
[Закрыть] пытался понять, какова принципиальная разница между зрительным образом стула, стоящего посреди комнаты, и образом стула, возникающим в нашем воображении при воспоминании об этом стуле. Восприятие и осознание представляет собой две стороны опыта. Простое отражение без осознания известно и в неживой природе, ведь гладь зеркала или поверхность воды способна отражать объекты, однако не способна их осознавать.
Человеческая деятельность целесообразна и направлена на удовлетворение потребностей обеих сторон опыта и, прежде всего, на согласование их функционирования. Каждый элемент опыта является того или иного рода ценностью. Он возникает, существует и функционирует только потому, что является необходимым и полезным для деятельности индивида. Значимость или ценность опыта не является фактором, выходящим за пределы опыта, но возникает как следствие жизненной необходимости согласования личностного опыта с предметной или социальной средой, иначе говоря, с окружающим миром вещей и живых существ.
Не нужно забывать и о трансцендентальном, или, говоря точнее, трансцендентном[23]23
Трансцендентальный и трансцендентный – философские термины, введенные в новейшую философию Кантом. Первый из них означает: определяющий априорные условия возможного опыта; в этом смысле выражение «Трансцендентальная философия» почти равносильно современному термину Erkenntnisstheorie (теория познания – наука о всеобщих и необходимых условиях возможного опыта). Второй термин – «трансцендентный» – означает: переступающий границы возможного опыта (в противоположность термину «имманентный»); поэтому «трансцендентная философия» – все равно, что метафизика, т. е. философская область, претендующая познать лежащее за пределами возможного опыта. Кант оттеняет различия между этими двумя терминами, но сам употребляет их небрежно. Оба термина употреблялись и до Канта в схоластической философии. В XIII в. говорят об actio immanens (реrmаnens) как о действии, происходящем внутри субъекта, и об acrio transiens, как о действии, выходящем за его границы, а также о causa immanens – причине, заключающейся в действующем объекте, и causa transiens – причине, лежащей вне его. Такое же словоупотребление мы находим у Спинозы, когда он говорит о Боге как имманентной, не трансцендентной причине всех вещей: «omnium rerum causa immanens non vero transiens» (См.: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона М.: Терра, 2001.).
[Закрыть] познании, находящемся за пределами чувственного опыта, но не за пределами опыта в целом. Очень важно отметить, что трансцендентальное познание – это осмысление условий возможности опыта, а не познание объективной, независимой от опыта истины.
Ни одна из сторон опыта не дает знания о мире «вещей в себе». Однако само определение «вещей в себе», данное Кантом, может оказаться ускользающим, если не фокусироваться на человеческом опыте. Так или иначе, знание должно согласовываться не с объективным состоянием дел в действительности, но лишь с другим знанием в пределах опыта предметной или социальной деятельности, то есть согласовываться с фактами чувственного опыта и с трансцендентальной картиной мира.
Ни один из способов познания и ни одна из форм опыта (рефлексия, сенсорика, эмоции, интуиция или воля) сами по себе не являются гарантами успешности деятельности человека. Каждая из этих форм опыта может и должна использоваться в той или иной степени, в тех или иных комбинациях в зависимости от обстоятельств опытной ситуации и цели деятельности. Знание может быть либо дедуктивной гипотезой, либо убеждением (императивом, моделью). Спекулятивное познание чистого разума в пределах конкретного исследовательского подхода необходимо и обязательно, поскольку оно относится не к самим объектам мира феноменов, а лишь к методологическим основаниям, делающим возможным упорядочение опыта. Выводы и положения Канта, относящиеся к трансцендентальной философии и трансцендентальной логике, не могут выноситься за пределы области методологии. Когда же Кант говорит в своих пролегоменах о практическом (а не трансцендентальном) познании, он применяет понятие «разумная вера».[24]24
Кант, Иммануил Соч.: В 6 т. М.: Мысль, 1965. Т. 4. Ч. I. С. 67–209. (Сер. «Филос. наследие»).
[Закрыть]








