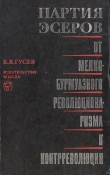Текст книги "История одного предателя"
Автор книги: Борис Николаевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
Глава XIX
Разоблачение
Кампания против Азефа, начатая Бурцевым, тем временем развертывалась своим чередом. Шаг за шагом Бурцев накоплял улики и уже перестал делать секрет из своих обвинений. Теперь он не был одинок. Систематические неудачи Боевой Организации во всем главном, что только она ни задумывала, начали наводить на печальные размышления многих и из числа партийных деятелей. Становилось бесспорным, что предатель в самом центре партии имеется, и методом исключения все, вставшие на путь этих рассуждений, приходили к подозрениям против Азефа. На партийное положение Азефа все эти подозрения до поры до времени никакого влияния не оказывали. Руководители партии упорно отказывались верить всем выдвигаемым против него обвинениям, квалифицируя их как «легкомысленную обывательскую болтовню». Азеф продолжал руководить боевой работой партии и входить в состав Центрального Комитета. В качестве члена последнего в августе 1908 г. он присутствовал на партийной конференции в Лондоне…
Такое положение заставило Бурцева перейти к более решительным действиям. Узнав об участии Азефа на Лондонской конференции, он отправил одному из членов этой конференции, своему старому другу А. Л. Теплову, письмо с прямым обвинением Азефа в измене. Это письмо стало известным Центральному Комитету, который решил, наконец, выйти из своего пассивного состояния и привлечь Бурцева к третейскому суду. Речь шла не о расследовании по существу тех обвинений, которые выдвигал Бурцев против Азефа, а именно о суде над Бурцевым за то, что он «клеветал» на Азефа. И, тем не менее, решение Центрального Комитета натолкнулось на сильное сопротивление среди видных партийных деятелей, – особенно из числа имевших более или менее близкое отношение к Боевой Организации.
Последние во главе с Савинковым были самым решительным образом против суда, считая уже самую возможность такого суда оскорблением для чести Боевой Организации.
Считая Бурцева искренним человеком, впавшим в глубокое заблуждение только потому, что он не знал действительной биографии Азефа, Савинков в доверительных беседах рассказал Бурцеву во всех подробностях о роли Азефа в жизни Боевой Организации. В этих рассказах для Бурцева было много нового. Из них он, в частности, впервые узнал о плане покушения на крейсере «Рюрике»: разговоры его с Савинковым происходили в сентябре, – как раз в те дни, когда «Рюрик» подходил к Кронштадту и готовился к царскому параду, и когда посвященные в это дело руководители Боевой Организации со дня на день ожидали получения телеграммы о «роковом» для жизни царя инциденте во время этого парада. Легко себе представить, какие настроения должны были вызвать в Бурцеве эти рассказы. У него была твердая уверенность в правильности выдвинутого им обвинения, – но точного знания, документально установленных фактов он не имел. Прав или не прав он был, – но общая обстановка в свете узнанного им от Савинкова, становилась еще более жуткой, еще более кошмарной.
Именно в эти дни он сделал свою попытку вызвать Лопухина на откровенный разговор. Попытка эта, как рассказано выше, удалась:
«Никакого Раскина я не знаю, но инженера Евно Азефа я видел несколько раз», – взволнованно бросил бывший директор Департамента Полиции, сам разрешивший Азефу вступить в Боевую Организацию, но не имевший до этого разговора и отдаленного представления о том, как далеко ушел его бывший подчиненный по тому пути, для вступления на который Лопухин его благословил.
Этот разговор дал Бурцеву то, чего ему раньше не хватало, – дал знание правильности выдвигаемого им обвинения. Пусть Азеф убил Плеве, вел. кн. Сергея и многих других; пусть он не сегодня-завтра убьет и самого царя. Дело от этого не меняется. Какими мотивами он руководствуется при этом – неизвестно, – но точно известно, что он состоял и состоит на службе у полиции, и если по тем или иным соображениям он сегодня не выдает одних из террористов, то совершенно несомненно, что он вчера и позавчера выдавал многих других, – и что он будет так же поступать завтра. Мириться с этим положением нельзя, Если ближайшие друзья Азефа не хотят открыть глаза, если они остаются глухи ко всем указаниям, – тогда остается только одно: высказать свои обвинения публично, в печати.
Под влиянием этих настроений немедленно же после свидания с Лопухиным Бурцев составил открытое обращение ко всем членам партии социалистов-революционеров и сдал его в типографию для набора. В этом обращении он повторял свои обвинения против Азефа и объяснял, почему он должен прибегнуть к помощи печатного слова.
В корректурных гранках это обращение было послано в Центральный Комитет социалистов-революционеров. Только после этого принятое больше чем за месяц перед тем решение о созыве третейского суда было приведено в исполнение. В состав суда решено было пригласить трех наиболее старых и популярных в революционной среде революционеров: В. Н. Фигнер, Г. А. Лопатина и П. А. Кропоткина.
«Надо принять меры и усмирить Бурцева, который направо и налево распространяет слух, что Азеф провокатор», – говорил член Центрального Комитет» Натансон, приглашая в состав суда В. Н. Фигнер.
Они все еще были уверены, что речь идет именно о том, чтобы «усмирить» Бурцева!
Суд заседал в Париже, – главным образом на квартире Савинкова, в маленькой скромной комнате, почти лишенной обстановки. Внешняя обстановка была самая обыденная, без намека на торжественность. Члены суда сидели вперемежку с «обвиняемым» и представителями «обвинения», официальным председателем был Г. А. Лопатин, но фактически допросы вел главным образом В. М. Чернов, – который вместе с М. А. Натансоном и Б. В. Савинковым представлял обвинение в качестве официальных уполномоченных Центрального Комитета. Настроение всех участников, – достаточно приподнятое и в самом начале, – по мере хода следствия, становилось все более и более напряженным.
Бурцев, связанный обещанием, которое он дал Лопухину (не называть никому его имени), в начале держался в области тех данных, которые он собрал через Бакая. Это были все косвенные улики, – и притом основанные на слухах, циркулировавших в полицейских кругах. Убедительными они становились только в том случае, если слушатель с доверием относился к личности информатора, – к самому Бакаю. А именно этого, конечно, и в намеке не было у представителей партии, которые третировали Бакая, как только могли. В тяжелом положении находился и сам Бурцев. Он был один против трех, – причем из этих трех каждый в отдельности был более опытным, чем Бурцев, оратором, более ловким, чем он, диалектиком. Особенно сильно на него нападал Чернов, который по выражению В. Н. Фигнер, «как ловкий следователь, наступал на Бурцева и можно сказать преследовал его по пятам». Бурцев же поражал «отсутствием изворотливости, неумением отражать противника».
Некоторые из судей колебались. Кропоткин, который имел большой опыт с провокаторами среди французских анархистов 1880–90 г.г. вспоминал, что история не знает случая, когда долголетние и из разных кругов возникавшие подозрения против какого-либо определенного лица не оказывались в конечном итоге правильными. Тем не менее, чаша весов перевешивала явно не в сторону Бурцева. Особенно сильным козырем в руках «обвинителей» был перечень «революционных заслуг» Азефа. Развернув список этих последних в большой и красивой речи, Б. В. Савинков патетически спрашивал Бурцева:
«Я обращаюсь в Вам, Владимир Львович, как к историку русского революционного движения, и прошу Вас после всего, что мы рассказывали здесь о деятельности Азефа, сказать нам совершенно откровенно: есть ли в истории русского революционного движения, где были Желябовы, Гершуни, Сазоновы, и в революционном движении других стран более блестящее имя, чем имя Азефа?»
«Вы знаете, – говорила Бурцеву В. Н. Фигнер, – что вы должны будете сделать, когда будет доказана неправильность ваших обвинений? Ведь вам останется только пустить пулю в лоб, – за то зло, которое вы причинили делу революции…»
В этой обстановке, в самый последний момент Бурцев решил нарушить обещание, данное им Лопухину.
«Я имею еще одно доказательство», – начал он, и, потребовав от всех присутствующих особого торжественного обещания не выносить подробностей за стены данной комнаты, подробно рассказал им о своем свидании с Лопухиным.
Рассказ произвел огромное впечатление. «Я никогда в моей жизни, вспоминает Бурцев, – не говорил перед такими внимательными слушателями, как на этот раз… Когда я повторил слова Лопухина:
– Никакого Раскина я не знаю, но инженера Евно Азефа я видел несколько раз, – то все враз заговорили и встали со своих мест. Взволнованный Лопатин, со слезами на глазах, подошел ко мне, положил мне руки на плечи и сказал:
– Львович, дайте честное слово революционера, что вы слышали эти слова от Лопухина…
«Я хотел ему ответить, но он отвернулся от меня, как-то безнадежно махнул рукою и сказал:
– Да чего тут говорить… Дело ясное!»
Положение сразу переменилось. «Присутствующие все были ошеломлены», признается В. И. Фигнер, до того целиком бывшая на стороне защитников Азефа. Представители Центрального Комитета пытались было бороться против общего настроения. Натансон говорил, что Лопухин – опальный директор Департ. Полиции, и сознательно клевещет на «опасного для полиции революционера» Азефа, желая этим путем выслужиться перед правительством.
Но натяжка этого объяснения чувствовалась всеми. После короткого обмена мнениями, Кропоткин от имени всех судей заявил, что партия должна произвести проверку рассказа Лопухина.
Суд над Бурцевым кончился, – впервые за все время начиналось расследование деятельности Азефа.
Сам Азеф в течение всего этого времени, – суд тянулся около месяца, – был вне Парижа. Большую часть лета, после поездки в Глазго, он провел вместе с г-жею N: сначала в Остенде, затем в Париже. Вместе с нею он поехал и в Лондон, – когда ему пришлось туда ехать для участия в конференции. Заседаниями последней, по свидетельству Аргунова, Азеф нередко манкировал: это происходило потому, что, по рассказу г-жи N, все эти дни их лондонского пребывания были сплошным пикником. Увеселительные поездки сменяли одна другую. Только к одному вопросу Азеф отнесся с большим вниманием: уже после того, как Центральным Комитетом была разработана смета расходов, в самый последний момент, Азеф предъявил новые, повышенные требования денег на нужды Боевой Организации. Центральный Комитет – как это обычно бывало, – уступил, и уже принятый бюджет «был пересмотрен наново»…
Таким же сплошным пикником была и жизнь в Париже, куда Азеф вместе с г-жею N. переехал после Лондона. Он даже внешне настолько переменился, что это начало бросаться в глаза его товарищам по партии, – обычно мало внимательным к мелочам этого рода. Всегда чисто выбритый, в щегольском прекрасно сшитом костюме, он выглядел настоящим именинником.
… Как раз в дни этого «сплошного пикника» г-жа N. получила от Азефа наибольшее число ценных подарков, – из которых только за один, – за бриллиантовые серьги, купленные в Париже, – Азеф заплатил 25 тыс. франков…
В заседаниях Центрального Комитета, которые предшествовали созыву суда, Азеф участвовал в качестве полноправного члена и вместе с другими разрабатывал программу поведения на суде. Но на самый суд явиться он не захотел: ему было «противно купаться во всей той грязи, которую поднимает Бурцев»; сама мысль о возможности объясняться с ним перед судом казалась оскорблением, и дело «защиты своей чести» он полностью передоверил своим ближайшим товарищам по партии. Последние все это принимали за чистую монету. Если бы против кого-либо из них по роковому стечению обстоятельств было возведено аналогичное обвинение, то они на самом деле испытывали бы приблизительно такие же ощущения, – вполне естественным казалось им наличие их и у Азефа. Поэтому они не только с готовностью взяли на себя дело «защиты его чести», но еще и сами уговаривали его уехать из Парижа, отдохнуть, успокоиться, собраться с мыслями…
Азеф действительно уехал, – в маленькое дачное местечко в Пиренеях, недалеко от Биаррицы, где в то время жила его жена с детьми. С г-жей N. пришлось на время расстаться: нужно было выдерживать роль глубоко оскорбленного, – а жизнь «сплошного пикника» могла броситься в глаза. Но, несмотря на нависшую угрозу, мысли Азефа все время возвращались к г-же N.: жизнь в семье после увеселительных поездок казалась до невозможности скучной. Его письма к г-же N. от этих дней полны упреками за отсутствие писем и пожеланиями скорее свидеться:
«Susse, liebe, – восклицает он в письме от 27 сентября, – как хотел бы я иметь тебя здесь, чтобы купаться вместе!»
Сравнительно скоро явилась приличная возможность положить конец этой разлуке: летние каникулы окончились, детям Азефа нужно было вернуться в школу, – и Азеф уговорил жену ехать вместе с ними в Париж, не беспокоясь о том, что он останется один. Так будет даже лучше: ему тяжело видеть людей, да он и вообще предпочитает наедине с собой переживать тяжелые минуты. – Едва ли нужно прибавлять, что немедленно после того, как выяснилась дата отъезда жены, к г-же N. полетела телеграмма, – с призывом как можно скорее приехать. Г-жа N. не заставила повторять просьбу, – и в то время, когда друзья Азефа на суде «защищали его честь», в Биаррице вновь началась жизнь «сплошного пикника». «Здесь чудно хорошо, – писала г-жа N. своей матери в первой открытке из Биаррицы, от 14 октября. – Я купаюсь каждый день, – так тепло. Вчера удила рыбу, поймала 5 штук. Я сидела в лодке. Солнце печет невероятно». К концу месяца погода в Биаррице начала портиться, – тогда Азеф с г-жею N. совершили небольшое турне по Испании: видели бой быков в Сан-Себастиано, бродили по Мадриду…
Суд в начале беспокоил довольно мало. Письма из Парижа звучали очень оптимистически, и Азеф надеялся, что эта «грязная процедура судебного разбирательства» закончится быстро и вполне благополучно. Возможно, что держалась и надежда на Авдеева: со дня на день в это время ждали телеграммы о «прискорбном происшествии» на крейсере «Рюрик», – и тогда Азефу перестали бы быть страшными все Бурцевы мира: ни один суд не решился бы высказаться против организатора убийства царя. Но телеграммы этой не было, процесс затягивался, – и Азеф в письмах к друзьям в Париж становится все более и более раздражителен, ворчит на суд, который без нужды затягивает дело, на друзей, которые не умеют быть достаточно убедительными. «Хотелось бы уже развязаться с этой мерзостью», – срывается у него в письме к Савинкову из Сан-Себастьяно, – того самого, на залитой солнцем арене которого так театрально красиво резали быков…
Но «развязаться» не удалось. Наоборот, «эта мерзость» заставила прервать прогулку по стране тореадоров. Г-жа N. помнит, что после получения каких то писем, Азеф заявил ей, что должен расстаться с ней и срочно, по важным «коммерческим делам» вернуться в Париж.
Нет сомнения, это были письма, написанные после рассказа Бурцева о свидании с Лопухиным. Имя последнего и подробности разговора с ним держались в секрете. Но факт резкого поворота в ходе всего дела не был тайной для сравнительно широких кругов партийных деятелей. От одного к другому шло известие о «таинственной сенсации», которую преподнес суду Бурцев и которая заставила Центральный Комитет приступить к особому расследованию в Петербурге. Во всяком случае, в этих пределах о происшествии было сообщено и Азефу, – теми его друзьями, которые продолжали оставаться уверенными в его невиновности. Таковым его считал даже сам Аргунов, которого Центральный Комитет отправлял в Петербург для собирания сведений о Лопухине. Перед своим отъездом из Парижа он не только счел нужным зайти попрощаться с женой Азефа, но и написать самому Азефу. «Одна подробность, характеризующая настроение у меня – следователя, пишет он в своих воспоминаниях, – при прощании с женой и детьми Азефа мне вдруг захотелось сказать слово утешения и поддержки «бедному Ивану Николаевичу», который там, один, переживает эти отвратительные толки о себе, всю эту грязную процедуру судебного разбирательства, и пр. и пр. Я написал ему открытку, где в нескольких словах, прощаясь перед отъездом, просил его не тревожиться, не расстраиваться и быть бодрым».
Может быть, именно эта открытка и переполнила чашу тревог Азефа и заставила его поспешить в Париж, – чтобы попытаться спасти то, что еще можно было спасти из всей этой становившейся все более и более «грязной» процедуры.
В Париже выяснилось, что положение было хуже, чем он ожидал. Возможностей спасения не было, – и в дальнейшем Азеф все время катится по наклонной плоскости, делая ошибку за ошибкой. «Когда бог хочет кого-либо наказать, писал он позднее о своем поведении в эти дни, – то отнимает у него разум».
Неизвестно кто именно это сделал, но из документов несомненно, что кто-то из небольшого числа людей, хорошо посвященных в подробности рассказа Бурцева, не сдержал своего слова и не только назвал Азефу имя Лопухина, как того нового свидетеля, который выступает против него, но и сообщил ему целый ряд подробностей относительно свидания Лопухина с Бурцевым.
Азеф сделал отчаянную попытку: тайно от товарищей он помчался в Петербург и совместно с Герасимовым предпринял ряд шагов, чтобы уговорить Лопухина отказаться от своего показания. Сначала Азеф, потом Герасимов с этой целью нанесли визиты Лопухину. Результаты были прямо противоположные. Лопухин решил жечь корабли и согласился на свидание с Аргуновым, который в эти дни был в Петербурге и собирал сведения о Лопухине через либерально настроенных знакомых последнего. В этом разговоре Лопухин шел даже дальше, чем в разговоре с Бурцевым, и подробно рассказал об Азефе все, что знал. «Я слушал молча, – вспоминает Аргунов, который шел на свидание все еще полный веры в Азефа, не прерывая Лопухина. Развертывающаяся картина азефовщины давила на мозг всею своею тяжестью. Хотелось поймать рассказчика на одном каком-нибудь фальшивом пункте, чтобы ухватившись за него, отбросить всю эту мистификацию, всю хитроумную сеть его доказательств. Но я не находил ни одной фальшивой ноты в его изложении, ни одной несообразности, нелепости. Все дышало правдой».
Лопухин пошел даже на большее: согласился приехать в Лондон и там повторил свой рассказ, – на этот раз перед тремя представителями партии: Аргуновым, Савинковым и Черновым. И на всех на них его рассказ тоже произвел впечатление полной правды. В это же время были получены и объективные улики против Азефа: Лопухин указал точную дату посещения его Азефом. У последнего запросили, где он был в эти дни. Азеф представил счета берлинских гостиниц, пытаясь ими доказать свое алиби. Проверка не только обнаружила ложность этих документов, но и убедила, что они изготовлены с помощью полиции.
Звенья цепи обвинения замыкались одно за другим.
5 января 1909 г. Центральный Комитет созвал совещание ряда наиболее ответственных партийных работников, – и, подробно изложив положение дела, поставил вопрос: что делать? Ослепление «блестящим прошлым» Азефа было настолько велико, что и теперь из 15–18 присутствовавших лишь 4 подали свои голоса за немедленную казнь предателя: Зензинов, Прокофьева, Савинков и Слетов.
Остальные колебались. Правда, из состава присутствовавших, кажется, только один Натансон продолжал лелеять надежду, что Азеф еще сможет оправдаться. Для других решающим было опасение, что немедленная казнь Азефа вызовет междоусобную войну внутри партии: Карпович, живший в это время в Петербурге, писал, что он «перестреляет весь Центральный Комитет», если осмелятся поднять руку на Азефа. Было известно, что таково настроение и некоторых других членов Боевой Организации. Кроме того, боялись, что убийство Азефа вызовет репрессии против всех эмигрантов.
Сошлись на самом плохом, на чем только можно было сойтись: на компромиссе. Решено было сделать попытку под предлогом суда завлечь Азефа в специально для этого снятую укромную виллу и там его умертвить. Это, по крайней мере, сводило к минимуму опасность репрессий со стороны французской полиции. Пока же были отправлены к Азефу три представителя собрания, – для допроса, причем им было поставлено условие: не брать с собою оружия. Опасались, что кто-либо из них не выдержит…
Эти представители, – ими были В. М. Чернов, Б. В. Савинков и член Боевой Организации Панов («Николай»), – поздно вечером в тот же день явились на квартиру Азефа. С первых же слов Азеф понял, что теперь он сидит на скамье подсудимых. В этой обстановке его так часто и казалось бы хорошо испытанное умение владеть собою ему изменило. Он путался в ответах, сбивался в рассказах, впадал в противоречия с точно установленными фактами и даже с самим собою. Но вскоре, увидев, что в него не стреляют, он немного пришел в себя и сделал попытку даже свою растерянность обратить в свою пользу: да, он сейчас не может дать удовлетворительных ответов; обстоятельства его преследуют, – к тому же он чувствует себя как во враждебном лагере, – «вы все против меня», – и это отношение ближайших друзей его угнетает и не дает собраться с мыслями. Он пытался играть на воспоминаниях о прошлом. Остановившись против Чернова и смотря ему прямо в глаза, он дрожащим голосом говорил:
– Виктор! Мы жили столько лет душа в душу. Мы работали вместе. Ты меня знаешь… Как мог ты придти ко мне с таким… с таким гадким подозрением?
Но и это не помогло. В ответ ему предложили рассказать откровенно о своих сношениях с полицией, по-видимому, была минута, когда Азеф колебался: не принять ли это условие. Зная его можно говорить с полной уверенностью: если бы он видел наведенное на него дуло револьвера, он действительно принял бы это условие, – и какой угодно ценой купил бы жизнь. Но дула на него наведено не было, – и после колебаний он продолжал упорствовать в полном отрицании.
Допрос кончился тем, что пришедшие ушли, взяв с Азефа обязательство явиться на следующий день к полудню на квартиру Чернова. Азеф обещание это дал, но, конечно, и не собирался держать его.
Едва только закрылась дверь за делегатами, Азеф торопливо стал готовиться к бегству. Жене, которая по-прежнему верила ему во всем, Азеф объяснил, что должен уехать на время, – для того, чтобы спокойно собрать материалы для своего оправдания. Сейчас, – говорил он, – защищаться нет возможности, ибо «они» уже решили его убить. Но он скоро вернется с доказательствами и тогда восстановит свою честь. Больше всего его беспокоил вопрос, не оставили ли революционеры патрули на улице, – для надзора. Несколько раз подбегал к окну, – в неосвещенной комнате, – и, приподняв уголок занавески, осматривал окрестности. Улицы были пусты. Никаких патрулей не было.
Вещей Азеф с собой почти не взял. Заботливо пересмотрел он только свой архив, кое-что уничтожил, на видном месте на письменном столе положил прощальное письмо матроса Авдеева. Все остальное, – все письма от партийных друзей, все документы, такие реликвии, как письма Сазонова из Шлиссельбурга, и пр. – взял с собою. Трудно верится, но делегаты, приходившие для допроса, даже не сделали попытки осмотреть его бумаги…
Было 31/2 часа ночи на 6-ое января 1909 г., когда Азеф покинул свою квартиру. Жена проводила его до вокзала и посадила на ближайший поезд, уходивший в Германию. Адрес для писем ей Азеф дал на Вену, до востребования, но ехал он не непосредственно в Вену, а сначала в тот провинциальный городок Средней Германии, откуда родом была г-жа N. и где она теперь жила у матери, после такой приятной поездки по Испании.
На следующий день жена послала Азефу письмо, – полное тоски, тревоги и сомнений, полное просьб, как можно скорее собрать «документы», – так как положение становится совершенно невыносимым, так как даже самые, казалось бы, преданные друзья начинают сомневаться и смотреть на нее с недоверием, даже с подозрениями.
И как раз в этот же самый день, в гостях у г-жи N., Азеф строчил свой последний доклад Герасимову, – с теми сведениями о роли Лопухина, которые он почерпнул из слов допрашивавших его делегатов…
Полицейская карьера Азефа была кончена. Теперь он уже не мог оказывать услуг, – ни Герасимову, ни Столыпину.
Этого Лопухину не простили. Столыпин решил поставить примерный процесс против последнего, – чтобы показать, как мстит правительство своим сановникам, какие посты они ни занимали бы, если эти сановники смеют выдавать тайны полицейского розыска. Так как процесс должен был быть очень громким, то Столыпин предварительно доложил о своих планах царю, познакомив последнего с перечнем заслуг Азефа.
Тут впервые Николай II узнал, кем был выдан Никитенко, кто предотвратил покушение в Ревеле.
Благословение на предание Лопухина суду было дано, – с тем большей охотой, что Николай уже давно не любил Лопухина за разоблачение тайны печатания погромных прокламаций; сам Николай к этим прокламациям относился, с большой благосклонностью…
Процесс был проведен с рекордной быстротой, – причем по специальным инструкциям Столыпина и во время предварительного следствия, и на суде Лопухину не дали возможности рассказать о том главном, о чем он хотел рассказать: о тех своих противниках из Департамента Полиции, которых он считал главными вдохновителями двойной игры Азефа, – и специально о самом Столыпине. Обо всем этом Лопухин смог рассказать только в 191 7 г., на допросах в Чрезвычайной Следственной Комиссии, созданной временным правительством. Этот рассказ в ряде отношений наводит на сомнения. Перед этой комиссией Лопухин, несомненно, говорил не всю правду, о многом умалчивал, – стремясь обелить свое собственное полицейское прошлое. Но он все же представляет большой интерес, и заслуживает быть приведенным здесь:
«… Однажды весной 1906 г. мой бывший сослуживец по департаменту полиции, – показывал Лопухин, – Макаров, на мой вопрос об участи Азефа сообщил мне, что он все еще состоит агентом у Рачковского и Герасимова и играет большую, чем когда либо, осведомительную роль. Вскоре министром вн. дел был назначен Столыпин, мой товарищ по гимназии, с которым я был дружен в юности и встретился за 2 года перед тем по-старому после многих лет, что мы не видались.
Немедленно по назначении его я подробно посвятил его в историю Азефа и в детали деятельности обнаруженной мною в январе 1906 г. по поручению гр. Витте типографии департамента полиции, устроенной для печатания погромных листков.
Столыпин к моим сообщениям отнесся, мне показалось, с искренним негодованием, – к провокаторской роли Азефа, а так же к погромной политике департамента полиции, – высказав полную решимость покончить как с тем, так и с другим.
Через несколько дней я уехал заграницу, где прочел отчет о заседании Госуд. Думы, в котором Столыпин давал объяснения по запросу о деятельности вышеупомянутой типографии. Объяснения эти так извращали факты, были так далеки от известных Столыпину с моих слов данных, что давали основание предположить о том, что Столыпин или сознательно лгал перед Думой, или был введен в заблуждение своими подчиненными.
У меня не было прямых данных подозревать его в первом, и потому я написал ему официальное письмо, в котором, предупреждая его об обмане, привел все сообщенные ему мною ранее на словах сведения о погромной деятельности Департамента Полиции в 1906 г. Объяснения, которые произошли между Столыпиным и мною по моему возвращению из-за границы, по поводу моего письма, уже не оставили места сомнениям в том, что Столыпин сознательно искажал истину в своих заявлениях перед Думою. Наши отношения после этого объяснения почти порвались. Вскоре мы разошлись окончательно.
В разговоре по поводу происшедшего в сентябре 1906 г. еврейского погрома в Седлеце Столыпин с величайшим раздражением сказал мне, что считает меня явным революционером и в качестве министра внутренних дел предупреждает, чтобы я сообразовал свое поведение с этим его мнением обо мне.
Я же ответил ему, что после той лжи, которую он расточал перед Госуд. Думой по поводу погромной типографии Департамента Полиции, я не верю ему ни в чем, считаю его способным даже пользоваться услугами Азефа и предупреждаю его, что если бы я узнал, что Азеф продолжает состоять агентом русской полиции, я приму меры к его разоблачению, дабы покончить с этим делом. Узнав в сентябре 1908 г. от Бурцева о том, что провокаторская роль Азефа не кончена, я и сообщил Бурцеву все мне об Азефе известное, а затем подтвердил это и членам партии социалистов-революционеров.
При производстве следствия по моему делу, мне был задан следователем вопрос: почему о деятельности Азефа я сообщил Бурцеву, а не кому-либо из знакомых мне должностных лиц, обладавших для обезврежения Азефа властью. Я ответил, что начал с того, что обратился к такому лицу. Но прежде, чем я успел назвать Столыпина, присутствовавший при допросе товарищ прокурора Корсак перебил меня вопросом, могу ли я доказать мое заявление, присутствовал ли кто-нибудь при моем разговоре с этим должностным лицом. И на мой отрицательный ответ товарищ прокурора предупредил меня, что если я назову должностное лицо, которому я говорил об Азефе и не подтвержу моего заявления свидетелями, то могу только отягчить мое положение в деле.
Свидетелей моего разговора со Столыпиным не было, и я на предварительном следствии его не назвал. Я хотел назвать его перед судом, но там председатель лишил меня слова. Я уверен, что едва ли не главной целью моего ареста и предания суду было лишить меня возможности назвать Столыпина, как покровителя Азефа. Для достижения этого стоило перенести тот скандал, который Столыпин устроил себе и правительству моим арестом и судебным против меня процессом…»
Как ни относиться к деятельности самого Лопухина на посту директора Департамента Полиции, и как ни расценивать действительные Мотивы его перехода в оппозицию, в одном историк должен во всяком случае отдать ему справедливость: он вполне прав, когда называет Столыпина прямым покровителем Азефа. После приведенных выше рассказов Герасимова, в этом уже не может быть никакого сомнения. Лопухин еще не знал всей правды!
Суд приговорил Лопухина к ссылке на каторжные работы, – вопреки всем фактам и законам логики признав его виновным в принадлежности к партии социалистов-революционеров только на том основании, что он говорил с членами этой партии об Азефе. Только во второй инстанции приговор был несколько смягчен; но ссылка в Сибирь на поселение осталась…
Столыпин мог торжествовать свою победу, – но радости она принесла мало: процесс против Лопухина сосредоточил на себе внимание не только всей русской, но и мировой прессы. Дело Азефа и «тайны русской полиции» вообще на целые годы стали одной из наиболее излюбленных тем мировой журналистики, – и трактовалась эта тема всегда далеко не в благожелательных для русского правительства тонах. Ум плохо мирился с мыслью о том, что Азеф мог вести свою сложную игру только за свой собственный риск и страх, – что этой игры не замечал никто из его полицейских руководителей.