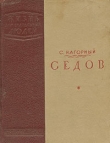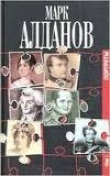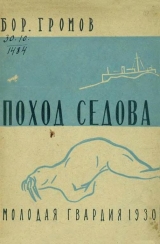
Текст книги "Поход «Седова» [Экспедиция «Седова» на Землю Франца-Иосифа в 1929 году] "
Автор книги: Борис Громов
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
В ЛЕДЯНОЙ ПУСТЫНЕ
Обратный путь к бухте Тихая неожиданно оказался чрезвычайно тяжелым. Весь Британский канал заполнили огромные айсберги. Вот уже три дня как ледокол с трудом пробирается вперед туда, где мы оставили наших дорогих друзей.
Три дня настойчиво борется «Седов» со льдами. Три дня его стальной таран дробит, крошит в куски огромные айсберги, гигантские ледяные глыбы. Но внезапная сдвижка толстых слоев льда не дает возможности пробраться к бухте Тихой. В Арктике погода меняется с капризной быстротой. Всего неделю назад, когда мы уходили от Земли Франца Иосифа, взяв направление на полюс, были хорошие, ясные дни. Ледокол легко скользил в ледяной пустыне, в толстом, но изобиловавшем широкими разводьями льду.
Сейчас же картина резко переменилась. Напрасно несравненный капитан Воронин, напрягая зрение, всматривается в покрытый серой дымкой тумана горизонт, тщетно пытаясь разглядеть столь желанные темные прорехи полыней. Их нет, кругом белый саван искрящегося миллионами солнечных брызг снега.
А земля уже как будто бы близко. Далеко за изломами торосов наметилась неясная, мигающая в разливе тумана черная полоса. Подойти к ней нет возможности. Освободившийся от груза ледокол уже не в состоянии с прежней легкостью продвигаться вперед. Толстые стены льда становятся ему непреодолимым препятствием.
К вечеру окончательно измотавшийся, не отдыхавший уже несколько суток капитан, потупив глаза, сумрачно заявил Шмидту:
– Отто Юльич, дальше итти нет сил. Бесполезно пускать в воздух последние остатки драгоценного угля. Лед не позволяет ледоколу подойти к колонии.
– Вы видите, – как бы оправдываясь, добавляет он, – мы делаем все возможное, а результата никакого.
Милый Владимир Иванович, ты мог бы этого и не добавлять. Мы видим, мы знаем, что команда работает сверх сил, что обжигаются в волнах огня черные от копоти кочегары, стараясь довести давление в топках до максимума. Мы прекрасно знаем, что вы уже забыли, что такое сон, и, наконец, мы видим расстроенное, посеревшее от досады лицо старшего механика, старика Шиповальникова, не вылезающего из машинного отделения и особенно близко принимающего это горе к сердцу.
Но что же делать?
Положим, колонисты уже высажены на берег, выгружены огромные трехгодичные запасы продовольствия, топлива, и дома уже закончены постройкой. Но радио еще не работает, а ведь, одной из основных целей нашего похода как раз и являлось сооружение радиостанции.
А 16 архангелогородских плотников, оставленных нами на берегу? Разве мы вправе бросить их на долгую зимовку, и, наконец, не является ли нашей прямой обязанностью принять все меры к доставлению их на борт «Седова»?
В кают-компании, где происходил этот разговор, делается жутко тихо.
Действительно, что делать?
Внезапно нервно разглаживавший бороду Шмидт выпрямляется, окидывает всех быстрым стальным взглядом своих серых глаз и четко бросает:
– Я начальник экспедиции, я не могу бросить доверенных мне людей на произвол судьбы, я не уйду от Земли Франца Иосифа до тех пар, пока сам не увижу, что радиостанция отстроена, что колонисты находятся в тепле. Я не дам сигнала к отходу до тех пор, пока не заберу с собой наших строителей. Поэтому сегодня вечером отправляюсь пешком к острову, и вместе со мной пойдут географ Иванов и Громов. Понятно? Надеюсь, товарищи не откажутся отправиться на этот рискованный путь?
Конечно, мы оба с радостью принимаем это почетное для нас предложение.

Убитого медведя на лебедке втаскивают на ледокол.

Трещина в ледяном поле, сделанная форсировавшимся ледоколом.
Но тут поднимается шум. Нас уговаривают отказаться or этой дерзкой затеи, заявляют, что, авось льды раздвинет, и мы сможем пробраться вперед, что дорога будет не из легких и т. д.
Но Отто Юльевич со всей решительностью возражает. К тому же абсолютно нет никаких оснований рассчитывать на перемену в ледяных условиях, ибо три дня упорного труда достаточно ясно показали, что полярная зима уже вступает в свои права. Единственно, чего мог добиться капитан, это того, чтобы мы взяли себе в спутники опытного матроса.
В 9 часов вечера вся экспедиция провожала нас на лед. Под напутственные пожелания мы спустились по узкому шторм-трапу вниз. С борта подали маленький, брезентовый каюк (лодочку) на случай встречи с большими разводьями, легкие самоедские сани-нарты для его перевозки, два заплечных мешка с продовольствием, складную палатку и винтовку.
– Я думаю, – кричит нам сверху проф. Визе, – при благоприятных условиях через четыре часа вы уже будете на берегу.
Тронулись в путь, взяв направление на отчетливо видимый издали резкий излом красавицы скалы Рубини Рок. Сменяясь по-двое, тянем нагруженные продовольствием м лодочкой нарты.
Ровная вначале дорога, с крепким, упругим настом, который не давал ногам проваливаться в снег, неожиданно сменилась высокими, обрывистыми нагромождениями торосов. Вот только тут мы на своей шкуре почувствовали, что значит передвигаться в ледяной пустыне. Мокрые от пота, который обильно стекает с лица на теплые шерстяные фуфайки, с трудом волочим тяжелые сани, поминутно цепляющиеся за острые углы ледяных громад.
А тут еще, к несчастью, случилась первая авария: лопнули подпорки у саней, и сломалась одна из деревянных полозьев-лыж.
По правде оказать, у меня тут же явилась мысль плюнуть на сани и каюк и двинуться к земле без них. Но Отто Юльевич заявил решительный протест, указывая на зияющие впереди темные раны огромных полыней.
Тогда матросу пришлось показать свое мастерство. Быстро и ловко, специальными морскими узлами он кое-как закрепил поломанные части, и мы тронулись дальше.
Оглядываемся назад. Среди необозримого белоснежного покрывала чернеют уже начинающиеся скрываться в легкой дымке темные контуры ледокола и чья-то маленькая, едва видимая фигурка, следящая за нами в бинокль с высоты капитанского мостика.
У первого разводья, в несколько раз шире Москвы-реки, решаем разделиться на две партии, ибо утлый, неустойчивый каюк едва вмещает двоих, осаживаясь в воду до бортов. Уславливаемся, что Отто Юльевич и матрос попробуют перебраться на лодке, а Иванов и я – рискнем найти обход и встретимся с ними на другой стороне полыньи.
Прыгая по разрозненным льдинам, зачастую опускающимся под тяжестью ног, поминутно шлепаясь в студеную воду, пробираемся мы в ледяном хаосе, в беспорядочном нагромождении гигантских льдин и темно-синих глянцевых айсбергов.
Вначале казались страшными эти рискованные пируэты в воздухе, когда нам приходилось перемахивать с одной льдины на другую, а, главное, заранее знаешь, что эта новая льдинка настолько мала, что обязательно уйдет в воду и ты вместе с ней. Но потом делали это быстро и решительно, не давая ей возможности сильно уходить вниз, и под конец «обнаглели» до того, что ухитрились переплывать широкие полыньи на крошечных ледяных осколках. Залезаем на такой островок, оттолкнемся палками от большой льдины и плывем к другой, более надежной. Этот способ навигации весьма удобный, хотя и рискованный, ибо в любой момент льдина грозит перевернуться – и тогда холодная полярная ванна.
На другом берегу разводья встретились со второй группой. Оказывается, они с трудом переправились через полынью, ибо поднявшийся сильный ветер все время гнал легкий каюк в обратном направлении.
Снова шагаем в торосах. Снова тащим тяжелые, намокшие сани и шлюпку.
Вот уже десятый час, как мы честно вышагиваем, а к берегу, кажется, и не приближаемся, чувствуя, что все наши усилия быстро дрейфующий (движущийся) лед сводит к нулю, неуклонно отбрасывая на восток.
Вы представляете себе наш ужас, когда мы поняли, что все наши старания ни к чему. Усталые, измученные, мы идем вперед, а лед тащит нас в сторону, мимо узенькой полоски земли, которую так хотим, к которой так стремимся.
Вот когда мне вспомнились рассказы полярного исследователя Альбанова, пешком добиравшегося с затертого льдами корабля к земле Франца Иосифа. Альбанов писал: «Сегодня у нас счастливый день. За сутки нам удалось пройти пять километров».
Теперь мне это совсем не кажется странным. Пять километров по ледяным отвесным торосам, в обход больших полыней, с бесчисленными поворотами в поисках подходящего пути, с частыми возвращениями назад – вытягиваются в длинную многозначную цифру, пропитанную тяжелым потом, адским трудом и усилиями.
Нестерпимо хочется пить. Горло делается сухим, ненасытным. Сколько ни грызешь блестящие кристаллы льда, жажда не унимается.
Утро – собственно, этот термин в Арктике не совсем правилен, ибо всю ночь светило яркое солнце, – застало нас все еще на полпути. Итти вперед – нет сил. Необходимо хоть полчаса, но отдохнуть.
Останавливаемся, быстро раскидываем тонкую парусину удобной вместительной палатки Шмидта и с наслаждением уплетаем застывшие консервы.
Но неугомонный Шмидт уже торопит:
– Скорее в дорогу, до земли еще далеко.
Я поражаюсь его исключительной энергии и выносливости. С легкостью и мастерством хорошего альпиниста карабкается он по крутым обрывам торосов, прекрасно ориентируется и всегда правильно указывает на более хороший и удобный путь. А самое ценное – не унывает. В моменты, когда мы падаем от усталости, он находит в себе еще остатки юмора, чтобы ловко и незаметно подбодрить, дать настроение. Только здесь, в исключительно тяжелых условиях суровой Арктики, мы достойно сумели оценить это прекрасное качество.
Твердый наст, по паркету которого было так легко скользить, уже давно кончился. Ноги утопают в рыхлой крупе снега. Арктика заставляет нас быть акробатами. Приходится делать самые смелые прыжки, карабкаться но торосам и все время тянуть, тянуть тяжелые, окончательно доломавшиеся сани. Ноги отказываются повиноваться. Намокшая фуфайка прилипла к телу. Глаза слипаются, на плече красный рубец, намятый веревкой от саней. Мучительно долго тянется время, а берег, кажется, совсем не становится ближе.
Подходим к сплошному разводью. По очереди переправляемся на какую-нибудь льдину, оттуда – на другую и т. д. Но самое ужасное это то что, пока перевезут одного, пока лодка возвращается обратно, вся остальная группа оказывается уже далеко в стороне. А когда подбирают последнего из нас, то за ним приходится ехать уже добрую пару километров.
Медлить нельзя. Из последних сил пробираемся к земле, ибо чувствуем, что ветер приложил все старания вынести лед, а вместе с ним и нас в открытый океан.
Перспектива оказаться в положении группы Нобиле с двухдневным запасом продуктов и одной обоймой патрон, никого не устраивает.
Первым, как это ни странно, сдает матрос Иванов. Его руки окончательно отказались повиноваться. Пришлось нам взяться за единственное, уже поломанное весло и «галанить», т. е. работать им вперекидку, из стороны в сторону. Правда, это у нас выходит не так ловко, как у матроса, но все же достаточно хорошо, чтобы медленно, но продвигаться к берегу.
И вот, когда мы уже были на расстоянии одного километра от земли, от серых, мрачных скал, на которые смотрели с какой-то жестокой жадностью, на наши усталые головы свалились сразу два несчастья: во-первых, легкая брезентовая шлюпка получила пробоину и, во-вторых, поднялись большие волны.
Судорожно гребем к острову Мертвый Тюлень. Волны перехлестывают через борт. Маленькой кружкой откачиваем воду, замечая, что ее, отнюдь не становится меньше. Неустойчивый каюк бросает, как щепку, относит течением в сторону, поминутно угрожая опрокинуть. Лавируя меж движущимися гигантами-айсбергами, с огромным трудом добираемся до каменистой отмели островка.
Я решаю ожидать товарищей, а географ Иванов отправляется за остальными. Вылезаю на пригорок, с отчаянием топчусь застывшими ногами и слежу за изломами торосов, которые скрыли моих спутников.
Сижу час, другой, третий – их все нет. В голову лезут самые невероятные, самые злые предположения. Неужели они не успели пробраться к земле, и их вынесло в открытый океан? Что же тогда будет? Ведь, искать хотя бы на ледоколе, в необозримой ледяной пустыне, в нагромождении гигантских торосов – дело безнадежное. И самое ужасное то, что они сидят без винтовки, которая находится со мной, а я – без куска хлеба. Что делать? Пытаться итти к колонии или еще подождать?
Решаюсь на последнее. Полдня я просидел в строгой изоляции, совершенно застыв на диком ветру. Полдня, как сумасшедший носился по острову в надежде заметить их хоть с какой-нибудь стороны. И лишь к ночи мне удалось их обнаружить на соседнем острове Скотт Кельти. Три выстрела в воздух заставили их обратить внимание в мою сторону. Мне ответили сигнализацией, и вскоре, перевезенный на шлюпке, я радостно приветствовал моих пропавших друзей.
– Ну, – говорит Отто Юльевич, – как нам удалось добраться до берега, – это чудо. Льдами нас унесло далеко в сторону, и с большим трудом, перескакивая через полыньи, нам удалось зацепиться за последний мыс островка. Еще десять минут, и мы попали бы в открытый океан.
Двадцать восемь часов беспрерывной ходьбы нас окончательно доломали. Решаем дальше не итти, ибо это было бы все равно бесполезно. В колонию пройти нельзя, так как бухта, отделяющая нас от другого берега, покрылась тонким слоем нового льда, по которому нам не пройти, а брезентовой лодочке его не проломить.
Уже в сумерках, в густом тумане и начавшемся снежном буране, раскинули палатку, с радостью залезли внутрь, чтоб прогреть застывшее тело глотком чистого спирта и моментально заснуть непробудным сном окончательно обессилевшего человека.
Вдруг, сквозь сон и завывания ветра, отчетливо послышался где-то совсем рядом протяжный, стонущий хрип знакомого гудка. Обалделые вскочили на ноги и, не веря ушам, бросились к мысу.
Ничего не видно: густой туман и вьюга уничтожили горизонт.
Снова сигналы, – ясно, нас ищут. Неужели не увидит, пройдут мимо? Случайно глаз ловит корабельные мачты. Гулкие выстрелы, с силой брошенные скалами в море, заставили «Седова» остановиться и выслать шлюпку.
Как приятно сидеть за стаканом горячего чая, чувствовать себя в безопасности, в тепле, пожимать руки друзей, слушать о том, как они тревожились, потеряв нас из виду, а пробравшись к колонии и узнав, что мы еще не приходили, так и решили, что нас унесло в открытый океан. Вся команда ходила подавленная. Капитан был чернее тучи.
– Поздравляю, – сурово бросил он нам, – вы были на пороге смерти.
СЛУШАЙТЕ ВСЕ, ВЕСЬ МИР…
30 августа войдет в историю завоевания Арктики как выдающийся день, день победы человека, вооруженного снарядами науки над суровой природой крайнего севера. В три часа дня торжественно открылась самая северная в мире колония, новая советская радиостанция и метеорологический форпост.
На далекой окраине необ’ятного Союза взвился алый флаг Республики Советов.
Ночь накануне открытия станции мы провели в новеньком чистеньком, прекрасно отделанном домике. Полы блестят чистотой. На окнах уже повешены свежие занавеси. Зимовщики распаковывают свои личные вещи, раскладывая предметы обихода по своим местам. На новеньких стенах комнатушек уже появились первые фотографии.
– Пожалуйте, товарищи, – гостеприимно предлагает радист Кренкель, – сейчас будем пробовать радио.
Механик Муров резким движением закрутил колесо двигателя. Зашитая в железный каркас комната машинного отделения наполнилась размеренным четким дыханием сердца радиостанции. Отсюда по артериям проводов брызнула кровь электричества в соседнюю комнату – мозг станции.
Преломляясь, перерабатываясь в сложных приборах, усилителях, искра долетела до телеграфного ключа и, вырвавшись на морозный воздух, проскользнув по длинной стреле антенны, с бешеной скоростью полетела куда-то в туманную даль, понукаемая твердой рукой радиста.
– Слушайте все, весь мир!.. Говорит новая советская радиостанция на Земле Франца Иосифа. Завтра открывается самая северная полярная колония.
Несмотря на поздний час никто не спит. Столпившись, затаив дыхание, мы напряженно присматриваемся к хмурому лицу Кренкеля, стараясь, хотя и напрасно, разгадать неясные звуки, доносящиеся из плотно прижатых наушников.
– Поймал, – возбужденно кричит он, – любитель Евсеев из Нижнего Новгорода дает свои позывные.
– Ура! Радиостанция заработала!
Немедленно в журнал вносится первая запись приема сигнала. Весело грянул бравурный марш – местный персимфанс – граммофон, а в ответ яростно рявкнул хор остроносых умных самоедских лаек.
На утро приехали гости с ледокола – Шмидт, Визе, Самойлович, капитан Воронин, принарядившиеся ради торжественного случая матросы, коренастые архангельские строители, чьи руки создали возможность существования и необходимый уют семерым гражданам республики.
Последнее торжественное собрание, много теплых, искренних слов, приветствий, пожеланий друзьям, остающимся на долгое одиночество вдали от семьи, и последнее прости.
Крепко жмем руки, желаем самого главного – здоровья. О работе никто не говорит, не нужно, стоит лишь посмотреть на лица, горящие твердой решимостью выполнить свой долг перед страной, чтобы быть уверенным и убежденным, что республика не просчиталась, послав их на самую тяжелую, ответственную работу.
Празднично убранный «Седов» гудками напоминает о необходимости выходить в море.
Тихо, словно нехотя, проходим вдоль берега, мимо новых строений, развевающегося красного флага, мимо маленького кусочка земли, который вдруг стал таким дорогим и близким. С берега несется «ура», мы отвечаем залпами винтовок и протяжными, щемящими сердце гудками.
– Вот он, – задумчиво произносит Шмидт, – новый камень в фундамент строющегося социализма.
Медленно, в сизой дымке тумана, уплывают семь крохотных, машущих белыми платками фигурок, темные стены домов, наконец, отлогий, издали гладкий мыс бухты Тихая.
Мы снова в Британском канале – широком, плохо наезженном тракте на юг, по дороге к теплу, далеким берегам Республики Советов.

Бухта Тихая. На первом плане строящаяся радиостанция.

Торосистая льдина у мыса «Седова», в бухте Тихой (остров Гукера).
ОБРАТНЫЙ ПУТЬ
С огромным трудом и напряжением всей команды пробиваемся на юг. Облегчившийся от груза «Седов» уже не может с прежней легкостью проламывать себе путь. К тому же сейчас во всем районе нахождения экспедиции произошла сдвижка огромных старых ледяных полон, толщиной более 3 метров.
Двигаемся чрезвычайно медленно, поминутно застреваем, простаиваем часами, чтобы силой машин вырваться от прижавших нас айсбергов. В тумане скрылась Земля Франца Иосифа, а за двое суток прошли едва 47 миль – расстояние ничтожное, по сравнению с обычной скоростью ледокола во льдах.
Сегодня мы получили радиограмму с научного судна «Персея», который сообщает, что кромка льда находится от нас в 40 милях.
Видимо, это расстояние нам придется брать с боя. Случается, что за целую вахту (дежурство команды) ледокол не продвинется ни на шаг, а впереди не видно просвета, до самого горизонта белый саван ледяной пустыни, решившийся не выпускать нас из своих цепких об’ятий. То-и-дело окончательно ставший ледокол отходит назад, чтобы с наскоку протаранить себе путь.
Сегодня стали окончательно. Капитан, экономя драгоценный уголь и чувствуя бесполезность попыток прорваться вперед, распорядился грузить трюмы льдом. Вся команда работает на совесть, пешнями (что-то вроде лома) откалывает огромные ледяные куски, лебедкой подавая их наверх.
В таких тяжелых условиях ледокол не был ни разу за всю экспедицию.
Тронулись вперед. Но несмотря на то, что трюм нагружен льдом, скорость от этого едва увеличилась. Далеко, на светлом небосклоне появилась широкая темно-синяя лента – признак близости свободной воды. Как ни труден путь, но этот факт бодрит участников экспедиции, предполагающих увидеть кромку льда через 15 миль.
Опять появились медведи, опять началась азартная охота на белого зверя, не понимающего опасности и подходящего к самому борту ледокола. Последний раз вдогонку за раненым медведем побежали Шмидт и я. Мы далеко ушли от судна, которое совсем скрылось за отвесными торосами, и оказались в полосе молодого льда. В результате Шмидт попал в полынью, окунулся в студеную воду и едва выплыл на обламывающиеся края льдин. Медведя мы так и не догнали. Повидимому, он сумел спрятаться за большими торосами.
4 сентября, в ясное солнечное утро, мы достигли долгожданной кромки льда. Вначале ворчливый океан встретил нас мертвой зыбью. Но уже к полудню волны утихли, и наступил штиль.
Идем широкими площадями разводьев, в темно-синей воде, в которой купаются огромные причудливые айсберги. Несколько раз попадаем в полосы сала – нового льда, имеющего формы неправильных расплывчатых кругов. Моряки называют это очень метко «блинчатым льдом».
К вечеру нагрянул туман и сырая промозглая погода. Густая серая мгла закрыла горизонт. Поэтому неудивительно, что лишь на расстоянии двухсот метров от борта ледокола неожиданно увидели силуэт неизвестного судна. Вслед за ним из тумана выплыли еще два парохода и парусная яхточка.
Оказалось, что это норвежские зверобои, промышляющие в наших водах. С внешней стороны – пароходишки весьма плачевного вида, маленькие, деревянные, сильно обтрепанные и облезлые. Наш красавец «Седов» перед ними казался гигантом. Недаром норвежские зверопромышленники называют наши ледоколы ледяными крейсерами.
Палубы их судов завалены медвежьими, моржовыми и тюленьими шкурами, а также необработанными тушами. Теперь нам ясно, почему в этом районе наш ледокол так мало встречал зверья. Видимо, энергичные норвежцы сумели порядком перебить животных в наших водах. Не следовало ли бы в целях сохранения медведей и уже почти истребленных моржей установить более жесткие правила охоты в полярном секторе СССР?
Самое любопытное то, что эта замечательная встреча во льдах произошла при абсолютном молчании обеих сторон. Мы как хозяева вод вправе были ждать приветствия, но зато, повидимому, «галантные» иностранцы забыли морские правила вежливости. Поэтому «Седов» гордо, без единого сигнала прошел мимо судов и скрылся в тумане.