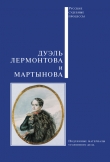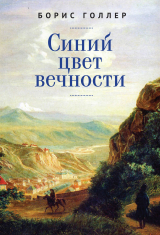
Текст книги "Синий цвет вечности"
Автор книги: Борис Голлер
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Михаил понял вдруг, что Ермолова просто продолжает волновать все происходящее на Кавказе без него. Даже личная жизнь людей. Что он причастен к этой жизни, чувствует причастность. И тут уж ничего нельзя объяснить. Он просто не уехал с Кавказа – его отставили, а он и не уезжал. Остался. Хоть и сидит теперь в Москве.
– Вы участвовали в деле при Валерике?
– Да, разумеется.
– В самом сражении?
– Я был связным между генералом Галафеевым и наступающими частями Куринского и Ширванского полков, которые осаждали завалы у реки.
Ермолов улыбался почти сладостно – и непонятно чему. Вновь звучали названия боевых полков на Кавказе и это было для него как музыка. Он жадно прислушивался к ритмам этой музыки.
Гость мог бы прибавить, что представлен не к одной, а к двум наградам. И что одна – за этот самый Валерик. Но, разумеется, промолчал.
– Как Галафеев вел бой?
Лермонтов сказал, что генерал вел бой блестяще.
– О-о, даже так? не преувеличиваете? А до меня дошли слухи, что он в бою застенчив.
Михаил усмехнулся высказыванию, но возразил, что это не так!
– Потери могли быть меньше, – сказал Ермолов.
– Против нас было втрое-вчетверо больше! – возразил Михаил.
Ермолов был настойчив. Он попросил нарисовать ему план сражения, и где были у горцев завалы, и откуда шла русская пехота, и где стояли пушки. Он открыл ящик стола, достал бумагу и карандаш и положил их перед гостем.
Что-что, а рисовать Михаил умел, и он изобразил на бумаге – все довольно подробно. Генерала это восхитило. И гость перестал быть для него только поэтом, написавшим стихи на смерть Пушкина. Боевой офицер! Поручик. Был в битве при Валерике. Он сразу снова перешел на «ты»:
– О-о, как ты рисуешь! Я держал бы тебя при себе, в штабе!
А как зовут Галафеева?
Лермонтов сказал, что генерала зовут Аполлон!
– Я не был знаком с ним, – сказал Ермолов с очевидной досадой. И вдруг рассмеялся коротко. – И правда? Аполлон? Что думали себе родители? Дают ребенку имя Аполлон! А вдруг он вырастет и окажется не похож на Аполлона? Что станется? – и снова – этот короткий смешок.
– Простите, что разговорился! Я волнуюсь за Павла Христофоровича. Он в меня. Слишком самостоятелен. Вон Раевский-младший допрыгался уже. А какой был генерал! И Вольховскому несладко. – Он опять перешел к Граббе.
– Еще эта женитьба. Нашему брату, старшим, не показано!
Наверное, он все знал, и то, что Лермонтов не сказал, тоже знал. Ему кто-то докладывает, что происходит там, в горах.
Ермолов помолчал и сказал с тоской:
– У нас не умеют ценить людей. Что, не так разве?.. Граббе – один из немногих, кого назначили по смыслу. И лишь потому, что хотели сохранить ермоловскую породу на театре войны! А то наш… (он без стеснения ткнул пальцем в потолок), назначая на место кого-нибудь – особенно военных – всегда выбирает самого бездарного!.. И ни разу не ошибся, что интересно! Ни разу!
Лермонтов не сразу понял, о ком речь…
– Но ты ж не продашь меня, я думаю! Я читал твои стихи!
И, помедлив, вернулся к прежнему: – Все-таки зря государь пощадил Дантеса. Отправил бы ко мне на Кавказ! Там есть такие места… Пошлешь человека и можешь считать по часам, через сколько минут его не будет в живых. И все законным порядком! (Он вздохнул откровенно.)
– Правда, меня уже не было на Кавказе. Но я приказал бы из Москвы кому-нибудь…
Он все еще готов был приказывать и был уверен, что подействует.
И вдруг сказал: Я бы тебе помог, конечно! В иные времена. Попытался б помочь. Но я теперь не у дел! Я только в истории!. – И короткий смешок, был знак, что разговор окончен. – Будешь в Москве – навести старика! Тебе тут будут рады!
Лермонтов поклонился и простился со старым Ермоловым.
IV
Он, недоблюбливал хозяев жизни. Всех, пред кем надо стоять навытяжку, на цыпочках даже, а они едва взглянут на тебя с вопросом: может, в нем что-то есть? («Это мой внучек, Мишель Лермонтов, пишет стихи и недурно говорят, – вдруг вам попадались в журнале г-на Краевского!») Он и сам знал про себя, что в нем есть, ему не нужны подтверждения. Он отказал бабушке в свое время в упорном желании ее представить внука Сперанскому. А потом Сперанский умер. И когда Дубельт, как дальняя родня, наезжал к бабушке по-родственному, находил способ отвертеться.
Хотя… По бабке сам он был из Столыпиных-Мордвиновых, куда уж там! А по отцу – только Лермонтов: род, укоренившийся на Руси всего два века назад. Безвестный шотландский ландскнехт перешел когда-то от поляков в армию царя Михаила Федоровича. (Людей, обремененных расовыми или этническими предрассудками, великие наши поэты могут раздражать, да и раздражают, наверное! Не распорядились толком своим происхождением: кого брать с собой из прошлого, кого оставить в забвении. Тот эфиопа или камерунца приволок, этот – безвестного шотландца.) Михаил прекрасно видел – его не обманешь – как родственники-Столыпины (старшие) презирали его родного отца и громко сочувствовали бабушке с таким зятем. Потому и выдумывал в отрочестве себе каких-то экзотических предков вроде испанского графа или герцога Лермы.
А с другой стороны… он и столыпинство ощущал в себе – всеми фибрами души… Почему нет? Противное двойничество – оно мешало ему жить. Он хотел быть только Лермонтовым – и не всегда получалось.
Все равно, на следующий день после приезда, он отправился на бал к графу Ивану Воронцову-Дашкову, хоть что-то внутренне подсказывало – этого делать не стоит, во всяком случае, в первый день. Кто-то наверху должен привыкнуть, что опальный офицер в отпуске все же, и может появиться где-то, а уж потом… Но пошел. В молодости все настроены к преградам относиться наплевательски.
Он вошел в зал и удивился: с ним здоровались, будто, сквозь сон – едва узнавали или плохо представляли себе – откуда он взялся? (Схоронили давно, а он вдруг возник.) И было неприятное ощущение: в зале нет, кроме него, армейских офицеров – или почти нет. В своем мундире Тенгинского пехотного он шел среди чужих. Стоило так швыряться жизнью на берегу речки Валерик с отвесными берегами! Он казался неизвестен почти всем, кто здесь собрался.
Нет, это только в первый момент, несколько минут… Вскоре, разумеется, объявились знакомые. И в немалом числе. Конечно, узнали, конечно, рады – как без этого? Появились даже люди, мало-мальски близкие. Но все равно осталось дурное впечатление от первых встреч и слов.
К нему подошел Соллогуб и сказал испуганно и от испуга – даже громко.
– Лермонтов, что ты делаешь здесь? Ты рискуешь, ей-богу!
– Чем рискую?
– Скоро прибудет государь!.. Я боюсь за тебя!
– А зря! Я не подвергнут уголовному наказанию!.. Просто переведен в другой полк! Армейский офицер. И теперь в отпуску.
– Смотри, как глядит на тебя великий князь!..
Лермонтов поднял голову. На той стороне зала, в окружении светской публики и с двумя адъютантами стоял великий князь Михаил, фельдцехмейстер и начальник гвардии. Его отношение к Лермонтову несколько раз меняло знак. Из доброго на насмешливое, а после – раздраженное и злое. В данном случае, он взирал на него, мягко сказать, без особой приязни.
К счастью, рядом с ним была его жена – великая княгиня Элен. Она улыбнулась Лермонтову. И даже сделала какой-то приветный знак рукой…
Эту женщину не любили при дворе. Да и в свете она не была любимицей. Но она была другом Жуковского и Софи Карамзиной и очень начитанной дамой. И поэты посвящали ей стихи и дорожили ее вниманием. К счастью, муж обожал ее.
– Тебя могут арестовать!
– За что? помилуй Бог!
Проходивший мимо в тот момент, хозяин дома, Иван Илларионыч Воронцов услышал и бросил успокоительно:
– У меня не арестуют!.. – Его колбасные длинные баки качнулись убежденно.
– А что ты? – спросил Лермонтов Соллогуба, переводя разговор.
– Да вот! Женился, ты слышал… Не одобряешь, конечно?
– Почему? раньше или позже эту глупость делают все. Боюсь, я тоже не буду исключением. Ты позабыл, это еще при мне было.
– Но только помолвка!
– А что изменилось? Софи Виельгорская?..
– Теперь Соллогуб. А кто мог быть еще?
– Поздравляю. Прелестное существо!
– Но учти, я ревнив!..
– Не беспокойся! Мы в этом сродни!. Если сумеешь удержать…
Я хотел с тобой поговорить. Но это как-нибудь потом… – добавил Лермонтов.
– О чем?..
– М-м… разумеется, не о моей женитьбе. Да и не о твоей.
– Так о чем же тогда? – улыбнулся Соллогуб.
– Ну, хотя бы о журнале, который мы собирались с тобой выпускать.
– Но ты, я слышал, только в отпуске?
– Отпуск может продлиться.
– Тогда конечно. Готов. Ты пишешь что-нибудь?
– Сам не знаю. Пишу? не пишу? Воюю – это правда!
– Успешно? А стихи?..
– И стихи. Немного…
– Разве – это не писанье?
– «Писать стишки – еще не значит проходить великое поприще!..» Слышал, должно быть?
– Да. Кто-то сказал после смерти Александра Сергеича!.. По поводу статьи в «Русском инвалиде».
– В «Прибавлениях». Один князь повторил слова одного графа.[2]2
Слова министра Просвещения графа С.С. Уварова, пересказанные князем М.А. Дондуковым-Корсаковым, председателем Цензурного комитета.
[Закрыть] То-то. Если про Пушкина говорили такое – чего ждать нам с тобой?..
Расстались на сем. – Наверное, Соллогуб пошел ухаживать за женой. Можно посочувствовать! Впрочем, его жена прелестна. Недостижима – вот, беда! Хотя беда не моя!
Где-то в половине девятого прибыли государь с государыней. Присутствующие образовали полукольцо и все обратились лицами ко входу. Николай I вошел своей известной походкой – слишком твердой, чтоб казаться природной и истинной.
Он обвел взглядом гостей – мир, которым правил, – он подчеркнул это взглядом, непонятно как, – но было очень явственно именно это, и все ощутили эту власть. Лермонтову показалось даже, государь окинул беглым взглядом и его неказистую армейскую фигуру.
Начались танцы, и он остался в стороне. Он не любил танцев – то есть любил, но не всегда, – шел танцевать лишь тогда, когда надо было кому-то уделить вниманье.
Прошел мимо Воронцов и сказал, также, на ходу: – Кажется, вас совсем расстроили! Не бойтесь! Здесь вам рады.
Хотя бы это!.. Потом из толпы танцующих вынырнул Трубецкой Александр:
– Лермонтов! А я тебя не сразу узнал!..
– Ничего. Я сам себя не всегда узнаю.
– И как ты себя чувствуешь здесь?
– Ужасно! Привык видеть воюющую армию. Но видеть танцующую…
– Ты слишком строг к нам. Впрочем… Так думают почти все, кто приезжает с Кавказа… Мой братец думает так же. Он теперь – там, у вас.
– Ты хотел спросить – видел ли я его? Видел. Он ранен, но жив.
– Я знаю. Ты – странный сегодня!..
– Почему только сегодня?..
Пушкин ругал свет на чем свет стоит, но любил его и был человек светский. Лермонтов ненавидел свет, но не мог без него обойтись. И презирал себя за это. Вот такая разница!
Показалась та самая Александрин. Хозяйка дома. Вышла из танца, обмахиваясь веером. И ради него бросила круг поклонников.
– Лермонтов!
Он быстро подошел. Он сердился на нее за Алексиса. Но это не мешало ей быть обворожительной. Может, самой очаровательной здесь в зале. Такая может все позволить себе. Ей-ей!..
И, когда она умрет, все равно ее будут помнить такой. Он улыбнулся. Кажется, впервые за вечер.
Она сказала: – Ой, нет! Вы мне не нравитесь сегодня!
– Я спросил бы о причине! Но я, к сожалению, давно знаю ответ! – сказал он.
– Нет-нет, не потому! Вы худо скрываете, что вам здесь нехорошо!
– Что мне остается? Похвалить вашу проницательность?
– В какой-то мере, да! – и взяла его под руку. – вы считаете меня легкомыслен ной, я знаю. Но все ж… Я не так легкомысленна, как мой муж. Можно я вас провожу через внутренние комнаты? – и стала выводить его из зала.
– Зачем? – удивился он, подчиняясь.
– На вас плохо смотрят некоторые! Я боюсь за вас!..
– Кто смотрит? – спросил он растерянно.
– Те, кто властен над нами грешными. Мне что-то не понравилось, не могу сказать – что. Но я боюсь.
Они прошли длинной анфиладой личных графских покоев. Он не удержался, разумеется…
– Ого! – бросил насмешливо и, словно, удивленно. – А что скажет мой друг Алексис? Если узнает, что я побывал почти – в святая святых? Возле самой спальни королевы?
– То же, что говорит всегда: что я плохо себя веду. Для семейной женщины, имеющей к тому же в друзьях одного из самых заметных в свете поклонников. – реверанс в адрес Столыпина.
Нет, правда, она была непостижима. Оттого и недостижима ни для кого!
Через внутренние покои они спустились по другой лестнице.
– Сейчас я кликну слугу вызвать вам карету!
– Зачем? Я могу пройтись пешком!
– Нет-нет! – сказала какая-то дама, отделяясь от стены. Она тоже вышла, кажется, чрез внутренние покои: была здесь своей. – Оставьте его мне. Я отвезу его.
– Как кстати! тогда я вас покидаю, – сказала графиня. – Но оставляю в прелестных руках (Лермонтову). И расцеловалась с женщиной.
– Вы меня не узнаете? – спросила дама.
Юность – даже самое начало ее… Женская прелесть и зависть к тем счастливцам, кто уже может ухаживать откровенно за этим чудом. Кто-то может объясняться в любви. А он еще мал, еще незаметен. – Она была старше его ненамного.
– Не узнаю. Нет. Да! Додо Сушкова!..
– Евдокия Ростопчина.
– Конечно, позабыл! Вы замужем и счастливы!
– Я замужем и несчастна. Мы с графом разъехались. Во всяком случае, живем в разных городах.
– Я никому не скажу, не бойтесь!
– Не стоит бояться. Это все знают.
– Так, значит, у меня есть какие-то надежды? – спросил он.
– А вы нуждаетесь в них?
– Нет. Если честно! Пока нет.
– Вот видите! Лучше проводите домой. Я устала от некоторых лиц в этой зале.
– У нас обнаруживается сродство душ.
– Всегда обнаруживалось. Хотя… Не выдумывайте! У Печорина ни с кем не может быть родства души.
– Кроме такой, как вы. И потом – я не Печорин.
Они сели в ее карету, поставленную на сани и покатили по сонным улицам, где сугробы достигали первых этажей.
– У вас нынче – снежная зима!
– А у вас? – спросила Ростопчина.
– Я – нездешний. У меня там почти нет снега. Только горы. Но это смотрится благословенно. Я читал ваши стихи. Вы не обидитесь, если скажу, что вы – поэт? Некоторые мне понравились. Очень.
– Почему я должна обидеться?
– Похвалы всегда кажутся неискренними. Мне во всяком случае! И… это смутное занятие – поэзия. И в наше время вообще разучились писать стихи. Даже французы.
– Вы лжете, как в юности! Вам слегка понравилась я, и вам сразу стали нравиться мои стихи!..
– Почему это лгу? Правда, нравятся.
– Но Лермонтову не могут нравиться стихи какой-то Ростопчиной! Я понимаю в различиях!
Они помолчали. Может, прошел век… Да они и подъезжали уже к ее дому на Почтамтской.
– Почему мы не встретились раньше? Когда я был еще здесь?
– А что бы это изменило? Я бы стала лучше писать? Оставьте! Во-первых, я жила с мужем в Москве и очень долго пыталась выстроить эту свою жизнь.
– Да. Говорят, он у вас оригинал.
– Мне вообще везет на оригиналов!..
– Говорят, вся ваша квартира полна книг!..
– Да. Он их собирает. Но не читает! Хорошо, что мы не виделись с вами. Я на вас сердилась!
– За мою шутку с вашей кузиной Катишь?
– Да. Зачем вам понадобилось разрушать ей жизнь? Да подайте же мне руку, как следует – невоспитанный вы человек!..
– Подал! – Он, правда – задумался и не сразу протянул руку. Она как раз выходила из кареты и ступила на снег. На том они расстались.
V
Ее карета довезла его до дому. Он хотел броситься следом за ней – назначить встречу или хоть наутро нагрянуть с визитом, – если ему что-то понравилось, он старался не выпустить из рук, так был устроен. Он не любил светских женщин, ибо не верил в их любовь. Но внимание их ему нравилось, более того, он в нем нуждался. Оно приносило с собой признание общества в целом, а без этого он почему-то обойтись не мог.
Но поутру явился посыльный с вызовом в Главный штаб, к дежурному генералу. Начинается! Кто-то выламывал его из жизни. Или заботился выломать. Он посерел сразу, расстроился: ему быстро напомнили о его положении в мире. И, чертыхнувшись несколько раз подряд (иль ругнувшись грубей!), облачился в мундир чин по чину и отправился.
Генерал Клейнмихель Петр Андреич заставил его с полчаса прождать в приемной без толку. (Здесь он мог только предаваться созерцанию парадных портретов персон, которые, в отличие от него, власти нравились.) А после его приняли с явным желанием прочесть нотацию – или сделать выволочку. Правда, он к тому приготовился заранее.
Клейнмихель был генеральского росту и возрасту, но голова маленькая и очень широкая шея, а щеки, под короткими баками, уже сильно отвисали книзу, чуть не ложась на воротник.
Генерал сперва поставил сакраментальный вопрос: почему молодые люди так склонны вредить себе и вести дело к разрушению собственной судьбы?
Что на это ответишь?
Они были знакомы. Клейнмихель его допрашивал когда-то от имени государя. «Дело о возмутительных стихах» на смерть Пушкина. И кто их распространял…
Лермонтов скромно возразил, что он ничего не собирался разрушать (даже в собственной жизни, как бы ничтожна она ни была!), но просто только что приехал с Кавказа, с боевых позиций, и плохо представлял себе, чем мог бы навлечь на себя начальственное неблаговоление.
Взгляд генерала было трудно поймать: устремленные куда-то в бумаги на столе, глаза будто искали мысль, которую власть имущий собирался высказать, и лишь иногда вскидывалась маленькая головка, чтоб обнаружить на лице или удивление словами гостя или укор ему. Чаще и то, и другое. Он продолжил речь о молодых людях вообще, и о том, что они вечно делают лишние шаги.
– А молодой человек не должен делать лишних шагов! – добавил он с акцентом на слово «должен». Лермонтов вновь продемонстрировал некоторое замешательство от непонимания.
– Как так? – сказал Клейнмихель уже несколько рассерженно. – Вам ведь дали отпуск для свидания с бабушкой, которая просила об этом государя! Не так? М-м… она опасалась, что годы и здоровье, к прискорбию нашему, могут не позволить ей увидеть внука? Но вы, вместо того, чтоб видаться с бабушкой расхаживаете по светским раутам!
Пришлось объяснить, что бабушка не знала точно, когда ему дадут отпуск – ей не сообщили. И уехала в деревню, спасаясь от одиночества и сплина. А теперь ей так сразу не выбраться из Чембарского уезда. То ли все в снегу, то ли ранняя распутица. В общем, бездорожье. И они с бабушкой еще не свиделись. Естественно, ему показалось одиноко в пустом доме. Он куда-то направился.
– А что касается бала у князя Воронцова-Дашкова, то… Ваше высокопревосходительство! Во-первых, я был приглашен княгиней и князем, а во-вторых… хотелось после разлуки увидеть знакомых и друзей, вот и все. И я никак не сообразил, что это может кого-то рассердить.
– Ну, Михаил Юрьич! – так правильно? – заговорил Клейнмихель уже почти интимным тоном (Лермонтов кивнул), – не нужно мне вам, светскому человеку, объяснять то, что и так понятно. Пребывание на бале, в доме, где можно ожидать и государя с семьей и великих князей – опального армейского офицера? к тому же, чуть не в день приезда? (офицера, который, только недавно за тяжелый проступок, был переведен из гвардии в армию и отправлен на Кавказ… в надежде на его, то есть, офицера, исправление?). – Это может поколебать какие-то устои порядка, принятые в нашем отечестве под управлением нашего благословенного монарха!
Лермонтову пришлось признать, что он и в данном случае плохо понял высочайшую волю.
– Согласен, сказал он. – Согласен! Только… Я ехал из экспедиции. – В Чечню, вы наверное, слышали? – отряд генерала Галафеева. Были большие бои, потери… На меня пришло или должно прийти два представления к наградам за эту экспедицию. И я не числил себя в этом случае опальным офицером. Но только боевым, армейским, получившим отпуск.
– Я понимаю, – сказал Клейнмихель. – Понимаю. Конечно, вы все еще молоды и рассчитываете на то, что представления к наградам – это уже награды. Мы в молодости все таковы, я тоже был таков. Но этот шаг бестактен, я бы сказал. Несколько неприличен. А представления к наградам… Это все хорошо, но может ничего не означать. Надежда, не боле. Как на эти представления посмотрят здесь… высшее начальство?.. Вы – храбрый офицер, не сомневаюсь… Но это вовсе не снимает с вас прежней вины. За прошлую провинность вас быстро, может, слишком быстро, вернули в столицу и в гвардию… но вам захотелось чем-то вновь отличиться. Я имею в виду дуэль с г-ном де Барантом.
– Я чту закон, – сказал Лермонтов, – и подчиняюсь его строгости в этом смысле. И все же… В этой дуэли не было моей прямой вины. Г-н Барант вызвал меня первый… и, если уж совсем по правде – он на дуэль нарвался. Оскорбив честь русского офицера. Не защищать эту честь я не мог Это – мой долг, опять же, офицера.
– Ой! Слово «нарвался» – уж совсем какой-то площадной жаргон, – развел руками. Клейнмихель. – Простите! Вы ж не просто – армейский поручик, но, говорят, еще писатель!
Он дал понять, сам не читал, конечно. Однако, «говорят»…
– Но вы ж, по-моему, осмелились предложить противнику новую дуэль?
– Это была шутка. В порядке беседы. Я не виноват, что г-н Барант, со страху, наверное, разнес ее… а его матушка, к глубокому удивлению моему, отправилась с этим к великому князю. Не думал, что Барант пожалуется матушке. Молодой человек, светский, ищет защиты у матушки? Согласитесь, не комильфо!
– Соглашусь! Хотя… Г-н де Барант – сын французского посланника, и ваша дуэль имела еще сложности дипломатические!
– Но Барант сам вызвал меня!
– Я знаю.
Воцарилась пауза. Клейнмихель вновь углубился в бумаги на столе. И Лермонтов ерзал в кресле, хоть старался не ерзать. Ну, нет терпения, ей-богу!
Но генерал выдавил наконец… – Я тут смотрю… великий князь даже высказывал мнение… «выписать в один из армейских полков тем же чином с воспрещением представлять к производству… увольнять в отпуск и в отставку…» Но государь счел достаточным ограничить наказание! – Примолк.
– В вашем деле была явлена вся мягкость окончательного решения государя. Но это не означает совсем, что с этим решением можно спорить!..
Лермонтов жил в то время, в которое у нормальных людей рождалась привычка пропускать слова, словно сквозь сито. Лишь бы понимать в общем смысл… И он слышал только… «воспрещение» «представлять к производству»… «отпуск»… «ограничить наказание»… Но слушал внимательно.
– И мой вам совет: прибыли в отпуск, не так ли? Прекрасно! Видайтесь с бабушкой, с близкими. Кто мешает? Но не напоминайте слишком о себе. Иначе кто-то подумает, что вы уже прощены, и, стало быть, наши законы не на всех распространяются! От вашего поведения во многом будет зависеть то, как отнесутся здесь к вашим э-э… представлениям к наградам, которые, по-моему, еще не пришли. Придут!
Они простились. Выйдя из здания Главного штаба, он смачно выругался. Стоило бросать свою жизнь на завалы при речке Валерик!
Возможность высказаться на солдатский лад сейчас спасала его.
…Горцы уже отступили, и они стояли с Володей Лихаревым спокойно у речки, беседуя о возвышенном. О Канте в тот момент. Тут упала смерть и унесла Лихарева. Случайный выстрел разменял одну судьбу на другую, вот всё. Разговор о Канте. Так обваливается культура под напором времен. Убит! Лихарев мог быть вместо него и тоже думал бы сейчас об этом. И кто высчитывает там наверху за нас эти шансы в игре?.. «Считайте кочки, господа, считайте кочки!» – Когда садишься за стол, никто из вас не представляет себе, как сыграет партнер – или как кто-то или что-то там сыграет с партнером.
«Деятельность есть наше определение. Человек не может быть никогда совершенно доволен обладаемым… Смерть застает нас на пути к чему-нибудь, что мы еще именно хотим…»[3]3
Запись декабриста Н.И. Лорера в альбоме дочери Капииста. Приводится по кн. В.А. Захарова «Летопись жизни и творчества Лермонтова.». С. 484.
[Закрыть] Ну и так далее. Кант.
Он сам не заметил, как от гибели Лихарева стал незаметно отсчитывать и время собственной жизни. Мысли чаще обращались к прошедшему, чем к будущему. Лихарев был несчастлив, как он сам – такие вещи сближают. Он был одним из «ста братьев» декабря 1825-го.
Сам Лермонтов к тем событиям относился двояко. Он, кажется, ровно винил тех, кто выиграл и тех, кто проиграл. «Богаты мы, едва из колыбели ошибками отцов и поздним их умом…» (Романтические стихи и поэмы не означают вовсе романтического мышления в политике.) Но среди участников катастрофического действа, у него было много знакомых на Кавказе и двое близких друзей: незабвенный Саша Одоевский и Володя Лихарев.
Придя домой, он написал Александру Бибикову, на Кавказ:
«Биби! Насилу собрался писать к тебе; и начну с того, что объясню тайну моего отпуска: бабушка просила о прощении моем. А мне дали отпуск; но я скоро еду опять к вам и здесь остаться у меня нет никакой надежды, ибо я сделал вот какие беды: приехав сюда, в Петербург, на половине масленицы, я на другой же день отправился к графине Воронцовой, и это нашли неприличным и дерзким. Что делать? Кабы знал, где упасть, соломки бы подостлал; обществом зато я принят был очень хорошо, и у меня началась новая драма, которой завязка очень занимательная, зато развязки, вероятно, не будет, ибо 9 марта отсюда уезжаю заслуживать себе на Кавказе отставку; из Валерикского представления меня вычеркнули, так что даже я не буду иметь утешения носить красной ленточки, когда надену штатский сюртук».
С «Валерикским представлением» он явно торопится – еще ничего не известно. «Новая драма», которой развязки он не ждет – это, конечно, Евдокия Ростопчина.
(Биби был его родственник и друг – оба учились в школе гвардейских подпрапорщиков, только Биби был моложе и выпустился из школы поздней, и сразу отправился на Кавказ. А теперь вот вместе в армии.)
«… я не намерен очень торопиться; итак, не продавай удивительного лова, ни кровати, ни седел; верно, отряд не выступит раньше 20 апреля, а я к тому времени непременно буду. Покупаю для нашего общего обихода Лафатера и Галя и множество других книг.»
«Лов» – черкесская лошадь, которую он хочет для себя сохранить – и седла тоже.
Столыпину, пришедшему навестить его – Монго волновался, естественно, – он бросил коротко:
– Мои представления, считай… накрылись!
Если, по правде, он был в отчаянии.
– Почему ты так решил?
– Им не нужно, чтоб я был храбр, понимаешь? Или вообще чем-то путным отличился. Им не нужен даже этот повод – дуэль с Барантом. Им просто не нужен здесь я!
VI
«Я сам себе не нравлюсь!» С этой мыслью он садился в почтовую карету в Ставрополе, домчался до Воронежа, с ней же пересел в сани (хотя дорога уже начинала подтекать) и въезжал в заснеженный Петербург в начале февраля 1841-го. Мертвый чеченец у дороги, привалившийся к камню, был одной из граней этой мысли. Другой гранью был Лихарев. Он и тот чеченец с бородкой, почти детской, вздернутой в небо, были сродни и связаны меж собой. И с ним тоже.
В таком настроении, более, чем мрачном, он отправился на Гагаринскую, к Карамзиным, пешком. Благо, было недалеко.
Софи Карамзина, старшая дочь историка, мало, что обрадовалась его появлению – была просто счастлива. Наверное, любила его. Наверное, он это знал. Но она была старше на двенадцать лет. А заносчивый Лермонтов думал однозначно: «В тридцать два года считать себя еще способной возбуждать страсти!» – как-то воскликнул по сходному поводу. Так что… Он предложил ей дружбу, как стали говорить через век. Она подарок приняла. Но друг была верный. Они с удовольствием свершали конные прогулки вместе. Наездник она была отличный.
Он поцеловал ей руку и, подумав, поцеловал еще другую.
– Я счастлива, что вы здесь! – сказала она.
– Я сам счастлив!
– Вы уже насовсем к нам?
– Нет, вряд ли!.. Судя по всему…
– Вы почитаете сегодня стихи?
– Лучше в другой раз, – сказал он, – не обидитесь? В другой раз!..
В гостиной оказалась, кстати, Ростопчина – он не знал, что она тоже бывает в этом доме. Ах, да, раньше она жила в Москве! Он ей поклонился издали – любезно, но отчужденно. Она была занята каким-то знакомым. Могла бы и подойти! Он сам нашел какой-то угол и забрался в него, бирюком. Такое с ним бывало.
Подошел сияющий – одни духи и блеск – Соллогуб.
– Ну, что? Поговорим о журнале?
– Нет. У меня сегодня не журнальное настроение. Даже не альманашное!.. А почему ты без жены?
– Я не всегда беру ее на литературные вечера. То есть, она не всегда присоединяется ко мне (поправился). К тому ж… Она себя чувствует неважно.
– Ей мой привет и сожаления! А что – разве тут нынче литературный вечер?..
– У Софи Карамзиной обычно так. Разве не помнишь? Но ты давно не был… Ты прочтешь нам что-нибудь?
– Нет… Я и хозяйке сказал «нет»! Она не обиделась.
– Ты вправе… Но здесь это теперь часто. Как-никак, это – дом Карамзина! – и, конечно – литературный салон. – Сказано было несколько возвышенно.
– Прости, я забыл! Приятно наблюдать в нашем поколении такой пиетет к старшим!
– Ты разве не испытываешь его?
– А как же! Испытываю. Но я могу им дать фору вперед. Как в шахматах! Или сеанс одновременной игры…
– Даже Пушкину?..
Лермонтов пожал плечами и не удостоил ответом.
– А ты наглец!.. – сказал Соллогуб с тайной завистью.
Теперь вот и Соллогуб женился. На той, кого охаживал несколько лет и кого безумно ревновал к Лермонтову. Средняя дочь Виельгорского, «Как небеса твой взор блистает – Небесной чистотой…» Все повторяли: «Ангел, ангел…» Софи в самом деле была необычное существо. (Гоголь и тот заметил, а уж до чего ханжа!) Сам голос ее покорял небесной чистотой (по мнению Гоголя, может, правда?).
Это она сказала как-то про их с Соллогубом насмешки над светом:
«В свете всегда душно!..» – ляпнул кто-то из них. – Софи была еще совсем юной.
«– Да нам-то что за дело! Если женщины румянятся, тем хуже для них. Если мужчины низки – для них стыднее! И почему искать в людях одно дурное? В обществе, я уверена, пороки общие!»
– Соллогуб вставил это речение потом, слово в слово, в свою «повесть в двух танцах» об их с Лермонтовым соперничестве – «Большой свет». Там Лермонтов (правда, не совсем Лермонтов) выведен под именем Леонина, а сам автор князем Щетининым (тоже не совсем Соллогуб, но князь вместо графа). Барышню в повести звали Наденька (Надин).
Жесткий Лермонтов сделал вид, что не обиделся на повесть. Даже Белинскому расхваливал ее. Что он думал о ней и сейчас никто не знает. Только не терпел, когда списывают живую жизнь впрямую, вовсе не изменяя ее. Хотя сам пользовался часто этой жизнью как материалом. Но аккуратно, никто не скажет. Аккуратно. Бог с ним! Каждый пишет, как умеет и как дано. Повесть вышла из печати несколько неловко по времени для Соллогуба: как раз, когда его «Леонин» был заперт в Ордонанс-гаузе за дуэль с Бараном. И уже там узнал об их помолвке с «Надиной» (Софи). В финале назревает дуэль двух соперников, и незадачливому Леонину друг его Сафьев дает совет:
«– Ну, душа моя, жаль мне тебя. Но дело это конченое! – Она будет любить не тебя, которого она не знает, а Щетинина, за которого она боится, и потом, душа моя, Щетинин князь, человек светский, богат, хорош, и влюбленный, а ты что? Поезжай на Кавказ!..» Он и поехал.