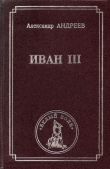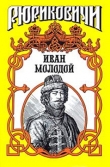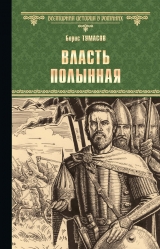
Текст книги "Власть полынная"
Автор книги: Борис Тумасов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава 9
В покоях Марфы Исааковны Борецкой полутемно, окна завешены тяжёлыми шторами. Горят в медных поставцах восковые свечи, плавятся, отекают. Их свет отражается, переливаясь, в кувшинах и чашах, в окованных кипарисового дерева сундучках, на золотой вазе, на аналое и тяжёлом, отделанном серебром Евангелии, которое любит читать боярыня долгими зимними вечерами.
Неспокойна её душа, мысли тревожны. Ну как Москва руки к Новгороду протянет? Вспомнила, что, когда был ещё жив её муж Исаак, друг её Василий Иванович, впоследствии принявший постриг под именем Варлаам, говаривал ей: безбожный Магомет Царьградом овладел, и отныне одна Русь оплотом православия осталась. Ей одной Христову веру блюсти…
Взгляд Марфы остановился на пологе с серебряной нитью, прикрывающем её пышную постель с горой подушек и соболиным одеялом. Мягкая постель, но холодная с той поры, как не стало Исаака, а Василий Иванович так и не приблизился к ней. Марфа Исааковна и тела его не познала, а уж как о том мыслила…
Заглянула дочь Олёна, шепнула – Пимен в сенях.
– Чего ждёшь, проводи.
Седовласый владычный ключник Пимен, дородный, с обжигающими очами и ухоженной бородой, едва порог переступил, пророкотал:
– Спаси и сохрани, мать моя, Марфа.
– Проходи, Пимен, вон креслице, садись. Олёна внесла накрытый льняной салфеткой поднос с едой, поставила на столик. Пимен ел аккуратно, вытирая салфеткой губы. Но вот, наконец, отодвинул поднос, взглянул на Марфу:
– Бога Всевышнего благодарю и тебя, мать моя, за доброту твою.
Боярыня головой качнула:
– Благодарствую, не забываешь ты меня, Пимен. Гляжу я на тебя, и душа моя скорбит. Не настояли мы, бояре, чтобы Иона тебя, Пимен, своим восприемником оставил. Хоть владыка Феофил ноне сторону Новгорода взял, а вдруг митрополит московский его сломит?
И Марфа вспомнила, как после смерти Ионы избирали Феофила. В Детинце на святом соборе надлежало назвать владыку новгородского. Из трёх названных выбор пал на Феофила, бывшего ризничего Ионы, священника Вяжицкой обители, теперь взлетевшего так высоко, до владыки новгородского!
А как она, Марфа Борецкая, хотела видеть новгородским владыкой Пимена! Бога молила, но он оказался глух к её мольбам.
Владыка Феофил литовскому митрополиту руку целовал и крест. А над Новгородом Москва готова меч занести.
– Митрополит московский Филипп в руках великих князей московских.
О том известно. Нам бы унию принять, как Флорентийский собор постановил. Тогда Исидор, митрополит московский, первым её подписал, да того Исидора великий князь Московский Василий Тёмный из митрополии изгнал и сана лишил. Спасибо, Рим его принял.
– Сие нам ведомо. Да то уже пройденное. Нас нонешнее положение тревожит. Пошли-ка ты, Пимен, к великому князю литовскому и королю польскому Казимиру своего человека, пусть он согласие даст на Новгород.
Пимен положил ладонь на пухлую руку Марфы. Та руку не отдёрнула, но строго посмотрела на владычного ключника.
– Я тебе, мать Марфа, вот о чём поведаю. Доподлинно известно, что великий князь Казимир беглого татарина Кирея к хану Ахмату послал, подговаривает того на Москву идти и свою помощь обещал.
Марфа перекрестилась:
– Кабы так, у московского великого князя отпадёт охота Новгород воевать…
Пимен ушёл, а Марфа ещё долго переваривала сказанное. Только бы удалось Казимиру подбить Ахмата! Ей даже мысль такая в голову не закрадывалась, что золотоордынец сможет отвести грозу от Новгорода.
Шумит, волнуется Великий вольный город Новгород, волнами переливается, исходит в криках. Ударил вечевой колокол, застучали на концах кожаные била. Отовсюду спешил народ на площадь, толпился. Гости именитые собирались вокруг помоста, люд теснили. Кончанские посадники со своими мастеровыми держались кучно. Гомон, словно грай вороний, повис над вечевой площадью. Орут:
– За короля хотим!
Особенно усердствовали крикуны, которые накануне опохмелились после ночной попойки.
На Великом мосту схлестнулись с теми, кто за Москву ратовали. Драку еле разняли. Теперь они на весь Волхов Борецких костерили, особливо Марфу Исааковну:
– Весь Новгород Марфа под Литву стелет!
– Сама под Казимира лечь готова и нас к тому толкает!
Им вторили другие:
– В Москву хотим, с князьями великими заодно!
Уже и вече пора начинать, а колокол всё бил, гудел. Лихие парни, Дмитрия Борецкого радетели, конями народ расталкивают, нагайками грозят:
– Раздайся, грязь, князь плывёт! Люд хохочет:
– Кой князь, навоз!
И тут же свистели по-разбойному:
– Короля нам подавай!
На степень[21]21
Степень – здесь: место пребывания знатных людей.
[Закрыть] уже взошли архиепископ, Иван Лукинич и посадские кончанских концов. Поклонились Параскеве Пятнице. Что-то посадский прокричал, кажется, вечу начало положил. Васька Селезнёв грамотой потряс:
– Вот он, договор наш, Советом господ одобренный, печатью заверенный!
– Катись, Васька, к такой матери со своим договором! Москву хотим!
Протискиваясь сквозь толпу, лезла к помосту Борецкая, голову повойник прикрыл, шуба соболиная нараспашку. Под горячую руку боярыне подвернулся пьяненький мужичок, кинулся к Марфе, раскинув руки:
– Боярыня, голубица!
Марфа Исааковна ему в зубы двинула. Мужичок ойкнул, сгусток крови выплюнул.
– Во баба, огонь! – только и промолвил.
Смеялась толпа, смеялись и на помосте. А Борецкая, разгорячённая, гневная, на вечевую степень поднялась, голос возвысила:
– Новгородцы, люд, зевы заткните, уймитесь!
И вече покорилось её властному голосу, взмаху руки. Она стояла над всеми, волевая, властная. Одним словом, Борецкая, Посадница.
– Новгородцы, какие за Москву ратуют, хотите, чтоб вас, как баранов, стригли, тройным налогом обложили? В кабалу Москве подались? Лапотникам покорились?
Гнетущая тишина зависла над новгородским вечем. Даже слышно было, как, каркая, с колокольни сорвалась воронья стая. А голос Борецкой звучал:
– Мужи новгородские, люди вольные, ужели вы сами проситесь в холопы великих князей московских? Государь Иван Васильевич вас ровней не считает, эвон какого неумеху, сына своего Ивана Молодого, великим князем Московским нарёк и в Великий Новгород послом слал! Запамятовал, кто мы есть? Мы вольный город, вечевой. Нам вече и вольности наши лишь великий князь литовский и король польский Казимир сохранит, веру нашу не порушит! Казимира просить, Казимира!
Иван Лукинич на Марфу смотрел с восхищением.
– Ай да Марфа Исааковна, как взяла круто! За горло перехватила новгородцев! – И тут же подал знак двум мужикам: – Пора листы выборочные раздавать! Кричите за короля!
По всей вечевой площади покатилось:
– Короля литовского хотим!
– Казимира просим!
Только изредка прорывалось:
– Государя московского!
– Литву! Литву! – орали всё громче. Борецкая довольно отёрлась, вздохнула:
– Молодец Митька, порадел за вольный Новгород. Перекричали-таки Москву…
Выехав за Москву на Вологодскую дорогу, молодой великий князь Иван придержал коня и оглянулся. На Боровицком холме во всей красе высился зубчатый Кремль, его стены и башни, из-за которых выглядывали церкви и дворцы, терема бояр, какие поселились в Кремле.
Освещённый первыми лучами солнца, он не выглядел грозно. Иван помнил каждый уголок этого, как ему казалось, дряхлеющего укрепления, где местами камень крошился, подмываемый сточными водами, а в щели пробивалась сорная трава.
Молодой великий князь дал коню волю. Статный, тонконогий, с широкой грудью жеребец легко взял в рысь. Позади остались крестьянские избы, сосны, блеснула гладь озера. Воздух с утра был чистым, подобно роднику освежающему.
Ополченцев князь нагнал на марше. Вятичи шли отряд за отрядом со своими старшими. Завидев великого князя, кланялись, что-то говорили, но Иван не прислушивался.
Поскрипывая, тянулся гружёный обоз. И снова шли пермяки и вятичи. Наконец молодой князь нагнал дворянскую сотню. Они ехали по трое в ряд, все в кольчатых рубахах, в железных шлемах.
Саньку увидел в первой тройке, а впереди рослый ратник вёз червлёный стяг. Заметив князя, Санька выехал из строя.
– Здрав будь, великий князь. Воевод повидать едешь?
– Экий ты, Санька, непонятливый. Тебя увидеть приехал. Теперь не скоро в Москву воротишься.
Они ехали стремя в стремя, продолжая переговариваться. Рослые, не скажешь, что пятнадцатое лето на свете живут.
Князь был без брони, в лёгком кафтане, поверх которого накинут опашень[22]22
Опашень – старинная долгополая летняя одежда с короткими широкими рукавами.
[Закрыть], а голова непокрыта, волосы по плечам рассыпались.
Смотрит Иван на Саньку, а тот время от времени на товарищей по сотне поглядывает, потом снова на великого князя взгляд переводит. Говорит:
– Из Вятки на Двину пойдём, воевода Борис Матвеевич Тютчев сказывал, так что в Москву не скоро ворочусь, ты прав. Да и не на прогулку выступили, не на блины к новгородцам званы. Новгород орешек крепкий.
– Это так, – согласился Иван, – по первой поездке запомнились ожерелья Великого Новгорода, его стены и башни. Думаю, не вскорости одолеем их.
Придержали коней. Передовой отряд, сверкая броней, выехал на возвышенность. С ним и воевода Слепец-Тютчев.
– Расстаёмся, Санька, удачи тебе. Перегнулся с коня, обнял друга. Санька вымолвил с надеждой:
– Может, в Новгороде свидимся?
– Нет, мне Москву от ордынцев беречь надобно.
Минул месяц, и с Ходынского поля разными дорогами началось выступление воинства государя московского. Первыми ушли передовые конные дворянские полки князя Холмского. На рысях провёл князь конницу. В головном полку везли стяг с ликом Спаса Нерукотворного.
Следом прошли полки второго воеводы – князя Стародубского. Фёдор Давыдович ехал на крупном коне, в кольчужной рубахе и воронёном шлеме. Ветер теребил его распушённую бороду.
Холмский и Стародубский повели полки на Русу. А вскоре выступили на Волок и Мету Стрига-Оболенский и татарский царевич Даньяр, а на Волоколамск уже изготовились полки самого Ивана Третьего с тем, чтобы оттуда начать наступление на Торжок.
С государевыми полками объединились и дружины братьев Ивана Васильевича. К ним присоединился князь Михаил Андреевич Верейский и Белозерский.
Вступило московское воинство на земли новгородские, пошли полки, уничтожая всё на своём пути. Жгли деревни, разоряли городки и угоняли в плен новгородский люд. Казнили непокорных, и летописцы сравнивали поход великих московских князей с Батыевым разорением.
Горели избы, и смрадный дым стлался над лесами и начавшими желтеть хлебными нивами. Били бубны, и гудели трубы. Московские полки шли покорять непокорный Новгород. Пыль из-под тысяч ног вилась столбом. Стонала и плакала Новгородская земля.
– Москва меч карающий над Новгородом занесла! – говорил князь Холмский. – И не будет новгородцам пощады!
Князья-воеводы ехали обочиной дороги в большой карете с лошадьми, запряжёнными цугом.
Князь Стародубский, второй воевода, слушал Холмского. Выглянув в оконце кареты, согласился:
– Да уж куда как круто взяли. С какой стороны новгородцам защищаться, коли с Двины и Вятки, Волоколамска и Торжка московские полки наседают.
– Новгороду по-доброму бы покориться.
– Как по-доброму, когда новгородцы к вольной, вечевой жизни привычны.
– То бы всё ничего, ежели бы они власть великого князя не отвергли да на Литву не поглянули, Казимиру не поклонились.
– Покуда архиепископ их придерживал, они смирялись, а как умер владыка, так новгородцев и понесло. Владыку Феофила избрали, а на рукоположение в Москву не отпустили.
– По слухам, бояре новгородские к унии склоняются.
– Нет, Новгород на унию не согласится…
Гомон, крики, топот множества ног, конское ржание не умолкали, и только к ночи, когда полки останавливались на ночёвку и князьям ставили шатёр, всё стихало.
А поутру лагерь оживал, полки выступали в поход.
Когда к Русе подходили, стало известно, что новгородцы готовятся выставить против Москвы ополчение.
Глава 10
Весть, что в Москве готовятся к войне с Новгородом, знали давно. Однако новгородцы не очень хотели верить в это. Все надеялись, что пугает их великий князь московский. Вот ведь присылал к ним молодого великого князя Ивана, тот грамоту привозил, да что из того. И уж никак не могли они подумать, что Иван Васильевич начнёт боевые действия летом, в пору распутицы.
Однако Иван Третий войну начал. С окраин новгородских, с пятин, которые с давних лет платили дань Новгороду, повели московские воеводы военные действия. А вскоре полки московские с самим Иваном Васильевичем на Волоколамск двинулись, к Торжку подступили и пустошат новгородские земли.
Собрали новгородцы Совет господ. Марфа Борецкая на него не явилась, в сердцах бросила:
– В науку Новгороду, отказались поклониться Казимиру!
Уверена была Посадница, не осилить московским ратникам новгородские укрепления. Ведь искони повелось, что у Новгорода всегда великие князья киевские искали защиты.
На Совете господ назвали на главного воеводу имя Василия Казимера, дряхлого полководца, воевавшего ещё пятнадцать лет назад под Русой. В помощь Казимеру вторыми воеводами и советниками назначили Василия Селезнёва и Дмитрия Борецкого.
Стали скликать войско. Вспомнили прежние лета, когда Новгород выставлял по сорок тысяч ратников и одерживал победы.
Но то было давно, а ныне Иван Третий уже идёт на Новгород. С превеликим трудом удалось призвать около пяти тысяч ратных людей и ремесленников, из которых многие и на коне не сидели, оружием не владели. А у бояр новгородских и дружин нет.
А тут ещё владыка Феофил заупрямился, не даёт своего благословения на войну с Москвой. Уж на архиепископа Совет господ давил, согласия требовал и убедил лишь позволить владычному полку выступить на Псков, потому как псковичи отказались помочь новгородцам…
Собралось новгородское ополчение, толпятся ратники в бездействии, из Новгорода ни шагу. Снова сошлись старейшины на Совет господ – призывать воеводу Казимера выступить навстречу московским полкам. Но Казимер упирался, настаивал на подготовке Новгорода к обороне. Боялся старый Казимер: побьют его московские воеводы.
Роптали новгородцы, ратники из ремесленников грозили разойтись по своим слободам. Еле убедили воеводу Казимера двинуться навстречу московскому войску. А ещё раньше ушла на ладьях к Ловети пешая новгородская рать, вторая готовилась.
Из города воинство новгородское выступило нестройными полками: лучники, копейщики, мечники. Конные с саблями едва на конях держались, умения не хватало. И всё это скопище воевода Казимер повёл на Шелонь.
Марфа Исааковна, убедившись в нерасторопности старейшин, сама принялась формировать конный полк из детей боярских. За свой счёт покупала оружие, лошадей. Говорила сыну:
– Тебе, Митрий, доверяю стоять против обидчиков наших. Постой за Новгород вольный.
Дмитрий Борецкий уводил полк в уверенности, что вернётся с победой. Застучали конские копыта по деревянным настилам мостовых, и через распахнутые ворота боярская дружина покинула Новгород.
Шли с изгоном. Дворянский полк, сверкая броней, врывался в новгородские городки, не ведая пощады, рубил встречных, грабил домишки жителей. Холмский посмеивался:
– Добром надобно покоряться! Неукреплённая Руса пала без боя. Не дав времени на разор, воеводы двинули конников на Коростень, что близ устья Шелони. Засуха. Всю весну не было дождей, не было их и в мае. Болотистые дороги стали проходимыми, конница шла без труда на рысях. Ехавшему бок о бок второму воеводе Холмский сказал:
– Пожалуй, Фёдор Давыдыч, не грех ратникам отдых дать, притомились и люди и кони.
Стародубский согласился:
– Пора. В Коростене и передохнут.
– В Коростене владычный полк архиепископа Феофила стоит. Не заморённый.
– Сопротивляться будет?
– Сломим…
Далеко вперёд выслали воеводы авангард.
Полкам велено было не останавливаться, лишь быть наготове и успеть развернуться для боя.
Из авангарда пригнали несколько пленных новгородцев. Те сообщили воеводам:
– Владычный полк Коростень покинул, а воеводе архиепископ Феофил настрого наказал не сопротивляться великокняжьим полкам московитов.
У десятника авангарда Холмский только и спросил:
– Новгородцы, каких захватили, сами сдались аль сопротивлялись?
И, услышав, что отбивались, рукой махнул:
– Добейте их!
В Коростене дворяне расположились на отдых. Коней расседлали, от брони освободились, довольные. Многие тут же улеглись спать, даже от обеда отказались.
Скинув кольчугу и ополоснувшись, Фёдор Давыдович направился к лагерю, обходил спящих, караулы проверял. Посмеивался в бороду:
– Теперь до утра не добудишься…
А в тот день, когда дворянский полк вступил в Коростень, по реке плыла судовая новгородская рать. С передового челна увидели новгородцы множество отдыхавших военных. Костры дымят, ратники по городку разбрелись. Неподалёку пасутся рассёдланные кони.
Новгородцы с челна удивлённо смотрели на незнакомых ратников, спрашивали друг друга:
– Псковичи, что ли?
– Кажись, нет. И не литвины, каких Казимир привести должен Новгороду в подмогу…
– Да московиты это, эвон погляди, стяги их! Новгородцы вёсла опустили, дивились:
– Люд на ладьях уведомить, пущай к берегу пристают.
– Нападём на московитов нежданно, сонных перебьём!
– Давай робята, греби к берегу. Мы сойдём, а вы к ладьям выгребайте, пущай причаливают, пока с берега караульные не узрели и тревогу не заиграли…
Вскоре ладьи новгородцев уже приставали к берегу» судовая рать высадилась и с криками, размахивая боевыми топорами, ударила по спящему лагерю. Рубили сонных, крушили. Крик и дикое конское ржание повисли над Коростенем.
Пробудился Холмский, ратник помог броню надеть, с саблей в руке выскочил воевода из шатра, кинулся в гущу боя.
Увидев его, дворяне опомнились, битва выровнялась. Ждут новгородцы: самое время владычному полку на московитов обрушиться, – да неведомо судовой рати о запрете владыки – в бой с полками государя московского не вступать.
Заиграли московские рожки, пошли дворяне в наступление. И побежали новгородцы. Фёдор Давыдович Стародубский, второй воевода, голос подал:
– Отсекай новгородцев от ладей! От берега тесни! Согнали пленных в одну толпу. Холмский допрос снял, а узнав, что по Ловати прошла вторая судовая рать, спросил князя Стародубского:
– Что с пленными делать? Нам вдогон второй судовой рати поспешать?
Фёдор Давыдович пожал плечами:
– Обуза нам, князь!
– Обузой не будут. Вели, князь Фёдор, в сабли их взять, в топоры!..
Когда побоище было окончено, сели дворянские ратники в сёдла, заиграли рожки наступление, и пошли дворяне вслед ушедшей по Ловати второй судовой рати…
В Новгороде ждали известий от воеводы Казимера. Но он от города далеко не отошёл, остерёгся. Случись беде, за стенами новгородскими можно отсидеться.
Бранились новгородцы, зло насмехались над незадачливым военачальником:
– Казимер к стенам городским припал, как дитя к сиське!
– Из этого воеводы песок сыплется, а в душе страх засел!
Участились побеги из ополчения. Убегали из Неревского полка, из Плотницкого… Скрывались в своих ремесленных слободах…
Ждала известий и Марфа Борецкая. Ни от воеводы Казимера нет утешительных вестей, ни от сына Дмитрия. А ещё ждала, что привезёт её дворецкий, которого она послала к великому князю литовскому. На свой страх и риск нарядила она посла с письмом и в нём не просила, требовала взять под своё прикрытие Новгород.
Недели считала, всё надеялась, а дворецкий всё задерживался.
Но вот докатилась до Новгорода весть страшная: порубили московиты первую судовую рать, никому пощады не дали.
В крике и плаче изошёлся Новгород. Выли во всех новгородских концах. Закрылась Марфа в своих палатах, ни слезинки не обронила, будто окаменела. А тут ещё к утру воротился дворецкий с неутешительной вестью: великий князь литовский из Вильно в Варшаву отъехал, а своим маршалкам заявил: король и великий князь в войну с Московией ввязываться не желает, у новгородцев своих сил достаточно, чтобы побить Москву…
Удар был стремительным и неожиданным, и Холмский собрался уничтожить и эту судовую новгородскую рать, когда получил приказ самого Ивана Третьего отойти к Шелони.
Как потом стало известно воеводе Даниилу Дмитриевичу, сюда подходило войско Казимера со всеми своими полками.
– Ну, – сказал Холмский второму воеводе, – кажется, наступает решительный час. Покажем, Фёдор Давыдыч, на что мы способны…
Войска сошлись на противоположных берегах Шелони. Часть своих сил Холмский укрыл в ближних лесах, остальных выставил на виду.
Новгородцы увидели – мало московитов, задирают:
– Лапотники! Прихвостни великокняжьи! Рыла суконные!
Послал Холмский разведать броды. Пора не дождливая, Шелонь обмелела. Места для переправы отыскали, и воеводы начали готовиться. А прежде Даниил Дмитриевич нарядил к воеводе Казимеру гонца с письмом, в котором предложил повременить с битвой.
Василий Казимер и его советники посчитали это слабостью московитов и возрадовались.
– Не станем время терять, – решили они.
– Выдвинемся против Москвы «клином», – предложил Борецкий. – Вели дать такую команду, Василий Лександрыч!
– Ударим «свиньёй», как рыцари немецкие сражались!
– То так, – согласился Казимер и отдал приказания по полкам.
Начали новгородцы перестраиваться, сбивались в толпы, смешались. Каждый искал себе местечко поукромней и от стрелы, и от сабли.
Кое-как построившись «клином», двинулись на московитов. Вскоре донёсся звук труб – то боярские дружины переправились, пошли навстречу новгородской «свинье».
Кони взяли в рысь, тысячи голосов кричали:
– Моск-ва-а!
Рой стрел полетел в новгородцев. «Клин» расстроился.
Подбадривая своих, Селезнёв закричал:
– Вперёд, новгородские молодцы! Ему вторил Дмитрий Борецкий:
– Ушкуйники, держись! – И выхватил саблю. Взывали к своим ратникам полковые воеводы всех новгородских концов. А в них неслись стрелы, и падали убитые и раненые. Вой и крики раздались над Шелонью.
Увидел Казимер, что не выдержать натиска московитов. Послал ближнего ратника к словенцам, чтоб ударили сбоку. А словенцы в ответ:
– Аль воеводе позастило, впереди у нас неревцы и плотничане!
Московские полки давят, не выбирая пути, ломят и кричат:
– Москва! – И свой червлёный стяг вздымают.
Разверзся «клин», и в самое подбрюшье ударил воевода Фёдор Давыдович. И побежали новгородцы. Долго избивали их московские полки, и только ночь прекратила побоище. Сгоняли пленных, делили добычу. А воевода Холмский уже послал гонца в Яжелбицы, что в ста верстах от Новгорода, к государю Ивану Васильевичу с известием о победе.
Государь писал сыну, молодому великому князю Ивану:
«Новгородская земля покорена, я сломил хребет непокорному Новгороду. Московские полки стоят под его стенами. Я, государь Руси, жду, когда новгородцы присягнут на верность великим князьям московским…»
В грамоте отписывал Иван Васильевич, что воевода Борис Тютчев, наказав двинцев за их покорность Новгороду, направляется к Русе.
Иван Молодой вспомнил, как с этими полками уходил на Вологду и Санька, служилый дворянин Александр Гаврилович…
Отписал Иван Третий, что в Яжелбицы пришла тверская дружина. Это была добрая весть. Твери давно надо было признать, что московские князья великие ещё со времён Ивана Даниловича Калиты. Ан нет, все мнят себя выше Москвы…
И подумал великий князь Иван Молодой, что в последние годы после смерти матери, великой княгини Марии, её брат Михаил Борисович, тверской князь, всё больше к Литве поворачивается, чем вызывает гнев государя Ивана Третьего. Не привело бы это к войне Москвы с Тверью…
Чуть погодя князь Иван подумал: «Может, теперь, когда князь Михаил послал свою дружину на Новгород, смягчатся отношения между тверскими и московскими князьями?»
Очнулся Дмитрий Борецкий, когда его, окровавленного, волокли в заросший ров, в который сваливали убитых новгородцев.
Он открыл глаза и с ужасом увидел, что с ним поступают, как с погибшим. Дмитрий хотел закричать, когда один из московитов сказал товарищу:
– Во, он очами зыркает!
С Борецкого уже стащили броню, и он оставался в дорогом кафтане.
– То непростая птица, – заметил второй московит, – надобно его воеводе Даниилу Дмитриевичу показать.
Кто-то отправился на розыски князя Холмского, а Дмитрий вспомнил, как всё происходило. Как рассыпался новгородский «клин», как начали разбегаться ратники. Уносились конные, а второй московский воевода ворвался в самую середину «клина». Он, Дмитрий, отбивался и, не окликни его кто-то, может быть, и ускакал бы, но стоило ему посмотреть в сторону, как сильный удар оглушил его. Он сполз с седла, и конь потащил его по полю…
Больше Борецкий уже ничего не помнил.
Он стоял, прислонившись к дереву, когда подъехал Холмский. Увидев Дмитрия, удивился:
– Вон кого полонили, самого боярина Борецкого, второго воеводу… К государю Ивану Васильевичу на допрос его повезём…
Известие о смерти сына Марфа Исааковна получила от бежавших с Шелони новгородцев. Не выла, зубы сцепила, стерпела. На Совет господ явилась лютая, волосы космами вылезли из-под повойника. Откинула полу епанчи[23]23
Епанча – старинная верхняя одежда в виде широкого плаща.
[Закрыть], уселась в кресло напротив архиепископа, из груди только хрип раздался. Ни к кому не обращаясь, зло повела по палате очами:
– Дождались? Кто Казимера в воеводы назвал, кто намерился своими силами Москву сломить? Аль запамятовали, как похвалялись сорок тысяч ратников выставить? А я взывала кликать Литву, без Литвы Москву не одолеть! Эвон как московиты разорили наши земли, сколь беженцев за стенами новгородскими защиты ищут! Поди, пол-Руси укрылось!
Иван Лукинич поёжился, кашлянул:
– Охолонь, Марфа Исааковна, аль нам ноне не горько? Сама ведаешь, в каждый дом горе ворвалось.
Борецкая подскочила:
– Меня утешаешь? Ты, Иван Лукинич, с Москвой давно заигрываешь! Мне ль забыть, как ты перед великим князем Иваном Молодым разве что не стлался! – И вздрогнула, словно горячая лошадь под хлыстом. – Его, волчонка, с дьяком московским Фёдором из города гнать надлежало, а ты, Иван Лукинич, улещал. Вот и доулещался… Ты сказываешь, горько в каждом доме, горечь полынная. Да не то горько, что мужики полегли, сына моего Митрия убили, горько, что Новгород волю свою теряет… В сполох надо бить, посадник, всем на стены встать. К этому взываю! Не желаем хомут московский на себя надевать!
– Ох-ох, Марфа Исааковна, уймись. – Архиепископ постучал по полу посохом. – Я ль не просил, требовал великим князьям московским не противиться!
– Ты, владыка, не Москвой, Новгородом выбран, так и служи новгородцам. Коли б ты свой владычный полк не упрятал под широкую рясу, а на рать послал вместе со всеми новгородцами, то и не случилось бы такого позора на Шелони.
Поднялась, метнув на архиепископа злой взгляд, и покинула палату.
Нависла гнетущая тишина. Не стыдясь слёз, заплакал боярин Никулич. Опустил голову Феофил. Но вот поднялся Иван Лукинич.
– Владыка, в беде Великий Новгород. Ещё николи не испытывали такого позора новгородцы. Отвернулись от нас наши великие предки, творившие подвиги. Ты, владыка, саном облечён, и тебе щитом Новгороду стать надобно. Не могут новгородцы сегодня Москве противостоять. Поклонимся государю московскому.
Вставали члены Совета господ, одни тихо, другие громко повторяли:
– Поклонимся!
– И тебе, Иван Лукинич, вместе с владыкой переговоры с Москвой вести.






![Книга Миг власти московского князя [Михаил Хоробрит] автора Алла Панова](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-mig-vlasti-moskovskogo-knyazya-mihail-horobrit-239654.jpg)