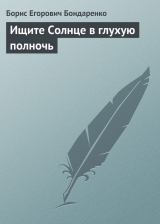
Текст книги "Ищите Солнце в глухую полночь"
Автор книги: Борис Бондаренко
Жанр:
Детские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
44
Олега я нашел только к вечеру. «Конец», – подумал я, увидев его распростертое на земле тело, запрокинутую голову и струйку запекшейся крови на щеке. Одежда его была разорвана в клочья, на боку виднелась большая багрово-фиолетовая опухоль. Он пошевелился, заслышав мои шаги.
– Ты, старик... – услышал я его шепот.
Он улыбнулся.
– Который час?
– Без четверти семь.
– Я не ждал тебя так скоро... Что со мной?
– Почти ничего. Голова очень болит?
– Терпимо... А что гравиметр?
– Ах, гравиметр...
Я совсем забыл о нем. Вытащил его из Олегова рюкзака – что-то загремело внутри. Я не стал открывать его и отбросил в сторону.
– Гравиметр в порядке.
Он опять улыбнулся:
– Понятно.
И закрыл глаза.
Я оттащил его на сухое место, закутал в спальный мешок и телогрейки, потом поставил палатку. Накормил Олега и заставил его выпить спирта. Вскоре он заснул.
Я разложил костер и долго сидел, глядя в огонь.
Утром я наловил десяток хариусов, посолил их, насобирал грибов и отправился на охоту. Мне явно везло в тот день – буквально через несколько шагов я наткнулся на крупного косача и уложил его, а через полчаса еще одного. Убивать этих глупых жирных птиц не стоило большого труда – они настолько бестолковы, что не снимаются с места даже тогда, когда подходишь к ним на пятнадцать шагов.
Когда я вернулся, Олег не спал.
– Как ты себя чувствуешь? – спросил я его.
– Нормально.
– А если точнее?
– Почти нормально.
Он внимательно посмотрел на меня.
– Что ты надумал делать?
– Еще не знаю.
Я действительно не знал, что делать. Олег скоро опять заснул.
Я развернул карту.
Искать нас начнут дней через десять, не раньше. Дня два-три понадобится на то, чтобы обшарить вертолетами Толью – если будет погода. А погоды в это время ждать не приходится... Сергей, вероятно, догадается, что мы свернули на Манью. Еще два дня, чтобы найти нас здесь.
Итак, в лучшем и маловероятном случае – две недели. А в худшем – навсегда остаться здесь.
«Не-при-ем-ле-мо», – как говорил когда-то мой шеф. Интересно, что он сейчас делает? Сидит, наверно, в своей лаборатории, в белом халате, под столом бутылки из-под фруктовой позвякивают, решает какое-нибудь изящное уравненьице, на осциллограф посматривает – красота! Взглянуть бы сейчас хоть одним глазком на мою машину... Вот только бы не утащили ее из лаборатории» а то опять придется скандалить... Все-таки заработает моя схема или нет? Я набросал ее еще в Приуральском, но с тех пор почти не занимался ею – не было времени. Взглянуть сейчас? Я вытащил из планшета листки, стал проверять цепи и уравнения. Как-то странно выглядели эти формулы сейчас – в серых дневных сумерках, в мертвом безлюдье, среди разноголосого гула тайги. Я отложил все в сторону – не время. Очень жаль, конечно, что нельзя сейчас же взяться за работу и придется ждать еще недели две-три. А пока надо думать, что делать. Думать, думать, думать... И не ошибаться. Сейчас ошибка может стоить жизни, и не только моей... А думать-то особенно было не о чем: наше положение безнадежно. Совершенно ясно было, что мне не дойти до Няксимволя, да и смысла в этом нет. Слишком далеко – шестьдесят пять километров... Значит, остается Койнур.
На следующее утро я рано разбудил Олега.
– Ты уходишь? – спросил он.
– Да, Олежка, надо идти.
– Куда? Ведь до Няксимволя ты не дойдешь.
– Я пойду на Койнур – там работают свердловские геологи. На нашей карте отмечена их база.
– Далеко это?
– Километров двадцать пять.
На самом деле было почти тридцать пять.
– Далеко... Ты не дойдешь.
– Я дойду, Олег. Самое большое через неделю за тобой прилетит вертолет. Еды тебе хватит дней на десять. А за меня не беспокойся – я дойду.
Я осторожно обнял его.
– До свидания, дружище...
45
Андрей ушел. Олег недолго слышал его шаги, треск сучьев и противное чавканье болота под ногами.
И наконец, не осталось ничего, кроме шума тайги.
Весь первый день он пролежал в палатке.
Боль в разбитой ноге утихла и почти не беспокоила его.
Олег дремал, иногда открывал глаза, видел перед собой грязно-белое полотно палатки и опять засыпал.
Не хотелось думать о том, что случилось с ним и что будет дальше.
Ночь принесла с собой холод и страх. Теперь уже, открывая глаза, он не видел ничего, кроме темноты, и инстинктивно вытягивал руку, щупал стены палатки.
Палатка была на месте, но ему казалось, что стенки ее сдвинулись и поэтому стало так трудно дышать.
Тогда он осторожно вылез из палатки, прихватив с собой ружье, увидел черное небо, черную стену деревьев вокруг и невольно застыл прислушиваясь. Шум ветра и реки, крики птиц, дыхание болота – все было обыкновенным и привычным, но он боялся пошевелиться, словно кто-нибудь мог обнаружить его здесь и наброситься из темноты. «Только не надо нервничать, – подумал он. – Ведь ничего же не случилось со мной за полтора месяца. Надо разжечь костер и сварить обед».
Андрей заготовил для него большую кучу валежника, и разжечь костер было совсем не трудно. Олег расстелил плащ – и устроился на боку, протянув ноги к огню. Он решил, что только сварит обед и опять заберется в палатку, чтобы зря не жечь дрова, но просидел у костра всю ночь, не смыкая глаз. У него оставалось полбутылки спирта, и ему очень хотелось выпить, но он знал, как пригодится ему потом спирт, и сдержался. К утру дров осталось меньше половины, и он заставил себя потушить костер и залезть в палатку. И только тут вспомнил, что надо было просушить спальный мешок. «Нельзя забывать о таких вещах, – приказал он себе. – А теперь спать».
Но уснуть долго не удавалось. Пошел дождь, он падал на палатку так, словно кто-то несильно бил по ней чем-то тупым и тяжелым, и шум ударов был настолько глухим и монотонным, что уже не воспринимался как посторонний шум. Олегу казалось, что этот звук рождается где-то внутри него самого.
Он все-таки выпил немного спирту и почувствовал, что скоро уснет. Проверил, надежно ли укрыты от сырости спички и патроны, и устроился поудобнее. Он лежал посредине палатки, чтобы случайно не прикоснуться к стенке. Если во время дождя задеть за полотно, в этом месте обязательно появится течь.
И действительно, он скоро уснул.
Проснулся он от крика.
Он сжался так, что заболело все тело, и чувствовал, каким большим и тяжелым стало сердце и как медленно бьется оно, словно каждый удар его мог стать последним.
Потом Олег понял, что кричал он сам.
Все еще шел дождь.
Палатка тяжело висела над ним, теперь она и в самом деле стала меньше, и куда бы он ни посмотрел, везде видел только серое намокшее полотно, прогнувшееся под тяжестью дождя. Если к вечеру дождь не прекратится, она потечет.
Он надел на себя все, что было у него, но все же дрожал от озноба. Тогда он опять выпил, и сразу стало легче.
Он стал думать о том, что сейчас делается в Москве. Ребята уже съезжаются. Через несколько дней начнутся занятия. А пока, наверно, бегают по выставкам, ходят на футбол, треплются об искусстве... Он усмехнулся. Искусство, не искусство, талантливо, бездарно, гениально – здесь эти слова казались переводом с иностранного. Он вдруг вспомнил, как полгода назад они вчетвером сидели в его комнате и несколько часов подряд спорили, что такое телевидение – искусство или не искусство. Нелепо, но факт. А незадолго перед этим даже поссорились. Грин и романтика, романтика и романтизм... О господи!
Он засмеялся: «Вот она, романтика, рядом. Непроходимая тайга, неизведанные пути, безлюдье на много километров, безвыходное положение, одиночество... Полный набор! Не мешало бы всем романтикующим эстетам пройти курс такого вот... лечения. Вряд ли им здесь пришло бы в голову ломать копья в спорах о Грине и романтизме и спорить о том, что такое телевидение – искусство или не искусство. На это у них просто не оставалось бы сил. Хорошо, если бы их хватило на месяц романтической жизни. Может быть, они бы поняли, что искусство – это не только Пикассо и Рене Клер. Выбрать место для ночлега – тоже искусство. А разжечь костер, разглядеть проход в болоте, уберечься от сырости, холода, не поддаваться страху и отчаянию, не умереть с голоду – вот еще несколько сложнейших областей великого искусства жить. Этому искусству никто не научит. Считается, что цивилизация отменила его. Все это называется романтикой, а романтика, как известно, – нечто производное от свойств характера, душевного настроя, желаний и прочей нематериальной дребедени. Была бы романтическая душа – все остальное приложится. Ну, что красивого и романтического было за эти два месяца?
Во-первых, места. Великолепные, бесподобные, никогда не виданные, можно еще с десяток роскошных эпитетов – все это правда. Первые дни я во все глаза смотрел по сторонам. Даже комары не очень докучали. Красота кончилась в Шантыме. Началось что-то до отвращения скучное и бесконечное. Неважно, что это длится меньше полутора месяца. Дни, недели, месяцы – это не время, это всего лишь календарь. Время не измеряется числами и записями в дневнике. Время – это я сам. Это что-то находящееся внутри меня и зависит от моих сил, возможностей, от того, когда я последний раз ел и спал, сколько я сделал и сколько еще предстоит сделать, и еще от тысячи разных причин. Время никогда не может быть прошлым или будущим, оно всегда настоящее. Прошлое и будущее – всего лишь формы грамматики, удобный способ изъясняться друг с другом. Время не может быть ни длинным, ни коротким, оно всегда бесконечно... Бред? Глубокая философия на мелких местах?»
Ему опять стало холодно, и он достал остатки спирта. Дождь не прекращался, и палатка прогибалась все больше, в нескольких местах уже капало.
«Палатки, дождь, спальные мешки – это тоже непременные атрибуты романтики. А вот отупляющая скука, ссоры из-за того, кому мыть посуду и собирать дрова для костра, беспричинное раздражение, матерщина и необходимость изо дня в день видеть одни и те же лица, слышать одни и те же голоса, хуже того – одни и те же слова – это уже не романтика. Это, вероятно, мелочи быта. Правда, этими мелочами заполнен каждый день. Этих мелочей почему-то очень много. Может быть, потому, что в таких условиях в характере каждого выявляется всякая дрянь, которую обычно тщательно скрываешь? Но здесь-то ничего не скроешь. Ни самое хорошее, ни самое плохое. Мелочность, подозрительность, эгоизм, зависть – все в конце концов выплеснулось наружу. Цивилизация хороша уже только тем, что помогает подавить в себе этих несимпатичных зверей. В цивилизации все проще. Если у тебя плохое настроение – можешь уйти к себе и переждать. Можешь отправиться в кино, почитать, выпить наконец... Потом все проходит, и снова идешь к людям повеселевший, снова спокоен, терпим, доброжелателен, опять шутишь и улыбаешься. Здесь идти некуда. Здесь приходится лежать рядом с человеком, который обидел тебя или которого ты обидел, ощущать запах его давно не мытого тела – к своему запаху ты привык, – и даже его прикосновений избежать не можешь – палатка двухместная, а в ней лежат четверо... Все это, очевидно, не романтика. Романтика – это когда жертвуют жизнью, спасая товарища, делятся последним куском хлеба, изо всех сил стараются кому-то помочь. Это тоже правда. Та правда, о которой охотно пишут в романтических повестях. Но все дело в том, что очень редко приходится кого-то спасать. Если бы в экспедициях занимались тем, что спасали друг друга, экспедиции не стоило бы посылать. И помогать кому-то из последних сил, делиться последним куском хлеба тоже почти не приходится – здесь все равны. Здесь, в сущности, остается только одно – работа. Тяжелая, примитивная, не требующая большого ума. Ходить по болотам, таскать тяжести, пробираться сквозь заросли. Ограниченный круг жестко определенных и не очень приятных обязанностей. Но это уже не романтика. Ну, а что же еще остается? Во имя чего все это делается? Во имя чего я должен погибать здесь?»
Олег невольно вздрогнул. Он впервые отчетливо произнес про себя это слово – погибать. Слово стремительно выросло перед глазами, оно было написано огромными яркими буквами на серых стенах палатки, покачивалось и то приближалось, то удалялось, резало глаза нестерпимым блеском... Олег зажмурился, но наваждение не исчезло – слово стояло перед глазами, оно горело в его мозгу, заполнив все пятнадцать миллиардов клеток... Олег потянулся к бутылке, но она была пуста. «Значит, так все и будет? Только спокойнее. Еще не все потеряно. Не все? А на что же еще ты надеешься? Что Андрей дойдет до Койнура? Чушь! Двадцать пять километров. Он почти не может идти. Где он сейчас? Лежит где-нибудь под деревом и вот так же философствует? И тоже спрашивает себя, зачем он сюда приехал и во имя чего он должен погибать? О господи, какой же я был болван, что не уговорил его тогда вернуться! Ведь все зависело от меня одного. Почему я не сделал этого? Побоялся еще раз признаться в своем поражении? Но разве поражение перестало быть поражением оттого, что я не признался в нем? Ведь мне не хотелось идти. Я даже не думал об этом, когда с Сергеем случилась беда. Первое, о чем я подумал тогда: а ведь неплохо все получается! Конечно, жалко было Сергея, и хорошо было бы дойти до конца. Но главным было другое – теперь можно повернуть назад! Ведь это было главным для меня! Так же как для докторов, для Вальки, для Харлампия... Я тогда совсем не думал, какая это небольшая честь для меня – оказаться в одной компании с ними. Только когда Андрей стал пересчитывать рейсы, я начал подозревать, в чем дело. Но он тогда ничего не сказал мне. Почему? Верил в меня? Так я понял его. И не удивился, когда он предложил идти дальше. До самого последнего момента я не знал, что отвечу на его предложение, а он даже не спросил меня, он просто сказал Сергею, что можно идти дальше. И только когда я молчаливо согласился с Андреем и потом думал об этом, я до конца понял, что заставило меня отступить перед ним. Не только двенадцать лет нашей дружбы...
Вероятно, это началось давно, еще с первых лет нашего знакомства, когда мы мечтали о большой жизни, полной трудностей и борьбы. Кажется, только в этом мы были равны – в мечтах... А остальное? Как же я не мог понять раньше... А ведь все происходило на моих глазах, надо было только как следует задуматься. Взять хотя бы наши семьи. У Андрея – ежедневная изнурительная борьба за самостоятельность, за право думать по-своему; ему все время приходилось отстаивать свои духовные ценности, обороняться от лжи и лицемерия, судить себя и своих родителей. Стоит только вспомнить, каким вырос Алексей, чтобы понять, как трудно приходилось Андрею. Но ведь мне-то бороться было не с чем... А потом? В армии все решали за меня, а я опять ждал, когда это кончится, чтобы начать большую самостоятельную жизнь... Это в двадцать-то два года! Университет – что там было? Чтобы поступить туда, оказалось достаточно сдать на тройки. А у Андрея опять все было по-другому... Болезнь, необходимость где-то подрабатывать, его установка... Я не знал, куда деть свои силы, а у Андрея их не хватало на самое необходимое... И так все двенадцать лет!.. Я считал, что наши судьбы тесно связаны, а на самом деле мы давно уже шли разными путями. Понимал ли это Андрей? Наверно. Ведь он никогда не навязывал мне своих взглядов. Я сам, по своей воле, пытался идти за ним. Его правда – моя правда. Поэтому я отступил перед ним, когда он познакомился с Машей. Я ухватился за самое легкое объяснение. Я решил, что он прав. Было, конечно, и другое. Самое главное – Маша не любила меня. Но ведь я-то был уверен, что люблю ее. Почему я не сказал ему тогда: уезжай? Растерялся... Ну, еще бы! Теоретически бороться с предполагаемыми трудностями – это одно, а с Андреем – совсем другое. А вот он не побоялся. Легче всего это объяснить тем, что я не так уж много значу для него. Но ведь это неправда. Тогда я уж начал кое-что понимать. А здесь, в тайге, все окончательно прояснилось. Единственный раз мы оказались в равных условиях. И вот что из этого получилось. Теперь ты лежишь и скулишь, как прибитый щенок. И готов ухватиться за самое простое – во всем обвинить Андрея. А за что он сейчас хватается? О чем думает? Ведь он не дойдет до Койнура, это же ясно! Да если и дойдет, маловероятно, что там кто-нибудь есть. Ну, а на что еще остается надеяться? Что нас будут искать? Кто? От докторов узнают, что мы пошли одни. Но доктора не знают, что мы изменили маршрут. Нас будут искать на Толье. И вряд ли поиски скоро начнутся – ведь мы должны выйти к Сосьве не раньше чем через десять дней. Хоть бы спирт был!.. Проклятый дождь... Зачем я поехал сюда? Только бы выбраться отсюда, только бы выжить... Тогда все пойдет по-другому... Больше я на такую удочку не попадусь... К черту высокие словеса! Сам себя за волосы не поднимешь... Незачем пытаться совершить невозможное. Живи как можешь. Ведь я всего-навсего человек. Человек, у которого всего лишь одно сердце, всего одна жизнь и очень ограниченный запас сил. Все равно этих сил на все не хватит. Их хватит лишь на какую-то ничтожную дольку тех дел, которые существуют на земле. А на земле – ни много ни мало – три миллиарда душ, три миллиарда дел. И я всего лишь одна трехмиллиардная силенка от всего земного шара. Как говорил когда-то Андрей, величина существенно бесконечно малая... Опять Андрей. Он что-то еще говорил об этом. Кажется, что бесконечно малые бывают разных порядков. Высших порядков и низших порядков. А не все ли равно, какого порядка? Все равно бесконечно малая. Почти нуль. Нуль! Так что капитуляция? Ха... Как будто можно еще говорить о победе. Ну да, капитуляция. Полная и безоговорочная. Не очень красиво? Зато надежно и удобно. По крайней мере не будешь больше попадать вот в такие положения, не будет боли и страха, вздрагиваний от каждого шороха, озноба, голода, звериной тоски по теплу и солнечному свету... Только бы выбраться отсюда, только бы выжить... Выжить!»
К вечеру дождь перестал. Олег выбрался из палатки и принялся разжигать костер. Дрова были сырые и долго не разгорались, и он истратил больше десятка спичек. «Если так пойдет дальше, – подумал он, – у меня в запасе еще два костра. Надо быть спокойнее. Не надо думать. Надо выжить. А для этого нужны самые элементарные, но точные и спокойные действия. Самое главное – ничего лишнего. Меньше двигаться и беречь силы».
Но он не мог не думать. Он опять всю ночь просидел у костра и опять не спал. А утром решил уйти. Он понимал, что это бесполезно и вряд ли ему удастся пройти хотя бы несколько километров, но он ничего не мог поделать с собой.
Он взял только еду и ружье. Ружье он бросил километра через полтора. Чтобы пройти эти полтора километра, ему понадобилось шесть часов. Потом он прошел еще метров триста. Дальше пути не было. Впереди была скала и в ней неширокая щель, куда с ревом устремлялась Манья.
Он лежал на берегу и смотрел на низкое темное небо.
Потом он понял, что плачет.
Вечером пошел снег.
Олег приподнялся, нашел палку и заковылял обратно к лагерю.
Оглянувшись на скалу, он с ненавистью прошептал:
– Будь ты проклят, Шелест...
46
К вечеру второго дня я понял, что все-таки не дойду до Койнура. Оставалось, вероятно, около пятнадцати километров, а я не мог сделать и пяти шагов... Я разложил костер и до глубокой ночи просидел, глядя в огонь. Потом разбросал остатки костра и улегся на теплой земле. А утром мне не удалось встать. Страшная боль валила наземь сразу, как только я пытался ступить на ноги. Ступни распухли, превратились в черные гнойные подушки, и когда я снял ботинки, надеть их потом уже не смог. И так и остался сидеть на земле, прислонившись спиной к стволу кедра. К вечеру я прополз несколько метров, чтобы собрать топливо для костра, и потом опять сидел, прислонившись спиной к стволу кедра, и следил за тем, как неслышно подкрадывается ко мне темнота.
Были те страшные минуты, когда в сознание властно вторгаются мысли о смерти, и все остальное отступает перед ними, и ничего больше нет – только твоя боль, твое истерзанное тело и отчаяние при мысли о том, что еще немного – и все это кончится навсегда, насовсем; и последнее, что еще останется тебе, – это видеть, как исчезает мир в твоих умирающих глазах...
Я поднял голову, увидел темноту, призрачные очертания деревьев вокруг и крошечный кусочек черного беззвездного неба где-то высоко вверху... И было так страшно и больно, что хотелось кричать в это призрачное безмолвие...
Мне не хотелось умирать, но с каждой минутой все яснее и беспощаднее становилось странное ощущение – словно сама жизнь по капле уходила из моего тела вместе с болью и страхом.
Я откинул голову назад, почувствовал затылком шершавую кору дерева и задумался, глядя на пламя костра...
Я стал вспоминать все сначала – Приуральский, Илыч, Шантым. Мне казалось, что где-то я ошибся и слишком понадеялся на свои силы, но где? Может быть, я ошибся еще раньше, уезжая в экспедицию, и прав был Валентин, когда говорил, что я слишком грубо передергиваю карты? Но мне действительно надо было ехать сюда, и не только деньги тому причиной, хотя и это тоже имело немалое значение. Надо было, наконец, воплотить ту далекую мою мечту... Откуда она взялась? Может быть, она родилась вместе со мной и росла вместе со мной, вставая со страниц прочитанных книг, и чем больше я узнавал, тем дальше раздвигались границы моей страны – мечты.
Это та страна, в которой было все, что мне хотелось увидеть и узнать.
Все увидеть и узнать... Сколько раз я говорил себе, что это невозможно – ведь так чудовищно коротка жизнь человеческая... Но так и не смог примириться с этим. Время – вечный мой враг, проклятое время... Его не хватало даже на физику. А остальное? Книги, музыка, города, реки, горы, новые люди – когда я все это увижу, узнаю, встречу? Я не переставал надеяться, что когда-нибудь мне удастся сделать это. А пока были любимая работа и мое призвание. И когда случилось все так, что мне очень нужны были деньги, и я уже не мог работать над машиной, и как раз представилась возможность отправиться в экспедицию, я поехал сюда, на Шантым, почти не раздумывая.
И оказалось, что я нужен здесь. Я ничего не смыслил ни в геофизике, ни в приборах, ни в моторах. Всему этому мне пришлось выучиться. И оказалось, что я многое могу сделать – больше, чем другие. Это был закон, и этот закон не подлежал обсуждению и не знал исключений. Мне очень хотелось, чтобы так было всегда, и я говорил себе: «Так должно быть!» И когда с Сергеем случилось несчастье, я не колебался. Ведь уже ясно было, что мы идем по краевому прогибу, и надо было доводить дело до конца, пока можно было что-то сделать. Все остальные были крепче и сильнее меня, но я еще мог идти и верил, что мы дойдем. Верил в это, когда ушли Николай и Валентин.
Мы должны были идти вперед.
Я вспомнил слова человека*[Ромена Роллана.], которого всегда считал своим учителем и другом.
«Es muß sein...»*[Эпиграф Бетховена к его последнему квартету.] – «Так должно быть...»
Пусть свершится то, что должно свершиться. А свершить это могут только наши руки. «Так должно быть» равносильно «Я должен быть таким».
Судьба – это мы!
Нет, я нигде не ошибся. Ошибкой может быть вся моя жизнь, но это невозможно. И даже смерть не сможет доказать мне это...
Что-то холодное коснулось моей руки. Я поднял голову, увидел темноту, черное беззвездное небо и снежинки, медленно падающие сверху.








