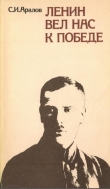Текст книги "Том 1. Голый год"
Автор книги: Борис Пильняк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Ночь. Тлеет тускло лучина, тлеют оконца Никоновой избы, спит деревня ночным сном, метет белыми снегами белая метель, небо мутно. В избе, в полумраке, кругом у лучины, в махорочном дыме, сидят мужики, с бородами от глаз (поблескивают глаза красными отсветами). Дымит махорка, красные огоньки тлеют в углах, ползают в дыму перекладины потолка. Душно, парно в бабьих телах на печи печным блохам. И Никон Борисыч говорит со строгостью величайшей:
– Камуне-есты! – и с энергическим жестом (блеснувшими в лучине глазами) – Мы за большевиков! за советы! чтобы по-нашему, по-россейски. Ходили под господами – и будя! По-россейски, по-нашему! Сами! – Одно дело, к примеру, мы ничево, – это дед Кононов. – Пущай. И фабричных мы – ничево, примем, пущай девок огуливают, к примеру, венчаются, которые с рукомеслом. А господ – того, кончать, к примеру…
Свадьба
Зима. Декабре. Святки.
Делянка. Деревья, закутанные инеем и снегом, взблескивают синими алмазами. В сумерках кричит последний снегирь, костяной трещоткой трещит сорока. И тишина. Свалены огромные сосны, и сучья лежат причудливыми коврами. Среди деревьев в синей мути, как сахарная бумага, ползет ночь. Мелкою, неспешной побежкой проскакивает заяц. Наверху, небо – синими среди вершин клочьями с белыми звездами. Кругом стоят, скрытые от неба, можжевельники и угрюмые елки, сцепившиеся и спутавшиеся тонкими своими прутьями. Ровно и жутко набегает лесной шум. Желтые поленницы безмолвны. Месяц, как уголь, поднимается над дальним концом делянки. И ночь. Небо низко, месяц красен. Лес стоит, точно тяжелые надолбы, скованные железом. Гудит ветер, и кажется, что это шумят ржавые засовы. Причудливо в лунной мути лежат срубленные ветви сваленных сосен, как гигантские ежи, щетинятся сумрачно ветвями. Ночь.
И тогда на дальнем конце делянки, в ежах сосен, в лунном свете завыл волк, и волки играют звериные свои святки, волчью свадьбу. Взвыла лениво и истомно сука, лизнули горячими языками снег кобели. Прибыльные косятся строго. Играют, прыгают, валятся в снег волки, в лунном свете, в морозе. А вожак все воет, воет, воет.
Ночь. И над деревней, в святках, в гаданьях, в рядах, в морозе, в поседках, перед свадьбами несется удалая проходная:
– Чи-ви-ли, ви-ли, ви-ли!
Каво хочешь бери!
– и грустным напевом, девишническим, во имя девичьего целомудрия, сквозь слезы, девичья:
Не чаяла матушка, как детей избыть,—
Сбыла меня матушка во един часок,
Во един часок в незнакомый домок.
Наказала матушка семь лет не бывати.
Не была у матушки ровно три года.
На четверто лето пташкой прилечу.
Сяду я у батюшки во зеленом саду,
Весь я сад у батюшки слезами залью,
На родную матушку тоску нагоню.
Ходит моя матушка по новым сеням,
Кличет своих детушек-соловьятушек: —
«Встаньте вы, детушки-соловьятушки,
А и какой-то у нас в саду жалобно поет.
Не моя ль погорькая с чужой стороны?»
Первый брат сказал: – пойду погляжу.
Второй брат сказал: – ружье заряжу.
Третий брат сказал: – пойду застрелю.
Меньшой брат сказал: – пойду застрелю-ю!—
На кровле – конек; на князьке – голубь; брачная простыня, наволочки и полотенца – расшиты цветами, травами, птицами; – и свадьба идет, как канон, расшитая песнями, ладом, веками и обыком.
Роспись. У светца старик, палит лучина, в красном углу Ульяна Макаровна – в белой одежде невеста, на столе самовар, угощенья. За столом – гости, Алексей Семеныч, со сватьями и сватами.
– Кушайте, гости дорогие, приезжие, – это старик строго.
– Кушайте, гости дорогие, приезжие, – это мать, со страхом и важностью.
– Кушайте, гости дорогие, Лексей Семеныч, – это Ульяна Макаровна, голосом прерывающимся.
– Не гуляла ли, Ульяна Макаровна, с другими парнями, не согрешила ли, не разбитое ли ваше блюдце?
– Нет, Лексей Семеныч… Непорочная я…
– А чем вы, родители любезные, награждаете дочь свою?
– А награждаем мы ее благословением родительским, – образ Казанской…
И свадьба, в каноне веков, ведется над Черными Речками, как литургия, – в соломенных избах, под навесами, на улице, над полями, среди лесов, в метели, в дни, в ночи: звенит песнями и бубенцами, бродит брагой, расписанная, разукрашенная, как на кровле конек, – в вечерах синих, как сахарная бумага, – Глава такая-то книги Обыков, стих первый и дальше.
Стих 1.
Когда взят заклад, осмотрен дом, сряжена ряда и прошел девишник, тогда привозят к жениху добро, которое выкупает жених, и сватьи убирают постель простынями и подушками из приданого в цветах и травах, и тогда условливаются о дне венчанья.
Стих 2.
Стих 3.
Ай, мать, моя мать!
Зачем меня женишь?
Я не лягу с женой спать,—
Куда ее денешь?!
– Пошли плясать, пятки отвалилися,
Девки-бабы хохотать – чуть не отелилися!
Ууу! у! Ааа! а! – пляшет изба как бабенка
Черная и задом и передом, визжит в небо.
– Знает ли молодая трубу открывать?
– Знает ли молодая снопы вязать?
– Знает ли соловей гнездо вить?
– Они люди панови, им денежки надобны. Сыр-каравай примите, денежку положите.
– Отмерить холстин двадцать аршин!
Ууу. Ааа. Ооо. Иии. В избе дохнуть нечем. В избе веселье. В избе крик, яства и питие, – а-иих! – и из избы под навес бегают подышать, пот согнать, с мыслями собраться, с силами.
Ночь. Звезды мигают лениво, в морозе. Под навесом, во мраке пахнет навозом, скотьим теплом. Тихо. Лишь иногда вздохнет скотина. И через каждые четверть часа, с фонарем, приходит старая Алешкина, молодого Алексея Семеныча, мать, – посмотреть корову. Корова лежит покорно, морду уткнув в солому: воды прошли еще вчера, вот-вот родит. Старуха смот-рит заботливо, качает головой укоризненно, крестит корову: – пора, пора! буренушка. И корова тужится. Старуха – по старинной примете – отворяет задние ворота, для вольного духа. За воротами пустой вишенник, вдали сарай и тропка к сараю – в сене, подернувшемся инеем. И из темноты говорит дед:
– Я шлежу, я шлежу – шмотрю. Жа Егор-Поликарпычем надоть, жа Егоркой-кривым-жнахарем. Томица корова, томица, тае, корова…
– Беги, дедушка, беги, касатик…
– Я што? Я шбегаю. А ты карауль. Морож.
Под навесом темно, тепло. Вздыхает корова глубоко и мычит. Старуха светит – торчат два копытца… Старуха крестится и шепчет… А дед трусит полем к лесу, к Егорке. Дед стар, дед знает, что если не сойдешь с проселка, не тронет волк, теперь уже огуленный и злой. Под навесом на соломе мычит и брыкается мокрый теленок. Фонарь горит неярко, освещает жерди, перегородки, кур под крышей, овец в закуте. На дворе тишина, покой, а изба гудит, поет, пляшет на все лады и переборы.
– И из книги Обыков:
Стих 13. И когда уезжают в ранние и расходятся гости и в избе остаются только мать молодого и сватьи, сватьи раздевают молодую и кладут ее на брачную постель и сами укладываются на печь. И к молодой жене приходит муж ее и ложится рядом с ней на постель, расшитую цветами и травами, и засеивает муж жену свою семенем своим, порвав ложесна ее. И это видят мать и сватьи и крестятся.
Стих 14. И на утро другого дня мать и сватьи выводят молодую жену на двор и обмывают ее теплой водой, и воду после омовения дают пить скоту своему: коровам, лошадям и овцам. И молодые едут в отводы, и им поют срамные песни.
– Делянка. Деревья закутаны инеем и снегом, неподвижны. Среди деревьев, в серой мути, потрескивая сучьями, бежит-трусит белый дедка, и в синей мути, вдалеке, лает волк. День бел и неподвижен. А к вечеру метель. И завтра метель. И воют в метели волки.
Вне триптиха, в конце
День бел и неподвижен. А к вечеру метель – злая, январская. Воют волки.
– Белый же дедко на печи, белый дедко рассказывает внучатам сказку о наливном яблочке: – «Играй, играй, дудочка! Потешай свет-батюшку, родимую мою матушку. Меня, бедную, загубили, во темном лесу убили за серебряное блюдечко, за наливное яблочко». Метель кидается ветряными полотнами, порошит трухой снежной, мутью, холодом. Тепло на печи, в сказке, в блохах, в парных телах: – «Пробуди меня, батюшка, от сна тяжкого, достань мне живой воды». «И пришел он в лес, разрыл землю на цветном бугорке и спрыснул тростинку живой водой, и очнулась от долгого сна дочь его красоты невиданной». – «Иван-царевич, зачем ты сжег мою лягушечью шкурку, – зачем?!»
– Лес стоит строго, как надолбы, и стервами бросается на него метель. Ночь. Не про лес ли и не про метели ли сложена быль-былина о том, как умерли богатыри? – Новые и новые метельные стервы бросаются на лесные надолбы, воют, визжат, кричат, ревут по-бабьи в злости, падают дохлые, а за ними еще мчатся стервы, не убывают, – прибывают, как головы змея – две за одну сеченую, а лес стоит как Илья-Муромец.—
Коломна,
Никола-на-Посадьях
25 дек. ст. ст. 1920 г.
Повести и рассказы
При дверях*
Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях.
Матф. Гл. 24, 33
Глава первая
В иные времена купчиха Ольга Николаевна Жмухина поставила под Сибриной Горой водокачку; водокачку зовут кратко – Ольга Николаевна. Воды Ольга Николаевна уже не подает, но гудит по-прежнему, в восемь, s два, в четыре, – гудит под Сибриной Горой, – а на другом конце города чиновник Иван Петрович Бекеш, просыпаясь утрами под гуд Ольги Николаевны, в полусне, чует ту прекрасную необыкновенную грусть-боль, которая уже одна говорит, как прекрасна человеческая жизнь, как прекрасны человеческие весны. Иван Петрович был однажды – два дня – на Волге, и ему кажется, что Ольга Николаевна гудит, как «Кавказ и Меркурий», – кто не знает, как сладчайшая грусть щемит веснами Волгу и как алой холодной весенней зарей хочется тогда обнять мир? Иван Петрович пьет морковный чай и идет на службу в финансовый свой отдел. Жизнь Ивана Петровича скудна.
Ольга Николаевна расположилась под Сибриной Горой. На Сибриной Горе, за валом, около кремлевских ворот, помещается клуб, – раньше был общественный, теперь коммунистический. В два гудит Ольга Николаевна, и в два приходит позавтракать доктор Андрей Андреевич Веральский. Раньше перед его приходом буфетчик говорил мальчику: «мальчик, освежи» – и мальчик освежал языком своим икорные бутерброды, прежде чем подать их доктору с лафитником водки. Теперь подают доктору пустой лафитник, и доктор уже сам наполняет его из жилетного кармана, из соответствующего пузырька. Но по-прежнему после завтрака доктор кричит через форточку и через улицу себе во двор:
– Илья, подавай! – и едет по пациентам, подпирая желудок своею тростью.
Рождество.
Прошел кто-то, некий сноб, и распорядился, чтобы все люди чувствовали торжество, прятали свою нищету, отказались на неделю от мелочей и мыслей, чтобы острее чувствовать – заштопанные – и нищету, и убожество, и тоску, и обыденщину. Впрочем, радость человеческая – всегда радость и всегда благословенна. Рождество.
В четыре, ради Рождества, Ольга Николаевна не гудит. Подлинная же Ольга Николаевна, купчиха Жмухина, умерла два Рождества назад, в испуге, когда реквизировали у нее копченых гусей и меха. – На стенах в клубе висят рукописные афиши. Буфетчик знает, что оркестр кавалерийского дивизиона в сочельник играет у военкома на балу, на рождении его жены, первый и четвертый дни – в клубе, – что под старое новогодье военспецы дивизиона устраивают загородную поездку. В сочельник все ходили к Иоанну Богослову, смотреть нового церковного старосту – командира дивизиона товарища Танатара; товарищ Танатар, красавец-кабардинец, в кожаной куртке и в сапогах со шпорами, продавал свечи и ходил с тарелкой. Люди режут кур, меняют рубашки на масло, без сахара на сахарной свекле пекут сладкие пироги, – и за неделю до праздников опустели аптеки.
И мороз, и метель.
В каменном доме Веральского, глухом, как ларь, на Сибриной Горе, жить можно в двух комнатах, ибо в остальных мороз и иней. И первый день, первую ночь Ольга слушала, как идет мороз: мороз подлинно шел, треща и звеня морозными алмазами, ночь была синей и колкой, как стекло, и луна казалась заброшенной случайно. Ольга в шубе, – как всегда в шубе, – стояла у форточки и слушала: шел мороз, треща то там, то тут, то в пустой гостиной, и шаги прохожих скрипели на много переулков. А утро пришло – восковое, воздух в морозном солнце был желтым, как воск, – желтым, как воск, было солнце, – как лицо мертвеца. Термометр упал до тридцати двух – Илья говорит, что с воздуха падают птицы. И утром промчал в шинели внакидку товарищ Танатар. А вечером звонил кто-то по телефону и сказал, что с Урала идет буран, и к ночи метель пришла. – О буране и о телефоне: знаете, предреченное скучно уже, – так говорят: – кто-то по телефону сказал, что идет буран с температурой минус тридцать. Ольге стало на несколько минут необыкновенно хорошо, – метельно, когда кружится, гудит и поет все… Все же, должно быть, есть ведьмовское наваждение, ибо – на что же похожи снежные эти метельные космы, как не на ведьмовские? Мчалась, плясала, выла, стонала, кричала метель – над полями, над городом, над Сибриной Горой, в пустой гостиной. Было бело, бело, бело. Снежные космы стали сплошными дыбами, в них опускались, поднимались, качались – дома, переулки, деревья. Над домом, в доме пело, стонало, кричало, и в доме можно было быть только в углу у печки. Ольга думала, что революция – как метель, и люди в ней, – как метеленки. Ольга думала, что она умерла от метелей. Ольга была в шубе и в валенках и – как много уже дней – жалась к печи, устав думать и устав читать.
И в метель Ольга читала дневник Ивана Петровича Бекеша.
Перед Ольгой было пять лампад. Диван стоял корытцем – сиденьем к печке, – диван был завален меховыми шубами. Поблескивали тускло изразцы. А за стеной, в пустых комнатах, гудела метель.
11 июля 1913 года.
«Бал… у Ольги Николаевны Жмухиной.
Разгримировавшись, отправились вместе с… Волынской в дом. Там пир горой. Старики и пожилые люди заняли две комнатки, а наши господа – отдельно изолированную от посторонних взглядов. Самуил Танатар посадил меня рядом, а Волынская напротив. Только что сел за стол и выпил рюмку простого – Волынская лезет с просьбой «не пить много»… Она дала мне слово провести вечер и идти ее провожать, только если я не напьюсь. Не прошло и полчаса – пошли вдурь, стали кричать: «подавай вина», начались песни, гром, гам, битье посуды… Организм начинает просить немного пить меньше… Сам начинаю уже пьянеть… Чтобы не напиться, подхожу к Волынской: – «Ну, как, домой иду провожать я вас или Танатар?» – она в это время села с ним и говорила насчет проводов. – «Не знаю, – и добавила: – Вы ведь, Ваня, пьяны»… Ответив на ее слова «хорошо!», сам пошел в другую комнату, там сидел доктор Веральский, отец моей любимой Оли; увидя меня, он посадил и молча угостил чем-то из стакана. Я назло Волынской выпил – и тут же опьянел. Меня товарищи отвели в сад, где угостили «сельтерской» и разошлись. Я уселся на лавку и долго плакал, зачем я так здорово напился, и вспоминал об Ольге Веральской, которую одну люблю… Зачем я так напился и отравил себе весь вечер, – все. Одному побыть долго не пришлось: – пришла Волынская, уселась около меня, обняла и начала читать нравоучительные морали: «не надо пить вина так много»… Не теряя своего правильного рассудка, говорю: – «я не виноват – во всем виновен Самуил, я слышал, как вы уговаривались идти провожать. И вот, услышав и доказав все, теперь я сижу вдрызг пьяный; что хотели мы совершить – нельзя теперь, потому что пьян»… Она крепко прижалась ко мне, обняла; я целовал ее руки, твердя: «простите меня, простите», и умолял ее, чтобы она не уходила от меня, прибавляя: «я знаю, что мы видимся в последний раз» – при этих словах я рвался от нее и от Танатара (последний находился все время с нами)… Она меня не пускала, но я убежал… Танатар поймал меня, усадил опять рядом с ней. Она обняла меня крепко и проговорила: – «Ваня, если ты меня любишь, то не сделаешь над собой самоубийства»… И, бурно схватив меня крепче в свои объятия, впилась губами в мои губы… и замерла. Столько было в этом поцелуе упоения, отчаяния, исступления, страсти и такая беззаветная любовь… минута проходила за минутой, и каждая была вечностью, и каждая была полна воспоминаниями (об Оле Веральской)… Да!., этим поцелуем она дала мне дивную иллюзию счастья, только иллюзию… но все же счастья!.. С уходом от меня Волынской (пошла танцевать), увидя Танатара, гнал его от себя, крича в лицо: «негодяй, подлец! Ты разбил мое счастье!»… При этих словах даже заплакал. «Я с вами больше не знаком»… Танатар помочил мне голову, угостил «сельтерской», после приема которой меня стошнило. Ребята решили воедино уложить меня спать. Но нет! черта лысого! я ни с кем не желал идти, кроме Волынской… Она проводила под руку (сам не мог) до постели… и собиралась уходить – но не тут-то было. Я держал ее и распевал:
Не уходи, побудь со мною,
Мне так отрадно и легко.
Перед глазами стояла она – я видел прекрасную пикантную фигуру – и видел густые, отливающие золотом, волосы (шиньона) – белые, как снег, зубы за яркими чувственными губами… и меня пронизывал электрический ток… Да. Счастье было так близко, так близко (досталось Танатару)… О, счастье!..»
12 июля 1913 года.
«Проснулся в первом часу дня и прямо из товарищей лицезрел Васю Федорова. Интересно, как он спал – голова на подушке, а все туловище на грязном полу. Заглянули в зеркало – и, боже! отскочили колбасами от него. Мой костюм весь измялся – в некоторых местах был обтошнен – был весь покрыт пухом от перины. Исполнив утренний обряд, пошли в сад. Там встретили Танатара – проходил мимо нас, молча, из глубины сада – скорее всего там спал. Вид его внушал ужас: перед обтошнен, зад и спина выпачканы землей, точно его таскали за ноги. После Танатара встретились со всеми девицами – они шли из беседки, где спали. Постепенно, но все собрались. И, боже, сколько было смеху! Первым рассказывал лунатик Федоров – не стоя на ногах, заявился в беседку, где только что улеглись девицы после бала, желает всем покойной ночи – берет первое попавшее платье, кофточку и шляпу, надевает и вздумал плясать. Один малознакомый малец весь ужин и половину бала просидел с хозяюшкой Ольгой Николаевной в фаэтоне на дворе, куда им носили официанты ужин и вино; все это сопровождалось поцелуями и препикантными разговорами. Девицы рассказывали: не успели раздеться все – вваливается вдрызг пьяный Самка Танатар и заявляет, что он пришел с ними спать. Девицы, конечно, все перепугались и попрятались под одеяла. На их умоления, просьбы и приказания очистить своим присутствием беседку – остался холоден и безобразен… Тогда девицы, не обращая внимания на стыд, вскочили с постели, ухватили его и вытолкали из беседки… Сейчас же за Танатаром пришел лунатик Федоров, за чаем было много смеху, потому что он был мил и не безобразничал, как Танатар». —
Счастье. Счастье и смех!..
Где-то от детства затерялась нянина сказка: метельную коему – снежную метельную воронку – рассечь острым ножом, – убьешь метелину внучку, метеленку: капнет капля холодной белой метеленкиной крови, и метеленкина кровь принесет счастье: – счастье…Надо верить – надо выйти в метель, надо подстеречь метельную метеленку, что кружится беззаботно в белом хороводе, – тогда будет счастье.
– Ну, а если ни во что не верить?
– Счастье! Счастье!
И Ольга знает: она – снежная эта метеленка. Это ее убили. – Мечется, мчится метель: о ней говорили вчера в телефон. На диване лежат меховые шубы. Горят пять лампад, поблескивают изразцы. Храпит доктор Веральский. Дневник упал на колени, слезы упали на колени… Это о нем. Голова упала на руки.
Ну, а если ни во что не верить? Если, как метеленку, – убили? – не печь же пироги без сахара на сахарной свекле, как советовал доктор, пусть это было бы радостно отцу… Нет – не убили, а – убил. Стихия не мыслит, в стихии нет зла. Жизнь Ольги Веральской была очень проста: гимназия, курсы, красный фронт, – где ни поймешь, ни осудишь, – и он, этот…Темная штабная теплушка, запах лошадей, тусклый фонарь на стене, голова лошади и – его голова, черная, как смола, черная борода, черные брови, черные глаза, красные губы, – боль, боль и ужас, ужас, ужас и мерзость. И все.
Дневник упал на колени, слезы упали на колени. Горят лампады, – глаза, как фонари в осенний дождь. Голова упала на руки – тяжело, больно.
Телефонный звонок.
– Да?
– Доктор Федоров.
– Ну, а если ни во что не верить? Нет, нельзя жить. Ведь одно мещанство. И когда – срок? Нет, сказок нет!
…Рождество.
…Пироги. Пироги с бараниной, на бараньем сале. Конфеты из тыквы. И – пельмени.
…Бал. – Бал-маскарад, на четвертый день.
– Ольга, Ольга Андреевна. Мне очень больно, я очень люблю вас… не надо грустить… Оленька… Что же, живем за счет всяческих углеводов. Нет, не то, Оленька, Оленька, надо бодриться. Очень пусто…
Танатар? – Не надо, не надо, не надо!
– Нет, Вася. Что же… Все, что со мной – это называется неврастенией, должно быть. И все же тоскливо быть в поношенном платье, в скошенных ботинках, стыдиться их и быть радостным от фунта баранины. Ничего нет.
Ольга склонила голову; гребенка Ольги сшита нитками очень тщательно, чтобы было незаметно, совсем незаметно и по-прежнему красиво.
Доктор Веральский, Андрей Андреевич, в валенках и в шубе, позевывая, вышел из своей комнаты и пролез к печке.
– Там, Оленька, я баранинышки привез. Поджарить, полакомиться бы – или на суп?.. Сказала бы Илье.
– Папа, Ольга Николаевна Жмухина умерла – отчего?..
– От разрыва сердца. Испугалась, когда делали обыск. Нашли под кроватью мертвой… А – что?
– Кто она такая была?
– Как человек?.. – Так, развратная бабенка… Но жертвовательница… Так скажи же – поджарить.
Доктор Андрей Андреевич зевнул сладко.