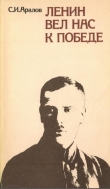Текст книги "Том 1. Голый год"
Автор книги: Борис Пильняк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Предпоследняя. Большевики (Триптих второй)
Ибо последние будут первыми.
Кожаные куртки
В доме Ордыниных, в исполкоме (не было на оконцах здесь гераней) – собирались наверху люди в кожаных куртках, большевики. Эти вот, в кожаных куртках, каждый в стать, кожаный красавец, каждый крепок, и кудри кольцом под фуражкой на затылок, у каждого крепко обтянуты скулы, складки у губ, движения у каждого утюжны. Из русской рыхлой, корявой народности – отбор. В кожаных куртках – не подмочишь. Так вот знаем, так вот хотим, так вот поставили – и баста. Петр Орешин, поэт, правду сказал: – «Или – воля голытьбе, или – в поле, на столбе!..». Архип Архипов днем сидел в исполкоме, бумаги писал, потом мотался по городу и заводу – по конференциям, по собраниям, по митингам. Бумаги писал, брови сдвигая (и была борода чуть-чуть всклокочена), перо держал топором. На собраниях говорил слова иностранные, выговаривал так: – константировать, энегрично, литефонограмма, фукцировать, буждет, – русское слово, могут – выговаривал: – магýть. В кожаной куртке, с бородой, как у Пугачева. – Смешно? – и еще смешнее: цросыпался Архип Архипов с зарею и от всех потихоньку: – книги зубрил, алгебру Киселева, экономическую географию Кистяковского, историю России XIX века (издания Гранат), «Капитал» Маркса, «Финансовую науку» Озерова, «Счетоведение» Вейцмана, самоучитель немецкого языка – и зубрил еще, составленный Гавкиным, маленький словарик иностранных слов, вошедших в русский язык
Кожаные куртки.
Большевики. Большевики? – Да. Так. – Вот, что такое большевики.
Белые ушли в марте. И в первые же дни марта приехала из Москвы экспедиция, чтобы ознакомиться, что осталось от заводов после белых и шквалов. В экспедиции были представители – и ОТК, и ХМУ, и Отдела Металлов, и Гомзы, и Цепти, и Цецекапе, и Промбюро, и РКИ, и ВЦК, и проч., и проч., все спецы, – на собрании в областном городе было установлено, как дважды два, что положение заводов более чем катастрофично, что нет ни сырья, ни инструмента, ни рабочих рук, ни топлива, – и заводы пустить нельзя. Нельзя. Я, автор, был участником этой экспедиции, начальником экспедиции был ц-х К., по отчеству Лукич. Когда по поезду был дан приказ готовиться к отъезду (а были в поезде мы отрядом с винтовками), я, автор, думал, что мы поедем обратно в Москву, раз ничего нельзя сделать. Но мы поехали – на заводы, ибо нет такого, чего нельзя сделать, – ибо нельзя не сделать. Поехали, потому что не-спец большевик К., Лукич, очень просто рассудил, что если бы было сделано, тогда и не надо делать, а руки – все сделают.
Большевики.
Кожаные куртки.
«Энегрично фукцировать». Вот что такое большевики. И – черт с вами со всеми, – слышите ли вы, лимонад кисло-сладкий!?
Шахта № 3, на Таежевском заводе. На глубине 320, т. е. три четверти версты под землю, палили бурки: бурильщики бурили, по пояс в воде, как кипяток – в стволе пласты, бурили бурки; запальщики заряжали бурки динамитом и палили бурки в глубине 320, в воде, как кипяток, по грудь. Надо было запальщикам нащупать в воде шпур, бурку, запихнуть, нырнув, патроны, подложить под патрон пистон с гремучею ртутью и с гуттаперчевым фитилем – зажечь эти патроны, пятнадцать, двадцать. Сигнал кверху:
– Готовы?
Сигнал вниз:
– Готовы.
Сигнал кверху:
– Палю.
Сигнал вниз:
– Пали с богом!
Один за другим вспыхивают фитили, один за другим шипят и свищут синие огоньки над водою и ныряют в гуттаперчевую трубку, под воду. Последний огонек синий свистнул и нырнул.—
Скачок в бадью, сигнал кверху:
– Качай!
– Есть!
И бадья в дожде, во мраке, в свисте, семь сажен в секунду (предел, чтобы не умереть) мчит наверх, от смерти, к свету. И внизу рвет динамит: – первый, второй, третий.
Шахта № 3, глубина 320, бурки палили двое.
– Готовы?
– Готовы!
– Палю!
– Пали с богом!
Один кончил раньше палить, влез в бадью. Второй зажег последний фитиль (зашипели, заныряли синие огоньки), схватился за канат.
– Качай веселей!
То ли оступился второй, то ли машинист поспешил, – в дожде, во мраке, в свисте, взвилась бадья, – второй остался внизу, и последний огонек нырнул в воду.
И первый ударил сигнал кверху:
– Стоп! Качай книзу!
Бадья заметалась во мраке, повисла в дожде.
– Качай книзу!
И тогда второй ударил сигнал:
– Качай кверху! – ибо зачем втерая смерть?
– Качай книзу! – это первый.
– Качай кверху! – это второй.
И бадья заметалась во мраке. Каждый жертвовал жизнью – за брата, вот тут, в глубине 320, где смерть и похороны одновременны.
Машинист, должно быть, понял, что идет в шахте. Со скоростью в смерть бросил механик бадью книзу, и со скоростью в смерть вынес механик бадью наружу, – под грохот динамита внизу, в смерти. И наверху – всем троим, механику и запальщикам, первому и второму: – захотелось – выпить! Так вот, потому, что тогда не было никакой революции, – где же было «энегрично фукцировать»?
Кожаные куртки. Большевики.
В доме Ордыниных, вечером, в общежитии, разувшись и пальцы после сапог руками сладко размяв, на кровать к лампочке забравшись как-то на четвереньках, Егор Собачкин долго брошюрку читал и обратился к соседу, в «Известиях» зарывшемуся;
– А как думашь, товарищ Макаров, жизень людскую бытие определяеть или идея? Ведь так подумать, и в идее-то бытие?
Китай-Город
Ночью в Москве, в Китай-Городе, за китайской стеной, в каменных закоулках, в подворотнях, в газовых фонарях – каменная пустыня. Днем Китай-Город за китайской стеной ворочался миллионом людей в котелках и всяческими миллионами вещей, капиталов, сметок, страданий, жизней – весь в котелке, сплошная Европа с портфелем. А ночью из каменных закоулков и с подворий исчезали котелки, приходили безлюдье и безмолвье, рыскали собаки, и матово горели фонари среди камней, и из Зарядья и в Зарядье шли люди, редкие, как собаки. И тогда в этой пустыне выползал из подворий, из подворотен – тот: Китай без котелка, Небесная империя, что лежит где-то на востоке за Великой Каменной стеной и смотрит на мир раскосыми глазами, похожими на пуговицы русских солдатских шинелей. Это один Китай-Город.
И второй.
В Нижнем-Новгороде, в Канавине, за Макарьем, где по Макарью величайшей задницей та же рассаживалась московская дневная Ильинка, в ноябре, после сентябрьских миллионов пудов, бочек, штук, аршин, четвертей товаров, смененных на рубли, франки, марки, стерлинги и прочее, – после октябрьского разгула, под занавес, разлившегося Волгой вин, икры, «Венеции», «европейских», «татарских», «китайских» и литрами сперматозоидов, – в ноябре в Канавине, в снегу, из заколоченных рядов, из безлюдья, смотрел солдатскими пуговицами вместо глаз – тот: ночной, московский и за каменной стеной сокрытый – Китай. Безмолвие. Неразгадка. Без котелка. Солдатские пуговицы вместо глаз.
Тот – московский – ночами, от вечера до утра. Этот – зимами, от ноября до марта. В марте волжские воды зальют Канавино и унесут Китай на Каспий.
И третий Китай-Город.
Вот. Лощина, сосны, снег, там дальше – каменные горы, свинцовое небо, свинцовый ветер. Снег рыхл, и третий день дуют ветры: – примета знает, что ветер ест снег. Март. Не дымят трубы. Молчит домна. Молчат цеха, в цехах снег и ржа. Стальная тишина. И из прокопченных цехов, от мертвых машин в рже, – глядит: Китай, усмехается, как могут усмехаться солдатские пуговицы. Молчат фрезеры и аяксы. Гидравлический пресс не стонет своим – нач-эвак! нач-эвак! – В прокатном, на проржавевшей болванке, лежит рыжий снег – разбиты стекла вверху. Турбинная не горит ночами, в котельном свистит ветер и мрак. Из литейной, у которой снарядом отъело угол, от мартена, из холодных топок – выглядывают степенно солдатские пуговицы, ушастые, без котелка.
– Там, за тысячу верст, – в Москве, огромный жернов войны и революции смолол Ильинку, и Китай выполз с Ильинки пополз… —
– Куда?!
– Дополз до Таежева?!
– Врешь! Вре-ешь! Врее-оошь!
– Белые ушли в марте, и заводу март.
Белые ушли с артиллерийским боем, все разбежались по лесам в страхе от белой чумы, лишь Красная армия, в драных шинеленках, мелкими кучками – и тысячами – перла и перла вперед. Долго после белых в механическо-сборном в ветре на кране висел человек, зацепленный за ребра, а в шахтах по горло стояла вода, и посиневшие плавали трупы. – Мартовский ветер ревел метелями и ел снег, из мартовского снега по лощинам вокруг завода и в лесах кругом – из съеденного ветром снега – торчали человеческие руки, ноги, спины – изъеденные не ветром уже, а собаками и волками. В мартовском ветре – сиротливо в сущности – трещали пулеметы, и, точно старик хлопушкой бьет мух по стенам, ахали пушки…
– Дополз до Таежева?!
– Врешь! Вре-ешь! Врее-оошь!..
Без дураков. – Завод возжил удивительно просто, в силу экономической необходимости. Ушли белые, и из лесов после страха стали собираться рабочие, и рабочим нечего было есть. Вот и все. Власть менялась восемь раз, – у рабочих осталась одна мать – машина. На заводе не было власти, – рабочие кооперировались артелью. На заводе не было топлива, шахты были затоплены: за заводом был конный завод Ордыниных, под ипподромом шли пласты угля, – без нарядов стали рыть здесь уголь, коксовать времени не было, и чугунное литье пустили на антраците. Машины были погажены, – первой пустили инструментальную. Не было смет на деньги, чем платить рабочим, – и решили на каждого рабочего и мастера отпускать в месяц по пуду болванки, чтобы делать плуги, топоры, косы – для товарообмена. Завод – самовозродился, самовозжил. – Это ли не поэма, стократ величавее воскресения Лазаря?! – Архип Архипов и инженерик такой, взлохмаченный, в овчинной куртке и треухе, с поговоркой этакой – та-ра-рам (революция – тара-рам, скандал – та-ра-рам, белые приходили – та-ра-рам, зубы болят – та-ра-рам, восемь властей менялось – восемь тарарамов: первый тарарам, второй, третий…), – Архип Архипов и инженерик этот метались по заводу, в цеха, на шахты, а в конторе вечером грандиознейший проект писали – вырабатывали калибры и допуски нормализации. Веял по ветру черный дым мартена, и полыхала ночами, в завалы, домна. От цехов пошел скрежет железа, умерла стальная тишина. – Магýть «энегрично фукцировать»!
По списку работающих заводов, имевшемуся у экспедиции по ознакомлению с тяжелой нашей индустрией, Таежево не значилось. Экспедиция заехала в Таежево случайно, – проезжала мимо ночью, не собиралась остановиться и увидела горящую домну, иостановилась, и нашла Таежево – одним из единственных…
– Там, за тысячу верст, в Москве, огромный жернов революции смолол Ильинку, и Китай выполз с Ильинки, пополз…
– Куда?!
– Дополз до Таежева?!
– Врешь! Вре-ошь! Врее-ооошь!
Днем в Москве, в Китай-Городе, жонглировал котелок, во фраке и с портфелем – и ночью его сменял: Китай, Небесная империя, что лежит за Великой Каменной стеной, без котелка, с пуговицами глаз. – Так что же, – ужели Китай теперь сменит себя на котелок во фраке и с портфелем?! – не третий ли идет на смену, тот, что —
– Могéт энегрично фукцировать!
Метель. Март. – Ах, какая метель, когда ветер ест снег! Шоояя, шо-ояя, шоооояя!.. Гвииу, гваау, гааау… гвиииуу, гвииииууу… Гу-ву-зз!.. Гу-ву-зз!.. Гла-вбум!.. Гла-вбумм!.. Шоояя, гви-иуу, гаауу! Гла-вбумм!! Гу-вуз!! Ах, какая метель! Как метельно!.. Как – хо-ро-шо!..
Часть третья триптиха (самая светлая).
Над обрывом, над Вологою – Кремль, с красными его развалившимися, громоздкими стенами, кои поросли бузиной, репьями и крапивой. Последние дома, поставленные в Кремле при Николае I, каменные, большие, многооконные, белые и желтые, – хмуры и величавы своим старобытьем. Улицы Кремля замощены огромными булыжинами. Улицы идут кривые, с тупиками и закоулками, и на углах – церкви. Испепеляли Кремль многие знои, и многие годы – голые годы – исходили булыжины мостовых.
Россия. Революция. Совы кричат: по-человечьи жутко, по-звериному радостно. Сумерки. Осень. В Кремле, в башнях, много сов. Сумерки в осень закрывают золотую землю, как вьюшка печную трубу. Ветер гудит в Кремле, в закоулках: гу-вууу-зии-маа!.. И шумит крышное железо старых домов: – гла-вбумм! По пустым булыжинам в сером ветре идет человек в кожаной куртке. Ветер сметает желтые листья. Человек проходит Зарядьем, где разрушены торговые ряды, выходит за кремлевский вал, где разрушена артиллерией белых стена, и там – на другом бугре – стоит больница в стройных зеленых елочках, как святые у Нестерова. Человек этот – Архип Иванович Архипов. Ветер осенний – все шарит, все раздувает, и кашель от ветра осеннего. А в больнице в квартире врача Наталии Евграфовны – бревенчатые стены, пахнет смолой от стен, пол в линолеуме, широкие, по-новому, большие окна, и по линолеуму идет мутный свет дня, огромных филодендронов, стола в бумагах, белых изразцов печи. Мутен день, мутны сумерки, а в комнате светло, как в комнате, и в первый раз нынче горит голландка.
– Садитесь, Архипов, сюда, на диван.
– Ничего, спасибо. Я здесь вот, у печки.
Борода у Архипова, как у Пугачева, черная, обильная, взлохмаченная, – и черны глаза.
– Слушайте, Архипов, – вы никогда не говорите об отце. Мне хочется говорить с вами об этом… Вы ведь – сын.
– Да. И мне. Трудно вырывать старое коренье. И от корней этих очень больно. Но это пройти должно. Разум говорит, так надо было умирать спозаранку, – сталоть, чего же мучиться? Жить надо, работать.
– Но ведь вы один – один навсегда!
– Да. Что же? Я всегда был один – я со всеми, с товарищами. Я верно только освобождаюсь – от глупостей.
Наталья Евграфовна встала от стола, встала рядом с Архиповым к печке.
– Говорите правду. Вам не страшно?
– Как же не страшно? – страшно, тошно. Только страдать – не надо. Умер старик, как надо. Я все думал в одну точку, ну, и не страдаю. Так надо. – Архипов обеими своими руками взял руку Наталии Евграфовны. – Вы, Наталия Евграфовна, лучше о себе расскажите. Вот что.
– Мне нечего рассказывать. Что же?..
– Ну, тогда я расскажу. Я все время заводом занят, в исполкоме, в революции. А когда отец умер, о себе подумал. Работать надо, – ну и работал. А то вот еще что. Я к вам пришел предложение вам сделать – руки. Парнишкой я влюблялся, ну, грешил с женщинами. А потом прошло. Я так думаю, детишки у нас будут. Работаем вместе, заодно. И ребятенок вырастим, как надо. Хочется мне детишек разумных, а вы – поученее меня. Ну, да и я подучиваюсь. А оба мы молодые, здоровые. – Архипов склонил голову, Наталья Евграфовна не взяла руки своей из его рук.
– Да, хорошо, – она ответила не сразу. – Но я не девушка… Дети, – да, единственное. Я не люблю вас так, – ну, знаете…
Архипов поднял голову, взглянул в глаза Наталии Евграфовны, – были они прозрачны и покойны. Архипов поднес неумело руку Наталии Евграфовны к своим губам и поцеловал тихо.
– Ну, вот. А что не девушка, – человека надо бы.
– Это все холодно будет, неуютно, Архипов.
– Как? неуютно? – не понимаю я этого слова.
Вьюшка небесная прикрыла землю, окна слились со стенами, в печи уголь подернулся пеплом, – надо печь закрывать. В столовой, где тоже бревенчатые стены, на столе в белой скатерти сверкает холодно никелем кофейник, поднос, подстаканники. Архипов пьет с блюдечка, с пятерен, под кожаной курткой – жилетка, и косоворотка под жилеткой. Наталья Евграфовна в красной вязаной кофточке и в черной юбке, и волосы венцом – косами. Линолеум поблескивает холодно, – за окнами мутная луна в облаках, ночь, – и отражаются мутным холодом в линолеуме луна, стены, стол вверх ногами, мрак открытой двери и темная комната. На столе же в столовой «министерская» лампа.
– Человек нужен, чистота, разум!
Лунный свет в кабинете, и полосы лунные легли на линолеум. Архипов случайно коснулся плеча Натальи Евграфовны, лунный свет упал на Наталью Евграфовну, глаза исчезли во мраке, – нежно, женски-мягко прильнула Наталья Евграфовна к Архипову, прошептала чуть слышно:
– Милый, единственный, мой…
Архипов не нашел, что ответить – в радости.
– Понимаете – жить, касатынька!
Совы кричат: по-человечески жутко, по-звериному радостно. «Ведь человек не животное, чтобы любить как животное». Вьюшка небесная прикрыла землю. Ночь. Кремль. Кричат совы. Ветер кричит в закоулках: гу-ву-зи-маа!.. Каменные, большие, многооконные, белые и желтые дома хмуры в ночи и величавы своим старобытьем. Улицы идут кривые, с тупиками и закоулками, и улицы обулыжены, и на углах церкви. Голые годы. Мрак. Ночь. Осень. Луна ползет медленно, зеленая.
– Милый, единственный мой!
Наталья стоит у окна в кабинете, холодно поблескивает линолеум, филодендроны разрослись во мраке. На окно падает лунный свет. Сегодня первый раз топили печь – опотели окна. Лунный призрачный свет дробится и отражается – в слезинках на стекле и в слезинках на глазах.
– Не любить – и любить. Ах, и будет уют, и будут дети, и – труд, труд!.. Милый, единственный мой! Не будет лжи и боли.
В доме Ордыниных, в общежитии, разувшись и пальцы после сапог сладко размяв, на кровати к лампочке забравшись как-то на четвереньках, Егор Собачкин долго брошюру читал и, кончив, сказал рассудительно:
– А правда и радость все-таки восторжествують! Не могёт как иначе.
Архипов вошел, молча прошел к себе в комнату, – в словарике иностранных слов, вошедших в русский язык, составленном Гавкиным, – слово уют не было помещено.
– Милый, единственный, мой!
Глава VII(Последняя, без названия)
Россия.
Революция.
Метель.
Заключение
Триптих последний (материал, в сущности)
Наговоры
К октябрю волчье прибылье не меньше уже хорошей собаки. Тишина. Треснул сук. Из оврага к порубке, где днем парни с Черных Речек пилили повинность, потянуло прелью, грибами, осенним спиртным. И это осеннее спиртное верно сказало, что дождям конец: будет неделю осень изливать золото, а потом, в заморозках, падет снег. Бабьим летом, когда черствеющая земля пахнет, как спирт, едет над полями Добрыня-Златопояс-Никитич, – днем блестят его латы киноварью осин, золотом берез, синью небесной (синью, крепкою, как спирт), а ночью, потускнев, латы его – как вороненая сталь, поржавевшая лесами, посыревшая туманами и все же черствая, четкая, гулкая первыми льдинками, блестящая звездами спаек. Заморозок, и все же из оврага к порубке тянет последней влагой и последним теплом. К октябрю волчье прибылье уходит от матерых, и прибылые ходят одни. Волк вышел на просеку, далеко обошел дым от тлеющего костра, постоял меж сваленных берез и потек по косяку к полям, где зайцы топтали озимые. В черной ночи и в черной тишине не видно было за суходолами Черных Речек. На Черных Речках, в овинах, девки заорали наборную и стихли сразу, послав осенним полям и лесу визгливо-грустное. Из леса, оврагом, к Николе, к Егорке шла Арина. Волк повстречался с ней у опушки и увильнул к кустам. Арина, надо быть, видела волка – вспыхнула пара зеленых огней в кустах, – Арина не свернула, не заспешила… В избе у Егорки, черной, запахло по-осеннему, лекарными травами. Арина вздула жар в чугунке, зажгла свечу, литую из воска, с Егоровой пасеки, – осветилась изба, ладная, большая, с лавками по всем стенам, с расписной печкой, с печи торчали пятки кривого Егорки-знахаря. Прокричал полночь петух. Кошки спрыгнули на пол. Егорка повернулся, свесил белую свою лохматую голову с печи; прокричал спросонья хрипло:
– Пришла? – Аа, пришла, ведьма. Не открутиссии, не отворотиссии, будешь моею, заколдую, ведьма.
– Ну-к что ж, и пришла. И не пойду никогда от тебя, от косого черта. И замучаю я тебя, и кровь я твою выпью, ведьмачкую. В смерть тебя, черта косого, вгоню.
В сенях гудели встревоженно пчелы, не убранные еще. Тени от свечного света побежали и застыли в углах. Снова прокричал петух. Арина села на лавку, кошки пошли по полу, выгибая спину, вскочили на колени Арине. Егорка с печи соскочил – сверкнули голые ступни с пальцами, как можжевеловое корье.
– Пришла?! – А-а, пришла, ведьма! Кровь выпью…
– Ну-к что ж, и пришла, кривой черт. Спутал, опоил.
– Сапоги снимай, на печь полезай! Раздевайси!.. Егорка у ног Арины склонился, сапоги потянул, юбки поднял, и не поправила в бесстыдстве юбок своих Арина.
– Опоил, черт косоглазый! И сам опоился. Трав принесла, в сенях положила.
– Опоилси, опоилси!.. Никуда не уйдешь, моя будешь, никуда не уйдешь, не уйдешь, девка…
Залаяли под навесом собаки: – надо быть, мимо прошел волк. И опять прокричал петух, третьи петухи. Ночь шла в полночи.
К заморозкам на Черных Речках поуправились с полями, попрятались по избам, – мужичья жизнь замирает вместе с землей. Бабы домовничали на гумнах, и девки после летней страды, перед свадьбами огуливались, не уходили вечерами с гумен, ночевали в овинах, гурьбами топили земляные овинные дымные печи, орали до петухов ядреные свои сборные, – стало быть, и парни, что днем ходили пилить дрова, вечерами тискались у овинов. Шел над полями Добрыня, метал пригоршнями по ледяной, осенней небесной тверди белые звезды (падали иные из них на черную землю), лежала земля уставшая, безмолвная, – как вороненая сталь лат Добрыни, поржавели стали лесами, звенят застежками льдинок, белеют плесенью последних туманов. Вечером девки в овине орали наборные, ребята пришли с тальянкой, девки овин заперли, ребята в овин вломились, девки завизжали, бросились по углам, забились в солому, ребята догнали, ловили, мяли, целовали, обнимали. Буро из овинной печной ямы поблескивала зола, слепил дым, солома шуршала по-зимнему.
Чи-ви-ли, ви-ли, ви-ли,—
Каво хочешь бери! —
заиграла девка в углу походную, сдаваясь. Пошли в проходные, становились степенно в круг. Пиликнула гармонь. Девки фыркали в строгости.
Журавли вы длинноноги,
Не нашли пути дороги! —
заиграли девки.
Кроме дыма запахло взбитой соломой, потом, овчиной. Первые на деревне прокричали петухи. Упала над землею звезда.
Алексей Семенов Князьков-Кононов догнал Ульянку Кононову в черном углу на соломе, где пахло соломой, рожью и мышами. Ульянка упала, пряча губы. Алексей ступил коленом ей на живот, отнимая руки, упал, ткнулись руки его в грудь Ульянки, голова Ульянки запрокинулась, – губы были мокры, солены, дыханье горячо, запахло потом горько и сладко, и пьяно.
Чи-ви-ли, ви-ли, ви-ли!.,
Златопояс Добрыня разметал по небесному льду белые звезды, в безмолвии полегла уставшая земля, спала деревня, – над рекой, с лесом по правую руку, с полями слева и на задах, – приземистая, в избах, глядящих долу слепыми, в бельмах, своими оконцами, причесанных соломенными крышами по-стариковски. Парни заночевали в соседнем, рядом с девьим, овине. Уже после вторых петухов вышел Алексей из овина. Меркнущей свечой светил над крышей месяц, земля посолилась инеем, хрустнул под ногами ледок, деревья стояли, как костяные, и чуть приметно полз белый среди них туман. Девий овин стоял рядом, немотствовал, поблескивала солома на гумне. И сейчас же за Алексеем скрипнула воротина у девьего овина, и в лунный свет вышла Ульянка. Алексей стоял во мраке. Ульянка осмотрелась покойно кругом, расставила ноги, стала мочиться, – в осенней колкой тишине четко был слышен хруст падающей струи, – провела рукой через юбку по причинному своему месту, шагнула шаг раскорякой и ушла в овин. Запели на дворах петухи – один, два, много. Первый раз почуял в этот вечер Алешка бабу, без игры.
И за два дня до Покрова, ночью, выпал первый – на несколько часов – снег. Земля встретила утро зимою, багряной зарей. Но вместе со снегом пришло тепло, и день посерел, как старуха, был ветрен, бездомен; вернулась осень. В этот день перед Покровом на Черных Речках у речки топили бани. На рассвете девки, босиком по снегу, с подоткнутыми подолами таскали воду, топили весь день курные печи. В избах старшие разводили золу, собирали рубашки, и к сумеркам семьями пошли париться – старики, мужики, деверья, сыновья, ребята, матери, жены, снохи, девки, дети. В банях не было труб, в дыму, в паре, в красных печных отсветах, в тесноте толкались белые человеческие тела, мужские и женские, мылись одним и тем же щелоком, спины тер всем большак, и окупываться бегали все на реку, в сырой вечерней изморози, в холодном ветре.
И Алешка Князьков в этот день на рассвете ходил к Николе, к Егорке-кривому – знахарю. Лес на рассвете был безмолвен, туманен, страшен, и колдун Егорка нашептывал страшно: «В бане, в бане, говорю, в бане!..» Вечер пришел сырой и холодный, ветер свистел на все лады и переборы. Вечером Алешка караулил у Кононовой-Гнедых бани. Выскочила очумевшая молодая, нагишом, с распущенными косами, бросилась к реке и оттуда побежала на гору к избе, белое тело ее растворилось во мраке. Выходил два раза старик, кряхтя окупывался в речке и вновь уходил париться. Мать под мышками таскала на реку ребятишек. Ульянка в бане задержалась одна, убирала баню. Алексей пробрался в сенце и зашептал, в великом страхе, нашептанное Егором:
– Стану я, Лексей, на запад хребтом, на восток лицом, позрю, посмотрю, – со ясна неба летит огнева стрела. Той стреле помолюсь, той стреле покорюсь, вопрошу ее: – Куда послана, огнева стрела? – «Во темны леса, во зыбучи болота, во сыро корье». – Гой еси ты, огнева стрела! полетай ты куда я пошлю: полетай ты ко Ульяне, ко Кононовой, ударь ее в ретиво сердце, в черну печень, во горячу кровь, в станову жилу, во сахарны уста, чтобы она тосковала, горевала обо мне при солнце, при утренней заре, при младом месяце, при ветре-холоде, на убылых днях и на прибылых днях, чтобы она целовала меня, Лексея Семенова, обнимала, блуд со мной творила! Мои слова полны и наговорны, как велико море-окиян, крепки и лепки, крепчая и лепчая клею-карлюкю, твержая и плотняя булату и камню. Во веки веков. Аминь.
Ульянка подтирала пол, проворила, играли легко мышцы на крепком ее крестце. Вдруг ударило угаром в голову, – заговор ли отуманил? – отворила дверь, прислонилась к косяку истомно и покорно, дышала холодным воздухом, улыбнулась слабо, потянулась, – сладко шумело в ушах, обдувал отдохновенный холодный ветер. С горы крикнула мать;
– Ульянкя-а! Скореи-ча! Коров доить!
– Си-ча-ас! – заспешила, хлопнула раза три тряпкой по полу, плеснула в угли, накинула рубашку и, поднимаясь на гору, запела озорно:
Не пойду в Озерки замуж,
Не буду срамица-а!
Не поеду борновать —
Не буду пылица-а!..
В темном хлеве под навесом тепло пахло пометом и потом коровьим. Корова стояла покорно. Ульянка подсела на корточках, жикало в подойник молоко, соски у коровы были мягки, корова вздохнула глубоко…
И на Покров у обедни в темной церкви, среди тонконогих и темноликих святых, вторила Ульянка несложную свою девичью молитву:
– Мати пресвятая богородица, покрой землю снежком, а меня женишком!
И снег в тот год выпал рано, зима стала еще до Казанской.
Разговоры
Мели ветры белыми метелями, застилались поля белыми порошами, сугробами, задымили сизыми дымами избы. Уже давно отошла та весна, когда с молебном, с семьями на телегах, на три дня ездили мужики громить барские усадьбы, – той весной отполыхали помещичьи гнезда красными петухами, дотла, навсегда. Потом исчезли керосин, спички, чай, сахар, соль, товары, городская обужа-одежа, – в предсмертной судороге задергались поезда; замирая в предсмертной агонии, заплясали пестрые деньги, – на станцию проселок порос подорожником.
Снег падал два дня, ударил морозец, лес поседел, побелели поля, затрещали сороки, – с морозами, ветрами, снегом полысел Златопояс Добрыня, – первопуток лег легкий, ладный. Той зимой усердно махало поветрие черным платом по избам, сыпало – тифом, оспой, знобами, – и с первопутком приехали киржаки, привезли гроба. День был к сумеркам, серый, гроба были сосновые, всех размеров, лежали в розвальнях, горами, один на другом. Киржаков на Черных Речках увидели еще за околицей, у околицы встретили бабы. Гроба раскупили во един час. Киржак отмеривал баб саженью, давал четверть походу. Первым к торгу подступился старик Кононов-Князьков.
– Почем, к примеру, цена-т-от? – сказал он. – Гробы, к примеру, покупать надо-ть… надо-ть покупать, – в городу теперь недостача. Мне надо-ть, старухе, и так, к примеру… кому придется.
Тогда старика Кононова перебила Никонова баба, замахала локтями, локтями заговорила:
– Ну, цена-то, цена-то кака?
– Цена – известно, мы на картофь, – ответил киржак.
– Знамо, не на деньги. Я три гроба возьму. А то помрешь – забота. Все покойней.
– Одно дело, к примеру, покойней, – перебил Кононов. – Ты погоди, бабочка, я постарее… Ну-ка, милок, отмерь меня, – какой я росточком вышел, отмерь. Помирать – все у бога за пазухой, к примеру, ежели помирать.
Бабы бегали за картошкой, киржак отмеривал, парнишки взваливали гроба на головы – растаскивали с гордостью по избам, долго в избах рассматривали гробяную доброту, примеривались ко гробам и ставили их потом в сенцах на видное место, – у кого два, у кого три. Посинели по-зимнему – мертво, в морозе – снега, засветились избы лучинами, на задах заскрипели ворота и бабьи шаги – шаги к сараям за сеном скотине на ночь. Никонова баба позвала киржаков к себе. Со степенностью, без прибауток, продавали гроба киржаки, – в избе, убрав лошадей, за чаем, разувшись, распоясавшись – оказались гостями веселыми, прибаутошниками, на все руки. Никон Борисыч, хозяин, сельский председатель, с бородою от глаз, сидел у светца, щипал лучины, вставлял их одну за другой в рогулину над корытом, угощал гостей любезных и толковал:
– Теперь, все-таки, сами, одни… Умрешь, а гроб – вон-от, на охоту ехать, собак не кормить… Бунт, все-таки, время смутная. Советская власть – городам, значит, крышка… Вот за солью собираются наши на Соль-Вычегодскую…
Баба Никонова, в плисовой безрукавке и в паневе лилового горошка, рогатая по старине, с грудями, выпирающими, как вымя, да и с лицом по-коровьи дебелым, сидела за станом, хлопала-ткала. Чадно светила лучина, освещала мужичьи бородатые лица, кругом в полумраке и дыме расставленные (поблескивали глаза красными отсветами лучинного красного света). На печи, десяток друг на друге, бабы лежали. В углу, за печкой, в закуте лениво мекал теленок. Новые приходили – киржаков посмотреть, уходили бывшие, – дверь клубилась паром, несла холодом.
– Чу-гу-унка! – говорит в презрении величайшем Никон Борисыч. – Чу-гу-унка, сё-таки! Хуч бы ей издохнуть!
– Одна ваторга, – ответил Климанов.
– Нам она, к примеру, не нужна, – подтвердил дед Кононов. – Господам, к примеру, нужна ездить по начальству, либо в гости. А мы сами, к примеру, без буржуев, значит.
– Чу-гу-унка! – сказал Никон Борисыч. – Чу-гу-унка, сё-таки!.. Жили без ей – и проживали. А – тоо!.. Однова в году в город ездил, сё-таки, день на станции караулил, раз пять котомку развязывал: – «Какое твое продовольствие, а то прикладом!..» Ну, влезли на крышу, поехали… Стоп! – «Какой такой твой мандат, показывай!» – што я, баба што ли?! – Показал бланток. Рассердилси. Так и так вашу мать, говорю, ребятов везу в Красную армию, буржуев бить, сё-таки. Я, говорю, – мы за большевиков стоим, за советы, а вы, должно, камунесты?.. Пошла чесать… сё-таки обидно…