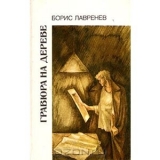
Текст книги "Гравюра на дереве"
Автор книги: Борис Лавренев
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
12
Шамурин молча, низко нагнув голову, поклонился. Кудрин, не ответив на поклон, смотрел на него недоумело, не понимая.
По щеке художника скользнула легкая судорога, он улыбнулся как-то испуганно-жалко и еще раз поклонился, прижав руки к груди.
– Я понимаю вас,– сказал он тихо, – после нашей предыдущей встречи вам должно быть непонятно, зачем, какими целями я могу осмеливаться явиться к вам?
Голос у него был глуховато-печальный, речь та же, старинно-книжная, с особенными оборотами, подчеркивающими изысканную вежливость.
– Нет... что же,– ответил оправившийся от неожиданности Кудрин. – Правда, я удивлен, но кто старое помянет – тому глаз вон.
– Благодарю вас, – снова поклонился Шамурин.– Примите же мое сердечное сожаление по поводу финала нашей тогдашней встречи. Я очень прошу вас извинить меня, но... – Голос его дрогнул томительных волнением и скорбью. – Но почему вы не сказали тогда, что вы – художник?
– А разве это нужно было? – оторопел Кудрин.
Шамурин быстро вскинул на собеседника глаза и помолчал. Он слегка вздрагивал, как от холода, и покачивался. Кудрин заметил это и подвинул ему стул.
– Вы как будто нездоровы. Присядьте.
Шамурин опустился на стул и провел рукой по лбу.
– Спасибо. Я, собственно, здоров. Но я... впрочем, вы сами должньт понять, Я пью... много пью! – с безнадежностью выкрикнул он. – Я не могу не пить. Не могу.
– Успокойтесь, – сказал Кудрин, подходя к нему.– Откуда вы узнали, что я художник? Я сам почти забыл об этом.
– Вы изволили тогда назвать вашу фамилию, но она проскользнула мимо моего сознания. Потом, когда вы ушли, мне стало неловко за мой невежливый и странный прием. Я, вероятно, показался вам сумасшедшим... Нет, нет, не уверяйте меня в обратном. Я сам это знаю. Я навел кое-какие справки о вас. Вы были в Париже... вы – ученик Гренье... венский королевский музей приобрел в салоне «Независимых» ваше полотно "Грузчики Антверпенского порта»? Ведь так?
Кудрин молча наклонил голову.
– Ну видите. Я знаю это полотно. Я считаю его настоящей живописью. И оттого, что я узнал, что вы и тот Кудрин одно лицо, – мне стало еще стыднее. Вы назвались председателем треста. Это была ваша ошибка.
Я знать не желаю никаких трестов. Я не признаю ничего, что существует сейчас. Я выгнал вас, как человека из несуществующего для меня мира. Какое дело людям, не признающим радости свободного искусства, до меня и моих трудов. И мне нет дела до них. Понимаете? Никакого дела! – Художник сорвался на визгливый шепот. – Я не приемлю, я не замечаю вашего государства. Но вы – художник. И ваш интерес был настоящим, я хочу в это верить.
– Даю вам слово, – перебил Кудрин.
– Можете не давать, – взмахнул руками Шамурин, – я верю. Верю, иначе не пришел бы к вам сегодня, Мне осталось очень немного жизни. У меня аневризм аорты в степени, угрожающей ежеминутной смертью. Я скоро уйду в другую жизнь, в которую я верю, и здесь, на земле, останется только легкий след моего мимолетного захода на нее в начертанном для моего существа пути вечного скитания по вселенной.
Набрякшие от пьянства красные веки Шамурина затрепетали, он весь осунулся.
«Душевнобольной. Явный душевнобольной на мистической подкладке», – подумал Кудрин, и, как бы угадав его мысль, Шамурин усмехнулся:
– Для вас все это бредни старого дурака, галлюцинации психастеника, мистическая ерунда. Не будем спорить об этом. Я скажу опять: на земле останется жалкий след моего существования, обрывки холста и бумаги, не высказанные до конца замыслы, бессильные попытки воплотить виденное духовными очами. По-настоящему мне должна быть безразлична судьба этого смешного наследства, но в нем есть одна вещь, связанная с самым пронзительным воспоминанием этой жизни. Та гравюра, которую вы видели на выставке и которую вы неосторожно хотели купить, ибо ваш нищенский разум склонен думать, что все в мире может быть предметом купли-продажи...
– Простите, я никак не хотел вас оскорбить, – .серьезно сказал Кудрин.
– Да... Конечно. Вы просто не могли поступить иначе, вы не могли понять, и я напрасно рассердился тогда... Так вот, о чем я? Ах да. О гравюре. Я не хочу, чтобы после моего исчезновения к ней прикасались недостойные и нечистые руки. Я принес ее вам. Окажите мне честь принять ее в дар от сумасшедшего старика.
Он с неожиданной живостыо встал со стула, схватил стоявший у стола сверток и нервно сорвал с него оберточную бумагу. На столе перед Кудриным, наклеенная на картоне, легла, подчиняя своему необычайному очарованию, знакомая по выставке гравюра.
– Только не отказывайтесь... Только не отказывайтесь, прошу вас, господин Кудрин, – умоляюще забормотал Шамурин, увидя в лице Кудрина нерешительность, удивление, колебание. – Эта вещь – единственное, что я не хотел бы предать забвению или уничтожению. Вы меня чрезвычайно обяжете, если сохраните ее, Ведь это моя выгода, а не ваша.
– Но, гражданин Шамурин, я не могу принять такой ценный подарок. Вы и я – мы оба знаем цену этой вещи. Я не могу купить ее у вас по той цене, которой она заслуживает. Но ведь вам нужно же жить на что-нибудь. С какой стати я буду обирать вашу старость?
Шамурин отступил назад и посмотрел на Кудрина мрачно и сожалеюще.
– Ах, какие вы чудаки. Какие чудаки вы, большевики, – прошептал он, не сводя глаз с Кудрина. – Вы хотите все измерить на грязные бумажки, липнущие к рукам. Деньги?.. Цена?.. Ха-ха. Вы говорите: вы знаете цену этой вещи? Да? Ее цены не знает никто. Никто не может знать. Ее нельзя купить за все сокровища Голконды, и в то же время она ничего не стоит. Я вижу, – вы в недоумении. Но прежде скажите мне, будьте любезны сказать, что именно так привлекло вас в этой гравюре? Почему вы, предавший свое искусство, отказавшийся от него ради суеты мира, захотели ее? Почему?
Кудрин развел руками:
– Хотя наш разговор принимает очень странный характер и мы говорим на разных языках, я все же попытаюсь рассказать вам о своем восприятии. Я никогда не слыхал вашей фамилии, гражданин Шамурин. Вы, например, больше знаете меня как художника, чем я вас. Вы немолоды, и все же до сих пор вы не создали себе известного имени. Простите за прямоту, но вследствие этого я имею право считать вас безвестным неудачником.
Шамурин наклонил голову, но без насмешки или иронии, как будто соглашаясь со словами Кудрина.
– Вы сами этого не понимаете. И вот на выставке я нахожу работу безвестного художника, на которой лежит явная тень художественного гения. Мы в корне враждебны по нашей основной установке, между нашими мироощущениями пропасть, но гений остается гением, как бы он ни мыслил. И, в частности, в этой гравюре меня поразила неистовая, – да, да, именно так можно определить, – неистовая сила передачи душевного движения. Не одного человека, не одной девушки, изображенной здесь. Нет, всего вашего мира, вашего класса, обреченного, умирающего, не имеющего надежды впереди и с безысходным отчаянием понимания ждущего последнего мгновения, конечной гибели. В этот лист бумаги. вложена судьба целой эпохи, вдохновенное пророчество смерти. И меня заинтересовало: почему вы можете передать с такой гениальной экспрессией сумерки, умирание, распад, – и почему наше молодое искусство пока бессильно с такой же глубокой проникновенностью отразить здоровье, целостность и крепкую будущность нашего класса?
Шамурин еще раз кивнул и странно засмеялся.
– Да. Теперь мне понятно. Вам хочется знать сокровенный смысл искусства, вам, одному из тех, которые полагают, что все в мире можно познать навыком, как любое ремесло, вроде обивки диванов или вставки оконных стекол. Извольте. Кто-то из великих людей изволил выразиться, что удивление – это начало ума. Вы удивляетесь, – значит, небезнадежны. Тогда я скажу вам. Первому и последнему человеку я расскажу, как создавалась эта гравюра, как она впитывала живую кровь, капля по капле, и как кровь, пропитавшая бумагу, дала ей жизнь.
Он задохнулся, внезапно побледнел и почти грубо крикнул Кудрину:
– У вас есть водка? И не могу этого рассказывать без водки.
– Должна быть. Я не пью, но держу в запасе для приятелей. Вероятно, найдется.
Кудрин вышел в столовую, открыл буфет, разыскал в углу чуть початую бутылку, стопку, прошел в кухню, положил на тарелку два соленых огурца и хлеб и вернулся в кабинет. Шамурин сидел размякший, с закрытыми глазами, веки его нервически дрожали. Когда Кудрин поставил перед ним водку, он залпом выпил стопку, не закусывая.
Кудрин молча ждал. Шамурин провел рукой по усам.
– В тот день, когда вы были у меня, вы не изволили заметить на стенке большой женский портрет маслом?
– Да, видел, – ответил Кудрин, – но не разглядел. Стена темная. Видел только, что женщина молода и, кажется, красива.
– Совершенно правильно. Мало сказать, что она была красива. Она была обаятельна. А я, я тоже был другой, чем теперь. У меня не было ни красных век пьяницы, ни этой серой свиной щетины, ни дрожания рук. Вы понимаете, что значит молодость! Я кончал академию, и я получил заказ написать портрет. Петербургская чиновная семья. Отец в лентах и звездах, заседающий в сенате; мать – расслабленная балами дама, и дочь, – ее портрет вы видели. Словом, это кончилось, как должно было кончиться. Вместо академического диплома я получил административную высылку в Туркестан. Она разорвала с семьей, ей удалось узнать, где я, и она кинулась ко мне. Приехала в Коканд больная лихорадкой, и через две недели ее организм не выдержал родов, и я остался с дочуркой. Я назвал ее, как и мать, Татьяной. Вся жизнь сосредоточилась для меня в этом ребенке. Через пять лет умер ее дед, мне удалось возвратиться в Петербург. Но уже и академический диплом, и заграничная поездка были для меня безвозвратно потеряны. Пришлось удовлетвориться педагогической работой, преподавать рисование в реальном училище и воспитывать Таню.
Шамурин налил стопку и опять залпом без закуски выпил ее. Он весь дергался.
– Успокойтесь, – сказал Кудрин, – подождите немного.
Шамурин резко повернулся к нему:
– Молчите, милостивый государь. Молчите! Не смейте, мешать мне, когда я начал рассказывать то, что я таил ото всех, что я сам боялся вспоминать. Не перебивайте меня... Да... Таня росла... В каждой ее черте я видел повторение черт матери, еще более утонченных и прекрасных. Я обожал эту девочку. Я во всем отказывал себе для того, чтобы она не знала никакого недостатка. Я брал глупые, пошлые ремесленные заказы, чтобы скопить денег на поездку за границу, чтобы показать моему ребенку мир. Перед самой войной, когда ей было четырнадцать лет, мы поехали весной в Германию, Францию, Италию. Я водил ее но всем музеям, сокровищницам культуры, я без меры поил ее вином человеческого гения. Вот тогда в Вене я видел ваших «Грузчиков», только что приобретенных музеем. Из Италии мы поехали морским путем в Норвегию, на фиорды, чтобы провести там конец лета, но в эту минуту грянула война. Теперь я мучительно сожалею, что объявление войны не застало нас в Германии. Мы бы не вернулись в Россию, и, возможно, не произошло бы ничего. Но из Норвегии мы выбрались. Дальше все обыкновенно. Война, революция. Мы голодали, мы бедствовали, но никуда не уехали из Петербурга. С успокоением страны нужно было заняться чем-нибудь. Прожить ремеслом художника было трудно. Для этого требовались молодые руки, быстро приспособляющиеся к новым утилитарным требованиям. А я – станковист. Академик Роговцев в эти годы служил дворником. Я избрал другой путь. Я хорошо знал фарфор, стекло, живопись. Стал комиссионерствовать, продавать и покупать старину. О, сколько былых состояний и коллекций переходило через мои руки. Заработок был сносный, мы ожили. И тогда я стал подумывать о том, о чем должен думать всякий художник, – о том, чтобы создать один раз в жизни вещь, которая даст право на память. Я люблю Достоевского, я чувствую его. Больше всего я чувствую «Белые ночи», потому что я сам родился и вырос в этом городе, потому что в белые ночи я и Татьяна, старшая Татьяна, полюбили...
Третья стопка водки, булькнув, ушла в горло – Шамурина. Его глаза закровавились и начали стекленеть. Голос рвался.
– Ну вот. Я задумал эту гравюру. Бы понимаете, как трудно найти натуру для Настеньки. Это лицо нельзя выдумать, его надо выловить в гуще жизни, но где в жизни, особенно теперешней, найдешь такое лицо! Ведь это должно быть не лицо человека только, не одного индивидуума, это должно быть. лицо страдающего в любви, обреченного и оскорбленного человечества!
– Не человечества, а класса, – сказал внезапно Кудрин.
Шамурин опять вздернулся:
– Не перебивать, говорю вам! Мальчишка!.. – и, тяжело задышав, продолжал: – Трудно было даже мечтать найти такое лицо. Десятки эскизов и рисунков летели в клочья. В эти дни я познал муку ненасытности, я изнемогал от нее в призрачном мире своих видений. И однажды, придя домой, я увидел, что Таня, моя дочь, мой ребенок, которую я считал, несмотря на ее двадцать четыре года, малюткой, стоит у окна и смотрит на жалкий пейзаж канала с каким-то особенным выражением тоски и муки. Я не спросил ее ни о чем, я не знал, о чем она тоскует. Я как будто бы ослеплен ударом молнии. Ведь это было то, чего я так напряженно; так страстно и так напрасно искал в своей памяти, воображении и во встречных лицах. Это была Настенька, тоскующая, оскорбленная и безнадежно любящая. У меня помутнело в глазах. Я схватил бумагу и карандаш и заработал, одержимый. Я стремился хоть мимолетно запечатлеть это виденье. И мне это удалось. Я рассказал Тане о моем замысле и посвятил ее в то, что эта работа должна быть заключительным звеном моего творческого существования.и что этой работой я уберегу свою память от забвения в этом на мгновение посещенном мире. Она радостно согласилась помочь мне. Я стал работать целыми днями, запоем, страшно, неотрывно. Я держал ее в этой, тогда подмеченной позе, у окна, заставляя смотреть на страшный в своей убогости пейзаж петербургских задворков. Она становилась к окну, молодая, преданная, полная сил и бодрости, счастливая тем, что она помогает мне, с сияющей улыбкой. Но постепенно могильный чад этого жуткого угла, душные испарения гниющей воды, трупные пятна. штукатурки сгоняли краску с ее щек, стирали улыбку, лишали блеска глаза, и она становилась похожа на пленницу, навеки заключенную в каменную, безвыходную коробку. Ее губы сжимались в гримасу смертельной тоски,– она вся опускалась, как будто раздавленная тяжестью кубов гранита, оковавших канал. И тогда я хватал карандаш, или сангвину, или перо и начинал работать. И с каждым новым рисунком все ярче и все явственней выступал облик Настеньки.
Шамурин замолчал и прижал ладонью лоб, как бы пытаясь вспомнить образ, о котором он говорил. Помолчав, продолжал:
– Я уже говорил вам, что в то время я жил покупкой и продажей антиквариата. Сам я не мог справляться с беготней по аукционам и квартирам, где продавались эти осколки. Я состарился, меня мучил ревматизм. И у меня появился компаньон. Его звали Крымовым. Николай Данилович Крымов. Молодой, лет двадцать восемь. Бывший гвардейский корнет, из хорошего старого дворянства. Смуглый, красивый, веселый, широкоплечий. Он тоже прекрасно знал старину, умел разбираться в грудах выносимого на аукционы хлама, умел находить в каких-то трущобах подлинные уники и приобретать их за гроши. По нашим делам он часто бывал у меня. Но мне никогда не приходило в голову, что он красив, что он мужчина, что у меня взрослая и прекрасная дочь. Это было возмездие судьбы. Звездоносный родитель моей Татьяны тоже никогда не помышлял о том, что его дочь может полюбить наемного маляра, которому заказан портрет ее ослепительной молодости. Я проглядел возраст моего ребенка, я не мог угадать, почему она тосковала в тот день у окна, смотря на канал. Ей хотелось любить, милостивый государь, а я, старый дурак, ничего не понимал. Как они полюбили – я не знаю. Но однажды, когда я сидел за работой, я увидел, что скорбное выражение на лице Татьяны сменилось какой-то ребяческой радостью, и ее щеки вспыхнули пожаром. Она быстро повернулась ко мне и сказала: «Папа, я устала немного. Я пройдусь». И, не выслушав моего ответа, она бросилась из комнаты, стремглав, с той же сверкающей и наполненной улыбкой. Несколько удивленный, я собрал в коробку угли, которыми работал, и подошел к окну без всякой другой цели, как опустить приподнятую занавеску. И вдруг я заметил на другой стороне канала у мостика знакомую фигуру в сером пальто. Я не мог ошибиться – это стоял Крымов. И в то же мгновение увидел, как через мостик легкой походкой, стремительная, как чайка над водой, бежала на ту сторону канала Таня. Я застыл у окна, потрясенный неожиданной и мучительной догадкой. Я весь трепетал. Я в этот час терял моего ребенка, которому я отдал всю свою жизнь.
Таня добежала до Крымова. Он протянул навстречу ей руки, и она охватила их. Слегка откинувшись назад, как будто желая лучше видеть, она смотрела ему в глаза, и я видел из окна, как изумительно прекрасно и светло она засмеялась навстречу своей любви. Крымов взял ее под руку, и они, тесно прижавшись друг к другу, пошли вдоль канала и скрылись из глаз. Я почувствовал, как по всему моему телу выступил липкий, обессиливающий пот, и на несколько минут потерял сознание. Придя в себя, я сел за книгу и стал ждать возвращения Тани.
Она вернулась часа через полтора. Я исподлобья смотрел и ждал, когда она войдет из передней, раздевшись. Я увидел ее спокойной, принявшей свой обычный вид. Ничего нельзя было прочесть на ее безоблачном лбу. Я спросил ее, где она была, спросил тоже спокойно, невзначай, как спрашивал каждый день до этого, но сам чувствовал, что голос у меня дрожит от обиды и ревности. Но она не заметила перемены в моем голосе, она была полна собой, своим счастьем и просто, без тени смущения ответила, что гуляла. «Одна?» Она засмеялась: «Ну, с кем же мне гулять, папа? У меня и знакомых нет. Я .. такая стала домоседка». Я задрожал, я задохнулся: Таня, моя дочь, солгала мне. Я не мог больше оставаться дома. Я тоже под каким-то предлогом ушел из дому и до ночи скитался по улицам, думая о законе возмездия. Я решил ничего не говорить ей. Если она не хотела сказать мне правду, я не чувствовал за собой права исторгать у нее правду насилием. Я с мукой примирился с судьбой отца и только дал себе слово беречь ее, от беды. Я ничего не мог иметь против ее любви к Крымову. Он был честный, воспитанный, энергичный, не ломавшийся под ударами судьбы. Он мог быть хорошим мужем, и в конце концов я уверил себя в том, что все идет нормально, что девушке в двадцать четыре года пора полюбить, что она имеет право на свое счастье, и как мне ни страшно было потерять ее, но я же должен был помнить, что законы природы имеют свою логику. Все могло бы кончиться хорошо, если бы не несчастная мечта тщеславия, не суетная мысль, что моя жизнь художника должна быть закончена созданием вечной ценности. Я не знаю, что произошло между ними в тот вечер. Вероятно, впервые они объяснились до конца, впервые сказали ужасное слово «люблю». Но с этого дня Таня стала неузнаваема. Она наполнилась непреходящей, неугасимой радостью. Когда в течение нескольких дней после этого вечера я ставил ее в избранной позе к окну и начинал работать, меня брало дикое и злобное отчаяние. Ничего похожего на созданный мною и виденный образ в ней не было. Вы понимаете?
– Да, – тихо ответил Кудрин, завороженный этим рассказом, – понимаю. Исчезло выражение тоски и обреченности, которого вы так искали.
– Да... да... да, – перебил Шамурин, наполняя стопку, – да. Исчезло, Исчезло навсегда, и его нельзя было воскресить никакими силами. Я мучился, я ломал угли, я просил ее принять грустное выражение, но все было бесполезно. Она светилась насквозь тихой удовлетворенностью, и нарочное выражение печали, которым она хотела угодить мне, – ведь она же по-настоящему меня любила, своего старого отца, – мгновенно сбегало, как сбегают шарики воды с раскаленной железной плиты. Меня охватило безумие неудачи. Забывший обо всем, кроме своей суетной цели, я терзался мыслью, как поправить дело, как заставить мою натуру, моего ребенка, страдать и тосковать, как она тосковала раньше. И дьявол вдохнул в меня проклятую мысль. Не смейтесь, милостивый государь: вы можете не верить, но не имеете права улыбаться! – закричал он на улыбнувшегося невольно Кудрина. —. Что вы понимаете в этом? .. Да, дьявол внушил мне эту мысль. Я с упорством маньяка стал думать, что, если бы с Крымовым случилось какое-нибудь несчастье, если бы он попал в какое-нибудь безвыходное положение, хотя бы временно, или уехал бы куда-нибудь, – я спас бы свою работу, я смог бы достойно закончить рисунки, чтобы начать резать на дереве.
Я придумывал тысячи планов, один фантастичнее другого, как заставить мое дитя, мою плоть страдать и тосковать, как нанести удар ее любви и счастью. И, отбросив тысячи планов, я, безумец, остановился на подлом, неслыханном, которому нет названия. Но я был безумен тогда, и мне казалось, что все позволено для искусства.
Вы понимаете, милостивый государь, что в таком деле, как антиквариат, в наши дни, для того чтобы добыть любителю нужную ему вещь, есть ходы, которые идут вразрез с требованиями закона. Особенно когда дело касается дворцовых и музейных фондов. И вот я поручил Крымову одно такое дело, заранее создав обстановку, при которой его попытка сталкивалась с надзором властей. Дело было пустячное. Я несколько знаю законы, и все должно было окончиться двумя-тремя неделями подследственного ареста. Я, с воспаленным мозгом, толкнул человека, которого любила моя дочь, на это дело. Он пошел и был арестован. В этот день Таня, как всегда, вышла погулять, но вернулась скорее обыкновенного, и я, наблюдавший за ней, как зверь из засады наблюдает за своей жертвой, с неимоверным, почти сладострастным удовлетворением заметил в ее лице растерянность, недоумение и тревогу. Но она ни одним словом не выдала себя. Утром она ушла из дому. Я знал, что она идет на квартиру Крымова, но не подал вида. Она вернулась в полдень, потрясенная, уже не в силах скрывать своих переживаний, и первое слово ее было: «Папа! Коля арестован». Она забыла даже о том, что до этого дня всегда называла при мне Крымова Николай Данилович. Она говорила, как взрослая женщина, любящая и знающая свое право на любовь. «Откуда ты знаешь?» – спросил я. На этот вопрос она не ответила правдой. «Я встретила нашу общую знакомую, и она сказала мне». Она замолчала и спустя несколько минут добавила: «Папа, ты должен узнать и похлопотать за него. Ведь он твой компаньон». Она не говорила, что Крымов дорог ей и я должен хлопотать за него, как за ее любимого, она пыталась заставить меня действовать на основе моих деловых интересов. Прозрачное детское сердце женщины, милостивый государь. Я пообещал ей разузнать о причине ареста, хотя и прекрасно знал ее. Я ушел и, вернувшись, рассказал ей со всеми подробностями причину ареста Крымова и сообщил, что в угрозыске мне сказали, что, вероятно, это недоразумение и что недели через две, когда разберутся, его освободят без всяких последствий. Она вынесла мой рассказ, не изменившись в лице, не дрогнув ни одним мускулом. Но ночью, проснувшись, я услыхал из ее комнаты глухой плач и – нет меры моему преступлению – обрадовался. На следующий день все валилось из рук у Тани и она с трудом сдерживалась. Когда я предложил ей поработать, она с радостью согласилась. Это давало ей возможность отвлечься от своих мыслей.
И когда она стала у окна, я вздрогнул от безумной и дьявольской радости. Она смотрела – я знал куда: на канал, на мостик, за которым всегда стоял Крымов, – смотрела с мучительным волнением, тоской и безнадежностью. Я работал как бешеный, все во мне кипело и радовалось, я даже не заметил сразу, как она застонала, пошатнулась и опустилась на пол в обмороке. Я поднял ее, задыхаясь от боли и сожаления и от радости одновременно. Я привел ее в чувство, я сидел у ее постели, баюкал ее, как в детстве, пел ей колыбельную песенку, и что-то во мне неистово кричало: «Она твоя, твоя! Ты победил», И каждый день я работал, работал с упоением и жадностью, и с каждым днем все бледнее делалась она и все тоскливее и обреченнее, служа моему замыслу, становилось ее лицо.
Прошли три недели. По моему расчету, Крымов должен был уже выйти на свободу, но его не было. Моя работа подходила к концу. Таня таяла на моих глазах.
Наконец я, сам встревоженный, пошел в угрозыск. Знакомый агент ошеломил меня известием, что арестованный Крымов передан в распоряжение ГПУ. Земля завертелась подо мной, я ничего не понимал. Я вышел из угрозыска раздавленный. Я не мог понять, почему Крымова могли передать в ГПУ. Дело было настолько незначительное и настолько не касавшееся политики, что это было загадочно. Я вернулся домой разбитый и в этот день не работал. Не работал и в следующий. Таня пришла ко мне и спросила, буду ли я продолжать работу.
Я отговорился нездоровьем. Она побледнела и, вся осунувшись, сказала: «Жаль. Мне спокойней, когда ты работаешь. Я отвлекаюсь от ненужных мыслей». Я чуть не разрыдался. Наутро я отправился к одному знакомому еще по старым временам большевику, имевшему отношение к судебным учреждениям, и просил разузнать о Крымове. Он назначил мне встречу через два дня, и когда я пришел к нему, он без предупреждения, коротко и сухо сказал мне: «Ваше счастье, что ваш компаньон не запутал вас. Он расстрелян». Я взял себя в руки, насколько мог, хотя весь мир потускнел для меня в эту страшную секунду, и просил его рассказать, в чем дело.
Ошеломленный, я узнал, что Крымов был не Крымов, а князь Щенятев, что он скрывался под чужой фамилией ; после того, как играл руководящую роль в большом восстании в Центральной России, и был случайно опознан в угрозыске агентом, бывшим во время этого восстания красногвардейцем в городском гарнизоне. Я ни о чем больше не расспрашивал моего знакомого. Я пришел домой, и моей первой мыслью было – сделать петлю и повеситься на крюке от люстры, благо Тани не было дома. Но едва я снял веревку со старой корзины и связал петлю, Таня вернулась. Она поняла по моему виду, что случилось что-то непоправимое, схватила меня за руку и, смотря в глаза, властно приказала: «Говори правду». Я не мог солгать. Я сказал. Я ждал, что она закричит, упадет в припадке. Но она только пошатнулась, закусила губы и тихо сказала: «Я это знала».
После этого она ушла в свою комнату и заперлась. Я стучал, умолял, просил, требовал открыть дверь. Она ответила тихо, но так, что я похолодел от пустоты и мучительности этого голоса: «Папа, оставь меня. Я даю тебе слово, что ничего с собой не сделаю, но мне нужен покой». Я отошел от двери, как побитая собака, и несколько часов просидел в углу без мыслей, недвижимо, с ужасом и надеждой прислушиваясь к каждому шороху из ее комнаты. Перед вечером она вышла, спокойная, ясная, с чуть припухшими глазами, прошлась по мастерской и спросила меня совсем спокойно, но чрезмерно звонким и холодным голосом: «Папа, ты будешь сегодня работать?» Я не мог, я не хотел, я не имел больше права работать. В каждом штрихе угля была моя собственная казнь. Но я согласился потому, что видел, что для нее это необходимо. Уголь скрипел по бумаге, как нож гильотины по позвонкам казнимого, упавший карандаш потряс меня своим стуком, как ружейный залп. Руки у меня тряслись, но я делал вид, что работаю. Вечером я говорил с Таней. Я пытался обелить себя и успокоить ее. Я сказал, что давно подозревал о ее любви к Крымову, что остерегался вмешиваться, что случившееся ужасно, но вместе с тем лучше, что Таня не связала еще окончательно свою судьбу с человеком, который скрывал свое прошлое, – и мои слова хлестали меня же, как раскаленные шомпола.
Она . слушала молча, неподвижно, тихая, закаменевшая. Так прошло два дня. На третий она встала на обычное место к окну, и, увидев в ее фигуре, во всем облике знакомое, дошедшее до предела пленительное выражение обреченной тоски, я забылся в припадке работы. Никогда в ней не было такой зрелой ясности и красоты, как в этот вечер. Когда я положил угли, она подошла и поцеловала меня в лоб. Я готов был упасть на колени и сознаться ей во всем, но она быстро ушла к себе в комнату, а оттуда вышла на улицу. Я слыхал, как хлопнула входная дверь и инстинктивно подошел к окну, как тогда. И тотчас же я увидел ее легкую фигурку в синем жакетике и фетровой шляпке. Но она не летела с легкостью птицы, а медленно шла, покачиваясь, словно несла на плечах непосильную ношу.
Я смотрел на нее, и слезы текли по моим щекам. Она дошла до решетки канала, остановилась и стояла так, склонив голову, минут десять, Потом повернулась к окнам нашей квартиры, прижала руки к груди, быстро перекрестилась и, одним прыжком вскочив на решетку, рухнула в воду, Когда я, сломя голову, летя через ступеньки, добежал до канала, по маслу гнилой воды еще дрожали круги и сбегались кричащие люди. Ее не нашли, видно, тело сразу ушло под затонувшую баржу.
Вытащили ее через несколько месяцев, когда от нее ничего не осталось, кроме груды разложившегося мяса...
Шамурин затряс головой и замолчал. Потом вскочил и, протянув руки, зашептал пронзительно и страшно:
– Убийца. Я двойной убийца... нет пощады... нет прощения. Мне страшно жить, мне страшно умирать, потому что я верю в другой мир. Что я отвечу там, когда меня спросят. «Алексей. Что сделал ты со своей плотью и кровью? Что совершил ты со своим ребенком? 3а что?» Что я отвечу? Что пожертвовал жизнью чада моего для искусства? Да? Что значит все искусство вселенной перед убийством безвинного ребенка? Что. есть истина? Отвечайте мне, Пилат!
Он был страшен, всклокоченный, безумный, с мучительной гримасой, с одичалыми глазами. Кудрин подошел к нему и положил руку ему на плечо.
– Спокойно, – сказал он приказывающе. – Я не Пилат. Я не судья! Я сейчас только человек и художник. Перестаньте! Вам нужно выпить не водки, а воды, – добавил он, увидев, что Шамурин прыгающей рукой тянется к бутылке. – Водки я вам больше не дам, И больше ничего не говорите. Сейчас вы ляжете у меня спать и никуда не пойдете. Вы больны!
Шамурин вырвался:
– Не троньте меня. Не прикасайтесь... Лечь спать? У вас? Нет дома, который я не осквернил бы своим присутствием. Даже ваш дом. Дом человека, не верящего ни во что, кроме кулачного права... Нет!.. .. нет... Я не могу, я не должен вас оскорблять. Простите... простите!
Он рванулся вперед и, схватив руку Кудрина, прижался к ней губами. Кожей кисти Кудрин ощутил щекочущий волос усов и теплую мокроту слез. Его передернуло, он вырвал руку и отскочил к стене с перекосившимся лицом. Шамурин заметил его судорогу и весь осунулся.






