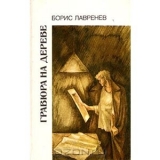
Текст книги "Гравюра на дереве"
Автор книги: Борис Лавренев
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
– Да... конечно... я противен. Вас тошнит от моего прикосновения. Весь мир содрогается, соприкасаясь со мной. Я знаю... Я не останусь у вас ни секунды.
Прежде чем Кудрин мог остановить его, Шамурин выбежал из комнаты. Сильно хлопнула входная дверь. Кудрин бросился вдогонку. Но старик бежал с невероятной для его возраста быстротой. Шаги его стучали уже глубоко внизу в пролете.
– Стойте! – крикнул Кудрин. – Гражданин Шамурин! Вернитесь!
Но шаги смолкли внизу. Кудрин медленно вернулся в комнату. Все происшедшее показалось ему сном.
Только лежащая на столе гравюра была реальна и напоминала о реальном. Обреченное мертвое лицо смотрело на него в муке безысходного отчаяния. Кудрин вздрогнул и поспешно поставил картон лицевой стороной к стене.
Заснуть в эту ночь не удалось. Едва веки смыкались в дремоте, откуда-то из ночной темноты выплывали странные тени, и виделось: то воспаленные глаза Шамурина и дрожащий мускул на его щеке, то лицо замученной безумным отцом девушки, то черная вода канала с лопающимися па ней пузырями гнили.
Проворочавшись до рассвета на диване, Кудрин поднялся разбитый и вялый. Болела голова, ныло все тело и моментами наплывал легкий озноб. Кудрин достал из стола термометр. Термометр после пяти минут показал тридцать семь и шесть.
«Простудился», – подумал Кудрин, укладывая стеклянную трубочку в футляр.
Он вспомнил, что, идя от станции к заводу, неосторожно распахнул пальто, а вечер, хотя и обманчиво теплый, дышал лихорадочной сыростью.
«Придется денек пересидеть дома, – подумалось Кудрину, – а то совсем расклеюсь».
Он позвонил в трест и вызвал Половцева.
– Александр Александрович, будьте добры, поработайте малость за меня. Я немного прохватился ветерком и кисну. Так уж надеюсь на вашу любезность,
– Может, вам врача направить? – спросил Половцев.
– Да нет, ничего серьезного. Просто лихорадит. Приму хины, разотрусь водкой, и все как рукой снимет.
– Позвольте вас навестить вечерком? – продолжал Половцев.
Кудрин помолчал секунду. Видеть Половцева не хотелось, и нужно было сказать об этом прямо, но деликатно, чтобы не обидеть профессора. И Кудрин сказал наконец извиняющимся тоном:
– Лучше не надо, Александр Александрович. Мне что-то хочется, хоть один день отдохнуть от людей.
– Понимаю, – ответил Половцев, и в ответе профессора Кудрин уловил ту же скрытую иронию, которая раздражала его в последние дни. Он быстро положил трубку и, достав из шкафа одеяло, прилег на диван.
Он надеялся заснуть, но сон не шел. Мелкий озноб щекотал тело и не давал успокоиться. И нахлынули мысли. Вспомнился Шамурин с его рассказом: палач и жертва своего фанатического безумия.
Безумие ли?
Кудрин приподнял подушку за спиной и остался в таком положении – полулежа-полусиди.
Безумие ли? Да, конечно, безумие, но в нем была и своя жестокая, мрачная прямолинейная логика. Шамурин упрямо и неуклонно шел по своей линии, без компромиссов и отступлений. Своя и чужая жизнь в жертву делу, в жертву идее искусства.
Несчастный старик!
Кудрин мотал головой, как будто хотел подтвердить свой вывод. А может быть, счастливый художник, – художник, оправдавший свое бытие, Кудрину вспомнился миф о гениальном художнике Эллады, приковавшем своего раба-натурщика к камню. Чтобы вникнуть и передать на полотно искаженные черты огненосца Прометея, художник привязывал к животу натурщика кусок сырого мяса. Голодный орел клевал мясо и вместе с ним рвал клювом мускулы и кожу живого человека. А художник, холодно и зорко наблюдая, запечатлевал каждую судорогу муки и боли на лице и теле натурщика.
А средневековье. Колоссальные полотна с мучениями святых. Христианство возвело эти мучения в догмат жизни и искусства. И, подчиняясь требованиям класса и эпохи, художники творили мучительные вещи. Был художник, который для полотна Голгофы распинал на кресте собственного сына и запоминал формы готовых взорваться от напряжения мускулов. Другой сидел с карандашом в углу инквизиторского застенка и зарисовывал пытки. Верещагин появлялся на полях боев, когда над ними еще плавала кислая мгла порохового дыма и корчились тела умирающих.
Кудрин с испугом вытер проступивший на лбу пот. «Что же это? Я оправдываю преступление ради искусства?» – подумалось ему.
Нет. Жестокие легенды всплыли в памяти не для этого.
Они были закономерны и диалектически объяснимы для своего времени. Для мрачного, черного времени угнетения и насилия.
Кудрин усмехнулся. Мысль его ухватилась за тоненький кончик ниточки, на мгновение мелькнувший из спутанного клубка, и, ухватившись, начала спокойно развертывать нить.
Да, ясно. Задача художника в социалистическом обществе иная. Он должен не обескрыливать и душить человека зрелищем страданий и мук, но будить радость, здоровье, надежду, говорить полнокровным голосом искусства для освобожденного человечества. Но эту задачу может осуществлять только художник, рожденный классом. создающим новую эру в человеческой истории.
Только плоть от плоти победившего впервые класса бывших рабов. Только он сумеет заметить и передать со всей силой и искренностью новые темы. Чужой, даже и дружелюбный чужой, просто не сможет понять.
Все чудовищные потуги, ужасающе размалеванные тряпки «красных похорон» и «красных октябрин» безнадежны не потому, что они делаются тупыми ремесленниками, без вдохновения, без любви. Нет, среди их авторов есть имена, заслуженно вошедшие в историю искусства. Но при всем старании они не в силах, они не могут понять новой сути изображаемого.
Они корнями вросли в психологию отмершего мира. Волею рождения в недрах чуждого революции класса они обречены на непонимание, на невозможность революционного познания и потому на трагическое бесплодие.
Понять, отразить до конца обреченность своего класса, своего общества способен был полубезумный маньяк Шамурин, сам продукт этого общества, квинтэссенция его разложения. Понять будущий расцвет нового общества, его здоровую жажду жизни и здоровые радости может только порожденный классом-победителем, перемоловший старую и воспитавшийся на новой культуре, здоровый художник со здоровым коммунистическим мышлением.
Вот именно.
Кудрин вскочил с дивана и, как бы зараженный внезапным и бодрящим током, заходил по кабинету.
Стены кабинета незаметно растаяли, раздвинулись. Сквозь них Кудрин видел, как наяву, бесконечную галерею накопленных веками сокровищ мирового искусства. Где-то в бесконечном далеке, на желтых обрывах песчаников, смутно виднелись первые попытки мышления художественными образами. Кремневым резцом, цветной глиной, копотью первобытный художник запечатлевал бытие своего общества. Постепенно, шаг за шагом, век за веком, улучшались и усложнялись материалы, искусство захватывало все более широкие перспективы.
И, как бы бредя в гигантском музее, Кудрин внезапно понял еще одно.
В каждую эпоху искусство было кровными связями слито с политическими и социальными формами человеческого бытия. Слабое, неуклюжее и блуждающее вслепую на переломах эпох, оно неуклонно возрастало в своей ценности и полнокровности параллельно с укреплением новых социальных форм и, достигнув величайшего расцвета на вершине эпохи, низвергалось вместе с падением породившего его общества.
Искусство вырастало органически из комплекса идей и понятий эпохи, оно не терпело никаких понудительных и ускорительных мер в своем закономерном и правильном росте.
Кудрин усмехнулся:
«Да, да! Конечно, так! У нас все еще впереди, впереди, и мы напрасно «и жить торопимся и чувствовать спешим». Десять лет? Что такое десять лет для хода истории, ведущей счет тысячами веков? Мы – дети, грудные дети, мы еще едва открываем глаза, И, еще не раскрывши, хотим уже видеть свое искусство в полном расцвете. И стремимся взрастить его, как тепличный огурец, паром и жаром, поскорее, побольше, забывая, что в парниковом плоде безвкусная, пресная вода, что он противоестествен, так же противоестествен, как ретортный гомункулус алхимиков».
Кудрину вспомнился Рубенс. Бешеный фламандец, плотоядный обжора, каждым мазком кисти утверждавший коренастое благополучие ядреных голландских торгашей, властелинов морей, колонизаторов. Рубенс вошел в свою эпоху, в эпоху блеска и торжества нарождавшегося могущества голландского капитала, в тот момент, когда оно пришло к своей кульминационной точке. Впереди уже нависали грозовые тучи. Адмиральский флаг Нидерландов еще гордо развевался на ближних и дальних морях, но уже одевались парусами трехъярусные громады английских кораблей, чтобы через полвека, в решительных боях с прославленным Рюйтером, раздавить голландское могущество.
Рубенс был плоть от плоти своего века. Его полотна кричали буйством красок и форм о торжестве наживы, стяжания бычачьего сластолюбия. Он писал тела так, что их хотелось схватить и ощупать пальцами мясистые, налитые округлости. Его живопись была гимном практического торгаша, верящего только в реальную выгоду, привыкшего ощупывать и мерить приобретаемый товар.
Но эта кричащая мощность и пышность, прославляющая мощность и пышность тучной Голландии, была обращена в Рубенсе не искусственными теоретическими настроениями, – она вырастала из самых глубин его сознания, она ощущалась художником не как результат предвзятого логического хода, но как естественный выход творческой силы, порожденной и питаемой окружающим расцветом.
И Кудрин отчетливо сознавал, что Рубенс, выписывая своих тучных богов и богинь, никогда не думал, что взмахи его кисти должны содействовать росту и мировому внедрению голландского торгового капитала. Вернее всего, что художник никогда и не задавался вопросом, чему служит его творческий дар, – настолько органично и непосредственно было его восприятие окружающего быта и общества, вошедшее в его кровь с молоком матери. Он был нормальным продуктом своего общества и своего класса и его пропагандистом по крови.
Социальная революция, делу которой отдал свою жизнь Кудрин, сломала и разрушила сгнившие общественные формы и строила новые. Со срывами, с ошибками, с отступлениями она воздвигала новое здание.
И наряду с государственным и общественным строительством медленно нарождалось и новое искусство. Как на переломе каждой эпохи, первые его шаги были топорными, неуклюжими и слепыми. Оно было еще оторвано от общего роста и шло без связи с остальным.
В эти годы трудной, изнурительной, воловьей работы Кудрину казалось, что он поступает правильно, отрекаясь от искусства для будничной, тяжелой, но первоочередной хозяйственной работы.. Он успокаивал себя тем, что нельзя объять необъятное. Он занят был делом, которое сейчас важнее для строящегося государства. Если делить время между искусством и . экономикой от этого пострадает тот существенно важный в народном хозяйстве промышленный организм, который вверен его наблюдению. Нужно было сосредоточить все силы в одной области, а не дилетантствовать понемногу во всех.
Но теперь, после всего пережитого и перечувствованного за последние дни, он начал понимать, что в его логических построениях есть пробел.
Ему было ясно, что ни в какой стройке не может быть такого положения, при котором отдельные камни здания существовали бы сами по себе, не связанные другими. Искусство было так же неотделимо от хозяйства, как и наука. Трест выбрасывал свою продукцию – посуду, статуэтки, стекло – не в безвоздушное пространство, а на реальный рынок, на миллионного потребителя.
И для этого потребителя нужно было создавать и новое художественное оформление выпускаемых изделий, знать перемену и рост художественных вкусов и требований, иначе вся работа творилась впустую, на какого-то неживого, теоретического потребителя, не существующего в природе.
Кудрин остановился посреди кабинета.
«В сущности говоря, ведь это же дико, – подумал он, – ведь мы в действительности не знаем, на кого и мы работаем, какой вкус у нашего покупателя, какое искусство ему нужно? Да больше того – нам нечего ждать, пока он нам откроет истины, мы сами должны их открыть».
Внезапно ему вспомнилась поданная угрюмым комсомольцем ядовитая записка, и он смутился.
«Открыть? А что мы можем открыть, когда наши дети уже перерастают нас в вопросах культуры и искусства. В громе военных гроз, а после – в будничном щелкании счетов мы, старшее поколение, оторвались от культуры, просто упустили ее из виду и, рассчитывал, прикидывая на счетах, лепя кирпичи, отливая балки и формы, пытаемся строить мирный дом, забыв, что под ним нет фундамента культуры. И в новых культурных требованиях никто из нас толком не смыслит и, сталкиваясь с ними, или становится в тупик, или легкомысленно хлестаковствует».
– Ведь я же все перезабыл, – сказал он вдруг вслух, уязвленный этой мыслью, – я ничего не знаю. Нельзя же сказать, что я знаю искусство страны, только потому, что три раза в год я заезжаю любопытства ради на очередную выставку и рассматриваю экспонаты с точки зрения ремесленника. я вижу недостатки, но я палец палец не ударил, чтобы помочь их уничтожить. А ведь у меня специальность. Ведь я же художником был настоящим. Даже Шамурин, для которого мы все – новые гунны, разрушители, и тот это признал. Нет... нужно что-то сделать...
Он опять взволнованно заходил из угла в угол и остановился, только услышав звонок в прихожей. Домработницы не было дома. Кудрин вышел и, открыв дверь, столкнулся с Маргаритой Алексеевной.
Он отступил назад в темноту прихожей.
– Ха-ха-ха! Испугались? – услышал он веселый возглас артистки.
– Входите, Зяма, входите, – приказала она кому-то, проскальзывая в прихожую, и Кудрин увидел в пролете двери чью-то незнакомую фигуру.
– Ну, зажгите же свет, Федор Артемьевич. Вы меня простите, мне позвонил Александр и сообщил, что вы заболели и что не желаете его видеть. А так как я знаю, что вы в единственном числе и беспомощны, я решила нагрянуть и похозяйничать. Не сердитесь!
Кудрин зажег свет и невольно улыбнулся. За артисткой стоял небольшой человечек, нагруженный кульками и свертками.
– Зяма, сложите покупки и можете уходить. Вашей помощи больше не требуется, – сказала Маргарита Алексеевна.
Молодой человек сложил кульки и, поклонившись, исчез за дверью.
Кудрин беспокойно топтался на месте.
– Нет, право, Федор Артемьевич, вы не сердитесь, – заговорила артистка внезапно тепло и просто,– я ведь хорошо знаю, как иногда бывает трудно болеть одинокому человеку. А у меня сейчас свободное время до– спектакля, и я рискнула приехать к вам с вкусными вещами. Но если вам не хочется видеть людей – можете спокойно выгнать меня. Даю слово, что не обижусь.
– Зачем выгонять? Наоборот, – ответил Кудрин, успокоенный мягкой теплотой ее голоса, – милости прошу.
– Вот и хорошо.
Кудрин подобрал сложенные Зямой кульки и отнес их за Маргаритой Алексеевной в столовую.
– А почему вы так немилостиво отправили этого вашего носильщика? – спросил он.
Маргарита Алексеевна засмеялась:
– Зямку? А куда ж он годится, кроме как носить покупки? У меня таких адъютантов вагон, У вас примус есть?
– Есть, – ответил Кудрин.
– Показывайте. Я буду чай кипятить.
– Ну, это чепуха! Я сам могу, – возмутился Кудрин.
– Ни-ни, – вы больной.
Несмотря на протесты Кудрина, она забралась в кухню и поставила на примус чайник.
– Я буду следить за ним, а вы разворачивайте тут на столе покупки.
Кудрин послушно занялся развертыванием пакетов.
Маргарита Алексеевна, возясь у примуса, беспечно рассказывала театральные сплетни. Кудрин слушал, но мысли его были далеко. Он продолжал думать о своем.
Чайник забурлил паром, и артистка перенесла его в столовую. Она усадила Кудрина и уселась сама, продолжая болтать. Но вдруг прервала болтовню и, внимательно взглянув на Кудрина. спросила:
– А вы нехорошо выглядите. Что с вами случилось?
– А что? – опешил Кудрин.
– Вы пьете чай, делаете вид, что слушаете меня, но мысли ваши совсем не здесь. И видно, что вам не по себе.
– Таить не буду, —, ответил Кудрин, – не по себе. Это правда. Только не стоит тревожиться.
Маргарита Алексеевна посмотрела на Кудрина, и ее Покойный взгляд напомнил ему взгляд Половцева.
– Вы меня извините, Федор Артемьевич, я совсем не хочу навязываться с ненужным участием. Я спросила как-то невольно. Я слыхала, что у вас разрыв с женой, знаю, что это бывает очень тяжело. Помочь нельзя, но вы-то не расклеивайтесь. Ваше дело не в семье, а в работе.
Кудрин поставил чашку на стол и улыбнулся:
– Спасибо за участие, Маргарита Алексеевна, Только дело совсем не в разрыве с женой. Он был и прошел. Беда в разрыве с самим собой.
Маргарита Алексеевна удивленно склонила голову.
– Разрыв с собой? У вас? Странно. Я всегда считала вас твердым.
– Вы не совсем поняли. Я и остался таким. Я не поколебался. Но вот трещинка крошечная есть. Я на распутье. Открывается новая дорога. Пойти – или нет.
– Не совсем понимаю, – ответила артистка, подвигаях
Кудрину налитую чашку,– И я не совсем понимаю. Может быть, права моя бывшая жена, и все это одни интеллигентские шатания... Впрочем... хотите, расскажу. Вы – человек умный и теплый, не чета вашему мудрому супругу. Любопытно, как все это выглядит– со стороны.
– Рассказывайте,– коротко сказала Маргарита Алексеевна, сложив руки на скатерть и опершись подбородком на ладони.
Кудрин медленно, точно вдумываясь и выслушивая самого себя, рассказал все происшедшее с ним, от первого посещения выставки до прихода Шамурина.
Артистка выслушала молча, медленно опустила руки на стол и взглянула на Кудрина, словно боясь поверить.
– Как странна и как ужасна история этого старика, – промолвила она тихо.
– Но этот безумный старик натолкнул меня на решение мучившего меня издавна вопроса: почему они могут выразить свою обреченность и распад с подлинной мощью, а мы еще не можем показать нашу силу и здоровье. За ними вековая культура с ее философией, науками, техникой, искусством. А мы вновь родившиеся. Голые человеки на голой земле.
– Да, это конечно, – раздумчиво сказала Маргарита Алексеевна. – Но вы не правы в том, что упадок живописи, как и других искусств, в области формальной, возник только теперь, в связи с переломом эпох. Нет, упадок начался гораздо раньше, и ему другая причина.
– Какая? – перебил Кудрин.
– Сейчас. Вы, я думаю, согласитесь со мной, что в области вашего искусства – живописи – есть какая-то грань, резко разделяющая два периода. Уже, собственно, с семнадцатого века исчезли гиганты кисти и резца и сменились в лучшем случае крепкими ремесленниками. Согласны? Ну вот! Возьмите великолепнейшую эпоху живописи. Поглядите старых итальянцев, испанцев, голландцев. Что вас поразит и первую очередь? Крайняя немногочисленность тем и сюжетов. На триста – четыреста имен пять-шесть сюжетов: благовещение, мадонна с младенцем, святое семейство, распятие, ритуальная церемония, обряд. У голландцев к этому прибавляется деревенская пирушка и пейзаж, Вы скажете: какая скудость, какое неуменье видеть все живое разнообразие жизни. Ничего подобного! Тут налицо создательное ограничение диапазона для возвышения мастерства. Возьмем какое-нибудь благовещение. Некий мастер писал его всю жизнь. В десятках вариантов. Умирая, оставлял учеников. Ученики писали то же благовещение, привнося новые детали, совершенствуя технику и мастерство. Сами становились мастерами и передавали сюжет новым ученикам. И доходили до полного вдохновенного мастерства, до гениальности. Вырабатывались определенные навыки, то, что сейчас называется казенной кличкой квалификации...
Ах, вы, наверно, не понимаете, куда я гну. Я сама чувствую, что путаюсь, – беспомощно улыбнулась она.
– Нет, – произнес Кудрин, – валяйте дальше. Начинаю разбираться.
– Да? Ну, хорошо. Мастер повторил почти без изменений полотно своего учителя, доводя живопись до непревосходимого блеска. Так вырабатывалась школа.
Теперь не только отвергли этот принцип совершенствования по одной линии, но его стали считать чуть не преступлением. Каждый фигляр, каждый безграмотный олух стремится поразить мир, открыть свою технику, создать свою школу, исходя при этом не из принципов искусства, а из голой самовлюбленности и нахальства. Повторить сюжет и технику гениального мастера считается преступлением. За это травят и доводят людей до могилы.
Вспомните недавнюю еще историю гибели Крыжицкого. Вспомните: Франц Гальс, оба Тенирса и еще десяток голландцев писали в центре своих пирушек одно и то же хохочущее лицо. И ведь тип этого лица, наконец доведенный до совершенства, стал почти нарицательным.
И никто не боялся, что невежественный недоросль, думающий, что в искусстве обязательно нужно выдумывать небывалые откровения, обвинит Тенирса в плагиате у Гальса или наоборот. Они вместе создавали и усовершенствовали школу. Почему до сих пор еще высоко держится наше сценическое мастерство? Да потому, что мы считаем не грехом, а доблестью повторять приемы и технику наших великих актеров, не оригинальничая ради пустого оригинальничанья... Право, не знаю, поняли ли вы меня? Александр всегда говорит, что я умею думать, но лишена возможности связно выражать свои мысли.
– Ничего, – усмехнулся Кудрин, – хоть и путанно, но главное я понял. Это любопытно и, пожалуй, имеет смысл... Но, кроме всего, я спрошу вас о личном деле. А вы отвечайте напрямик.
– Пожалуйста, – просто сказала Бем.
– Я очень растревожился за эти дни, Вот оглянулся кругом, посмотрел, проверил и понял и свое и общее наше бескультурье. Хозяйство строим, а про культуру хозяйства забываем. Что толку в том, что построим небесной красоты дворцы, если в этих дворцах на наборный паркет сморкаются. Кто-то сказал, что раньше нужно потолки построить, а потом уже придумывать, какие узоры на них разводить. Чепуха! Нужно одновременно. И потолок и узор придумать, чтоб не опоздать. Фреска сырой штукатурки требует, по сухому потолку не напишешь... Ну вот, И потянуло меня к моей старой работе, к кистям. Только сомнение мучает. Не поздно ли вернуться? Сорок два года...
Маргарита Алексеевна внимательно взглянула на Кудрина и без улыбки сказала:
– Поздно? Малодушие вам не к лицу, Кудрин. Вспомните Гогена. Если вы серьезно...
– Совершенно серьезно.
– Тогда в добрый час. Поверьте, что это говорит друг... А теперь мне пора на спектакль.
– Я выйду с вами, – сказал Кудрин.
– Выйдете? Но вы же нездоровы.
– Пустяки. Мне на воздухе станет лучше.
Кудрин помог артистке одеться, и вместе они вышли на вечереющую улицу.






