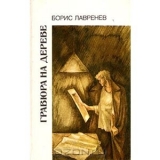
Текст книги "Гравюра на дереве"
Автор книги: Борис Лавренев
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
2
В высоком гулком зале, где разместился после революции постоянный аукцион госантиквариата, было сумрачно и тихо, как в заброшенном лютеранском храме. Сходство еще усиливалось готической деревянной резьбой решетки и витражными розетками в высоких стрельчатых окнах. Между затянутыми суровым холстом стендами выставки была в беспорядке расставлена дорогая старинная мебель всех стилей, огромные фарфоровые вазы, бронза и мрамор. Сюда свозились из реквизированных особняков, из бывших помещичьих имений предметы искусства и старины, отбираемые особой комиссией в государственный фонд. Лучшее шло на пополнение музейных экспозиций, остальное распродавалось и распределялось по комиссионным магазинам.
Комиссия также приобретала предметы антиквариата от населения. Оценку предлагаемых вещей давали несколько экспертов, среди которых главным был ловкий проходимец, бывший присяжный поверенный Бураков. Пользуясь полной бесконтрольностью и неосведомленностью комиссии, которая в основном состояла из рабочих, Бураков рекомендовал к приобретению вещи второго и третьего сорта и отклонял лучшие, оценивая их как подделки или искусные копии, если владельцы в какой-либо степени разбирались в искусстве, либо просто объявлял не стоящей внимания пачкотней и ремесленничеством. Если владелёц требовал более широкой экспертизы, требование безотказно удовлетворялось. Но эксперты составляли крепкий и тесно спаянный орден разбойников, и работы, подписанные именами крупнейших мастеров, квалифицировались как копии, сделанные учениками, а владельцу грозили неприятности за попытку ввести в заблуждение государственный орган. Спустя некоторое время к отчаявшемуся владельцу являлось некое подставное лицо, просило дать возможность познакомиться с отвергнутыми комиссией вещами, обволакивало изысканнейшей любезностью и в конце концов убеждало уступить полотно или скульптуру за десятую долю подлинной цены. Затем приобретенная драгоценность перекочевывала в обширную квартиру Буракова на набережной Невы, и постепенно в комнатах этой квартиры возник новый музей, который если и уступал по количеству собраниям Эрмитажа и Русского музея, то включал в свою «экспозицию» произведения, которыми могло гордиться любое собрание.. Сокровищам Буракова стало наконец тесно в шести, огромных комнатах, и, использовав высокий вестибюль старого петербургского дома, он развесил в нем устрашающие полотна кубофутуристов, от которых в ужасе шарахались тярлевские молочницы, носившие молоко в бураковский подъезд.
Вещи же, приобретенные комиссией, сваливались как попало в зале, ожидая своей очереди на распределение по объектам. И тут же устраивались немногие в эти годы выставки. На серых прямоугольниках стендов, как иконы фантастического иконостаса, были развешаны рисунки и гравюры. Взяв из рук кассирши у входа зеленый лоскуток билета, Кудрин с особенным удовольствием и волнением вдохнул знакомый сладковато-щекотный запах даммарного лака, прочно устоявшийся в зале.
Он равнодушно и не задерживаясь прошел мимо первых стендов, Выставленные на них работы не привлекли его внимания, Частью они раздражали глаз зрителя загадочными формалистическими изысками, невнятной путаницей геометрических фигур, назойливой и претенциозной ирреальностью, частью угнетали скучной бескрылостью так называемых "производственных" сюжетов. Кудрину было ясно, что все эти одноцветные п многоцветные гравюры и офорты сделаны людьми, глубоко чуждыми и не понимающими тех огромных процессов перестройки архаической русской индустрии, которым отдавал все силы, энергию и энтузиазм рабочий класс, новый, разумный и смелый хозяин, направляемый волей и умом партии. Художники брались за эти темы «без вдохновения, без любви», без знания предмета, а только побуждаемые модой и возможностью быстрой карьеры и хорошего заработка. Было в этих работах что-то морально нечистоплотное, поспешная лакейская угодливость требованиям нового хозяина. Кудрин наспех проходил мимо бесчисленных «сталелитейных цехов», «доменных печей», «плавок стали», «текстильщиц за станками», где в нагромождении металлических и каменных громад кранов, бессемеров, прессов, банкаброшей, ткацких станков, тяжелых перекрытий цехов, в бездушных массах мертвой материи бесследно исчезал ее творец, одушевляющий ее человек. Забвение личности человека, нового человека, рожденного Октябрьской революцией, не угнетенного и беспомощного раба, а повелителя мира машин, предназначенных служить освобождению и раскрепощению труда, было характерной чертой всех этих поспешных, услужливых приспособленческих работ. Досадливо морщась, Кудрин проходил стенд за стендом, не находя ничего, что могло бы привлечь его взгляд. Он уже хотел уходить, недовольный и раздосадованный; но, обогнув следующий стенд, внезапно остановился, всматриваясь в большую гравюру, висевшую в центре, среди мелких карандашных набросков.
Резаная по дереву гравюра была оттиснута на цветной бумаге серо-сиреневого цвета в две краски – темно-синюю и зеленовато-желтую. С этого листа цветной бумаги на Кудрина внезапно повеяло волнующим дыханием творчества. Он заглянул в каталог. Фамилия художника – Шамурин – ничего не сказала ему. Гравюра называлась «Настенька у канала», из цикла иллюстраций к «Белым ночам» Ф. М. Достоевского.
Вся плоскость гравюры была подчинена умелому композиционному сочетанию серо-сиреневого и черно-синего цветов; и только блики на зеркальной поверхности воды канала и прозрачно-зеленоватое лицо девушвки врывалось дерзким сияющим пятном в холодные сумерки.
Девушка в старинной соломенной шляпке. корзиночкой стояла у резной чугунной решетки канала, Лицо у нее было суховатое, породистое с горьким изломом бровей и скорбной складочкой рта. Но не самые черты ее блика поражали смотрящего. С удивительной силой было выражено внутреннее душевное состояние этой девушки, безнадежная ее обреченность, безысходное отчаяние. Каждая черточка ее тонкого лица, каждая линия ее безвольно поникшей фигуры были полны мучительным, бесплодным ожиданием возвращения какого-то огромного счастливого чувства, которое наполняло прежде ее жизнь и теперь ушло безвозвратно.
И было ясно, что невозвратность этого счастья полностью осознана, и человек должен рухнуть под гигантской смертельной тяжестью внезапной беды.
От зеленоватых бликов в воде канала на лицо девушки ложились чуть уловимые смертные тени. Они же таяли на гранитных камнях набережной, на четком и страшном, как узор гробового рюша, контуре решетки канала. За каналом над деревянным забором в мутно-сиреневом небе вставала огромная глухая плоскость брандмауэра. По ней трупными пятнами проступала шелушащаяся штукатурка печных труб.
В скупости пейзажа была сознательная графическая сухость, омертвелость, которая еще сильнее подчеркивала беспомощность и обреченность девушки. Кого бы она ни ждала: отца, мужа, любовника, брата, – ожидание не могло дать ей ничего.
Кудрин, отступив шаг назад, пристально смотрел на гравюру и думал: «Чужое искусство!.. Больше того – враждебное. Судороги уходящего мира, тоска, безнадежность, предчувствие неизбежности конца, распад. Но какая сила в это чуждой вещи! Какая сила! С каким трагическим пафосом художник умирающего общественного строя – умеет выразить его обреченность, и как наши художники бессильны еще пока передать с такой же силой наш подъем на вершины жизни... Почему? В чем причина?.. Что так поражает меня в этой девушке? Эта изумительная выразительность внутренней катастрофы человека, безысходности страдания? Да, наверное, так... Но кто этот художник?.. Шамурин... Шамурин. Нет, никогда не приходилось слышать эту фамилию».
Кудрин тщетно напрягал память. Он знал многих художников и лично и по именам, но имя Шамурина: ничего пе говорило ему. И это было странно потому,, что перед глазами Кудрина была работа, отмеченная печатью большого, углубленного мастерства. Кудрин подошел к гравюре вплотную и нагнулся. Под стеклом в правом углу он прочел четкую надпись «А. Шамурин» и дату «1926».
«Работа прошлого года», – подумал он и тут же почувствовал, что кто-то тронул его за плечо. Он быстро обернулся.
И неслышно подошедшем к нему сзади человеке он узнал ректора Академии художеств, который несколько лет назад предлагал Кудрину работу в академии. Но как изменился за эти годы еще нестарый человек. Он исхудал, кожа лица одрябла, под глазами набухли мешочки, голубые глаза, прежде излучавшие живой свет, поблекли, в рыжеватой бороде густо проступила седина, и весь он словно стал ниже ростом.
– Эрнест Эрнестович, что с вами? – обеспокоенно спросил Кудрин, сжимая вялую, влажную ладонь ректора. – Вы больны?
– Все-таки к искусству тянет? – сказал Эрнест Эрнестович, не отвечая на вопрос. – Иду и вижу, кто-то впился глазами в гравюру. Подхожу ближе, – ан это Федор Артемьев, Кудрин сын... Что, забрало за душу?.. Вещь сильная, ничего не скажешь. Неприятная, но крепко скроено... Пожалуй, качественно лучшая на всей выставке.
– Да, интересная, – подтвердил Кудрин, – но все же меня сейчас интересует ваше состояние, Эрнест Эрнестович, Ваш болезненный вид меня тоже-забирает за душу. В чем дело?
– Болен... Смертельно болен! – вдруг резко и зло сказал Эрнест
Эрнестович. – И необыкновенной болезнью. В медицинской науке еще не изучена, Называется «шарлатанофобия»!
– Ну, это еще не опасно, – засмеялся Кудрин.
– Тут не смеяться, а рыдать надо, – с той же злостью продолжал ректор.
– Еще немного – и сердце у меня лопнет. Поломался я на войне с нигилистическими новаторами – футуристами, кубистами, экстремистами и прочими флибустьерами и джентльменами удачи... Гибнет, друг мой, академия, разваливается все, держалось наше великолепное русское искусство. Куролесят и экспериментируют шарлатаны, портят все, губят молодежь, отрицают рисунок, сами ничего не умеют, но кривляются, экспериментируют над живыми душами. А я один как перст и реальной помощи не вижу... Анатолий Васильевич не подмога. И характером мягок, и сам любит иной раз форснуть левизной. А эти его, как тараканы коврижку, обсели... Профессора живописи, черт их возьми! Лепят на полотно квадратики, кружки, треугольнички – дело простое, а всерьез ночного горшка сами написать не могут... Вот и стал я не жилец на этом свете... Понимаю, что сейчас есть более срочные и решающие задачи, чем изобразительное искусство, не до него наверху. И свое время все станет на место, а пока что доконают меня «исты».
Эрнест Эрнестович безнадежно махнул рукой, и сквозь его иронически-шутливый тон Кудрин почувствовал острую горечь, разъедающую сердце старого, мудрого человека, надломленного острой идейной борьбой за честь и славные традиции русского искусства с горластой, шумливой и беспринципной ордой проповедников «новых форм», рядящихся в революционный наряд.
– Не нравится мне, Эрнест Эрнестович, ваше «нутро». Не опускайте рук. Покрасуются мыльные пузыри и лопнут. Есть же и отрадные факты. Скажем АХРР.
Эрнест Эрнестович отмахнулся еще безнадежней:
– Эх, этот самый АХРР не лучше Пролеткульта. А кроме того, голубчик, и в АХРРе убежденных и идейных людей от силы десяток наберется. А остальные пенкосниматели. Почуяли, что в нынешней ситуации АХРР вроде елки с подарками, вот и танцуют вокруг. Мне они еще противней, чем мои ниспровергатели классики и новаторы, У тех мозги набекрень и хулиганский задор, а у этих уж больно голая коммерция без фигового листика.
– Вон как вас пессимизм разъел, – усмехнулся Кудрин. – Это все от сидячей жизни, Эрнест Эрнестович. На воздух почаще надо... Вы отсюда в каком направлении путь держите?
– В домашнем.
– А хотите прокатимся на острова на часок. День свежий, воздух млечный.
И рассеяться вам полезно.
– Ну, что ж... пожалуй, поедем, – согласился Эрнест Эрнестович, Взяв Эрнеста Эрнестовича под руку и направляясь к выходу, Кудрин еще раз оглянулся на гравюру:
– Кстати, Эрнест Эрнестович, вы знакомы с этим... с Шамуриным?
– Нет, – Эрнест Эрнестович слегка пожал плечами, – слыхал только о нем.
Старик. Одинок. Ни с кем не знается. Говорят, будто у него в голове нелады. До двадцатого года работал много, выставлялся. После затих и вот спустя семь лет появился... А видно, талантлив, и сильно. Не мудрено, что он вам показался...
Они вышли на Морскую и сели в машину. Машина рванула с места, пересекла Невский, проскользнула в пасть арки Главного штаба и вырвалась на захватывающий простор площади Урицкого. Косые иглы закатного солнца рассекали холодноватый чистый хрусталь весеннего неба. На вершине розовой полированной свечи Александровской колонны грузно летел под тяжестью креста курносый ангел и красная говяжья туша Зимнего дворца, загроможденная ремонтными лесами, закрывала горизонт. Прикрываясь портфелем от бокового, тревожно золотого блеска, Кудрин окинул взглядом площадь во всей ее изумительной четкости и гениальной простоте единственного в мире и неповторимого архитектурного ансамбля.
Эта красота, очевидно, захватила и Эрнеста Эрнестовича. На лбу у него разгладились две вертикальные морщины, все лицо помягчело и в глазах появился огонек.
– Какой город! Какой город! – протяжно сказал он и всей грудью вдохнул бодрящим предвечерним холодом. Кудрин впервые попал в Ленинград после демобилизации. Детство и юность его прошли на Кавказе, затем он попал в Москву, из Москвы в Сибирь, оттуда в эмиграцию. Австрия, Швейцария, Франция. Бродячая жизнь изгоя, бесконечная скачка по странам и городам в поисках пристанища и заработка. Были города прекрасные и отвратительные, из которых хотелось бежать.
Дореволюционного императорского Петербурга с его размеренной скукой и сгущенной атмосферой, в которой люди жили, как на кратере вулкана, поминутно ожидая взрыва, города, в котором рядом с лихорадкой становящегося на ноги российского капитала уживался сухой бюрократический ритуал и показной военный блеск распадающейся империи, Кудрин не знал. Он увидел новый Петроград, получивший вскоре иное почетное имя, в то время, когда смолкли пушки и над развенчанной столицей воцарилась глухая, пугающая тишина, В просторах опустелых проспектов, между брусчаткой и торцами летом пробивалась непокорная, ярко-зеленая трава.
Дома вставали над этой пустыней, как надгробные памятники, полуразрушенные, но еще величавые. Широкая стальная Нева вливалась под мосты, как под прокатные станы, и медленно бесшумно стекала и западу.
Кудрина неприятно поразило запустение центра города, и он больше полюбил окраины, районы старых застав, где над прошлым уже закипала новая жизнь. Она давала знать о себе теплым дыханием фабричных труб, тянущимся к взморью дымом, ревом гудков, гулкой беготней вагонеток, лязгом и визгом терзаемого металла, пыхтением пара, жужжанием электромоторов, железными руками кранов, красными отсветами расплавленного чугуна, льющегося в изложницы. Но и в замершем центре была своя красота, замкнутая и оскорбленная. В белые ночи гиперборейский город, в колоннадах и портиках своих дворцов, был похож на безжизненную, но прекрасную гравюру, на которую хотелось смотреть без конца, с сердцем, стиснутым болью и жалостью.
Разумом и верой большевика Кудрин верил, что там, на окраинах происходит подлинное возрождение города, что там начинает все сильнее биться индустриальное сердце страны, рождается ее могучее и прекрасное будущее. Сердцем художника он любил и замороженную Элладу ленинградских дворцов и площадей, геометрическую точность этого города стройных и строгих линий, где все подчинялось прямолинейному устремлению в мировые просторы, лежащие за желто-серыми волнами Балтики.
И на восхищенную фразу Эрнеста Эрнестовича Кудрин сочувственно улыбнулся. Машина зашуршала по мосту Равенства. Направо п налево лежала искрящаяся, муаровая, андреевская лента Невы, разрезающая город. Кудрин приподнялся на сиденье и сказал Эрнесту Эрнестовичу:
– Вот уже шесть лет, как я стал ленинградцем, но всякий раз, как вижу Неву, – волнуюсь. К этой реке нельзя привыкнуть, как привыкаешь к обычному пейзажу. В ней и в Волге есть что-то от русской души, широты, размаха, величавости и простоты. Она зовет и будоражит, Эрнест Эрнестович молча кивнул. Они проехали на Елагин остров, вышли из машины и пешком прошли к Стрелке. В парке было тихо и пусто. Прели не убранные с осени кучи опавшей листвы. 3а сухим тростником, разросшимся на мелководье Стрелки, лежала опалая гладь лахтинского взморья, и на западе в сизом дыму не то виднелся, не то скорее угадывался Кронштадт.
Они постояли у воды, любуясь переливами закатных красок, Эрнест Эрнестович уже спокойней, без раздражения рассказывал Кудрину о своей работе в академии, о трудностях, о ежедневных стычках с «леваками», захватившими командные позиции в академии.
С взморья нанесло колючий ветерок. Эрнест Эрнестович закашлялся, запахивая пальто, и опять потускнел.
Кудрин довез его до квартиры в академическом корпусе на 8-й линии, сердечно простился и подождал, пока Эрнест Эрнестович не скрылся в подъезде.
– Теперь куда, Федор Артемьевич? – спросил водитель, подождав несколько и видя, что начальник молчит, занятый какой-то думой.
– Что? – спросил Кудрин, стряхивая задумчивость, – куда?.. Ну куда же, как не домой. Домой! – повторил он еще раз.
На Каменноостровском Кудрин вышел и подписал водителю путевку.
– Вечером на заседание поедете? – спросил водитель.
– На какое еще заседание? – с удивлением взглянул на него Кудрин.
– Вот-те на! – сказал водитель укоризненным тоном любимчика начальства.
– Забыли уж... На завод-то вас нынче звали, на первый спектакль драмкружка?
– Не поеду! Хватит у меня забот и без драмкружков. – Ваша воля, Федор Артьемьевич. Мое дело напомнить, а дальше я сторонкой. Мне и вольготней... Так не заезжать?
– Нет! Спасибо! Езжай!
Кудрин вошел во двор. Здесь все было знакомо и привычно, все на своих местах, как в течение всех шести лет, прожитых в этом доме. Двор был квадратный, ленинградский, колодцем. Чирикали на потресканном асфальте воробьи, висел, как обычно, в окне квартиры № 17 полосатый матрац с синей латкой в углу, удивительно похожий от этого на американский флаг.
Из мансарды стекали во двор синкопы, выжимаемые из расстроенного пианино поэтессы Залапанной. Белый кот с боком, залитым зеленой краской, лежал кверху брюхом и равнодушно смотрел на резвящихся воробьев.
Все было такое, как всегда, и не такое. По крайней мере, так показалось Кудрину, На миг ему почудилось, что в привычном сонном укладе двора проступила какая-то зыбкость, неуверенность, даже тревожность. Но в следующую минуту он понял, что ничто не изменилось и впечатление зыбкости этого кондового уклада было создано багряным отблеском заката на слепой кирпичной стене соседнего дома.
Уже входя в парадное, Кудрин бросил косой взгляд на эту стену и вдруг понял, что она чрезвычайно похожа на брандмауэр, изображенный на гравюре Шамурина, за спиной девической фигуры у канала.
– А, черт! .. Привязалась же ко мне эта гравюра, как банный лист, – чертыхнулся он, подымаясь по лестнице.
В передней, когда он снимал пальто, его ноздри приятно пощекотал запах горячего борща. Очевидно, обед уже был подан. Он вошел в столовую. Елена стояла у стола, упершись правым коленом в сиденье стула, и, держа на весу тарелку, ела борщ, заглядывая поверх ложки в разостланную на столе газету.
Кудрин досадливо сморщился. Он очень не любил эту походную манеру есть стоя и не раз говорил об этом Елене. Она пожимала своими крутыми, полными плечами и пренебрежительно отвечала: «С чего это я стану рассиживаться, как какая-нибудь барынька? Может, еще салфеточкой повязаться и рыбу с ножичка не есть? Обрастанием пропитываешься, Федор!.. Мне некогда время на обеды тратить».
Кудрин недоумевал: «При чем тут обрастание?.. Каждому времени свое. В теплушках па фронте можно было так обедать, вернее, иначе нельзя было, не на чем было сидеть, А сейчас есть стулья. И обедать надо сидя хотя бы потому, что это здоровей. Нужно беречь себя для работы».
Но Елена не понимала и не хотела понимать, что можно заботиться о своем здоровье, что можно хотеть каких-нибудь элементарных удобств, требуемых гигиеной. Это казалось ей идущим вразрез партийным нормам поведения, почти неприличным для райкомовской работницы. Она молча кивнула Кудрину и продолжала читать газету, прихлебывая борщ. Кудрин сел напротив и налил себе борща. Елена в это время докончила свою тарелку и небрежно плюхнула ее на стол.
– Кончишь, скажи Фене, – бросила она мужу на ходу, – она подаст тебе картофельную запеканку. А я бегу! Некогда!
– Куда ты несешься? – У меня в шесть совещание по поводу клуба домработниц в районе.
Кудрин пожал плечами:
– Не понимаю. Сейчас без пяти пять... До райкома ходьбы четверть часа. Неужели нельзя нормально пообедать и спокойно пойти. Даже если ты опоздаешь на пять минут, ни клуб, ни совещание от этого не погибнут. Я тоже бываю на всех совещаниях и заседаниях, где мне нужно бывать, но не устраиваю из своей жизни бега в колесе и не организую голодовку. А у тебя последнее время сплошная истерика. Ты кидаешься то туда, то сюда. Не думаю, чтоб от такой бестолковой сумятицы выигрывало дело.
Елена посмотрела на него холодным, отчужденным взглядом. Схватила с подоконника смятую шапочку и, небрежно нахлобучив ее на макушку, сухо кинула Кудрину:
– Я еще не собираюсь облениться спать на заседаниях в кресле и нагуливать жир. Я горела на работе, горю и сгорю, и ты меня не переучишь.
Кудрин вспыхнул:
– Переучивать тебя я не собираюсь. Я не реформаториум для дефективных. Гореть на работе прекрасно, но гореть надо с толком, чтобы огня на дольше хватило.
– Ну и гори с расстановочкой ... А мне предоставь поступать по-моему. Пожалуй, ты скоро в свободное время напишешь новый Домострой.
Она резко повернулась и вышла, Кудрин со злостью отодвинул тарелку. В последнее время он с трудом сдерживал раздражение в разговорах с Еленой. Упрямая и туповатая ограниченность мьшления, которая отличала ее и раньше, стала теперь почти нестерпимой. Она выработала себе раз навсегда несложный кодекс поведения, в котором, как в школьном расписании, были твердо установлены стандартные правила на все случаи жизни. Этот кодекс предписывал в такой-то ситуации делать и говорить то-то, в другой иное, не допуская никаких отклонений. Он напоминал Кудрину те нелепые книжонки, которые в дореволюционное время высылались за пять семикопеечных марок и учили правилам хорошего тона в высшем обществе. Правила, выработанные для себя Еленой, были таким учебником хорошего тона для партийной среды, и то, что эти правила были. так уныло скучны, приводило Кудрина в раздраженное состояние.
Эти правила отнимали у Елены способность к самостоятельной, смелой, ищущей мысли, широту взглядов. Она ни к чему не стремилась и пассивно шла по течению, довольствуясь своим примитивным катехизисом. Жизнь, которую она сама для себя создала, вполне удовлетворяла ее небольшие потребности.
Кудрин встал из-за стола. Ему сразу расхотелось есть после этого разговора. Вошедшей с запеканкой домработнице он приказал подать чай в кабинет. В кабинете он опустил на окнах плотные шторы и зажег настольную лампу под зеленым стеклянным абажуром. Он любил свой кабинет, этот зеленоватый ласкающий полусвет, запах табачного дыма и горячие разговоры с товарищами о путях революции, о боевых делах и задачах партии, разговоры сердечные, открытые и прямые, без дипломатических извилин и недомолвок.
Каждый раз после таких споров Кудрин чувствовал себя освеженным и обновленным, словно выкупался в кипящем холодном нарзане.
Опустив шторы, он прилег на диван и взял со столика номера новых журналов. В немецком ежемесячнике «Die Glassindustrie» его внимание привлекла статья о новых достижениях в области механизации стеклодувного дела. Статья была иллюстрирована снимками огромных, похожих на живые существа, остроумных машин, которые выдували сразу по нескольку десятков бутылок, вдавливали донышки, обрезали горла и отправляли на конвейер. Машины давали громадную экономию рабочей силы, почти вдесятеро повышали производительность труда, а главное, освобождали армию стеклодувов от каторжной работы, которая влекла за собой в массовых масштабах смертельную эмфизему легких и туберкулез.
Кудрин протянул руку и снял с наддиванной полочки словарь. В эмиграции он хорошо овладел французским языком, немецкий же знал слабо и без словаря читать не мог, а статью ему прочесть было нужно, так как именно эти машины были заказаны для треста в Германии и туда уже выехала комиссия для приемки.
Домработница принесла чай, и Кудрин с удовольствием выпил крепкую духовитую жидкость. Дочитав статью, он вспомнил, что завтра выходной день, можно не ехать на работу и провести время по своему желанию. Он встал с дивана, подошел к окну, отодвинул штору и заглянул вниз. Уже совсем стемнело, двор утонул в фиолетовой мгле, и от этого печального полумрака мысли Кудрина внезапно опять вернулись к шамуринской гравюре.
Ему стало не по себе. Он попробовал проанализировать: что, собственно, так неудержимо привлекло его в этой вещи, явно чуждой всему его миросозерцанию, враждебной по своему упадочно-мистическом направлению, и пришел к убеждению, что сила воздействия гравюры объяснялась высоким мастерством автора. глубокой правдивостью и искренностью, художественным совершенством ее техники заслонявшими неприемлемое для Кудрина содержание.
И как только это стало ясно ему, у него возникло желание еще раз посмотреть на гравюру, чтобы проверить свое впечатление. И он решил поехать завтра снова на выставку и взять с собой Елену.
«Нужно хоть на несколько часов оторвать ее от повседневной будничной возни в замкнутом кругу. Это будет ей только полезно». Он опять сел на диван и углубился в журналы.






