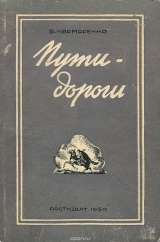
Текст книги "Пути-дороги"
Автор книги: Борис Крамаренко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава VI
Максим первые дни почти не выходил из дому. Раненная осколком гранаты голова ныла тупой, нудной болью. По ночам снился фронт. Колючая проволока. Грязные окопы…
Просыпаясь среди ночи, Максим долго лежал с широко раскрытыми глазами, боялся заснуть. Днем забирался в садик и сидел часами в густом малиннике, наблюдая суетливую птичью жизнь.
Шли дни. Однажды, зайдя в кухню, он увидел, что мать разложила на столе мучной чувал и сосредоточенно вытряхивает из него остатки муки.
Максима больно кольнуло в сердце. Взяв из рук матери мешок, он свернул его и молча вышел из хаты.
На улицах было пустынно и тихо. Он задумчиво смотрел на дворы и обочины дорог, до того заросшие бурьяном, что из–за него не видно было заборов.
Завернув на боковую улицу, Максим увидел у открытых настежь ворот Игната Колоскова. Сидел Игнат прямо на земле, обтесывая топором новый столбик, который он держал между ногами.
Максим подошел ближе.
Здорово, дядя Игнат! – И тут только Максим увидел, что левая нога Игната отрезана по самую коленку.
Игнат, сумрачно взглянув на Максимову забинтованную голову, спросил:
– Ты что же, совсем, что ли?
– Почти что и совсем… – сказал Максим. И, смотря на двухаршинный бурьян, задумчиво протянул: – Ишь, ведь, как позарастало…
– Хозяев нету, а бабы сами что могут сделать? Они, брат, эти годы и так, словно каторжные, маются…
Он кивнул на мешок:
– Ты что, уж не к Буту ли идешь? Ежели к Буту, да еще за мукой, лучше не ходи – не даст. Да и мельница у него на ремонте.
У Максима дрогнули губы:
– На ремонте, говоришь? Давно?
– На той неделе остановилась.
Максим опустил голову:
– Что ж, придется к Богомолову пойти. Может, он даст, да, видно, и внаймы к нему придется наняться.
– Под работу, может, и даст, а так и не проси… Я вот третьего дня у него был. «А что ты, говорит, в этом году сеял?» А как сеять, ежели я вторую неделю только дома, а пай мой Бут за коня забрал?
Положив топор, Игнат вытер рукавом рубахи мокрое от пота лицо.
– Коня подо мной убили, а сам вот калекой на всю жизнь остался. – Он выругался и снова взялся за топор. – Небось, как на войну провожал, так он нам, помнишь, какую речь говорил: «Герои, за святую Русь…», а теперь морду воротит. «Ежели тебе пшеница нужна, могу твою корову купить…». А как ее продать, если она сейчас всю семью кормит?..
Подходя к богомоловской лавке, Максим увидел толпу женщин. Они окружили приказчика, качающего из железной бочки керосин.
Обитые железом ставни и двери были заново выкрашены и блестели на солнце яркой зеленью. В лавке было душно и пахло дегтем от подвешенных к потолку хомутов. За широким прилавком суетилась богомоловская дочка, отвешивая пшено и муку стоящим в очереди женщинам.
За стеклянной перегородкой конторки хозяин разносил старшего приказчика. Его густой голос отдавался у Максима в ушах, усиливая утихшую было к утру головную боль.
Максим, подойдя к конторке, замялся около двери.
Ты меня такой торговлей по миру пустишь! – кричал хозяин. – Виданное ли дело – за месяц половину товара в долг раздать!
– Так отдадут же, Филипп Павлович… – Голос приказчика звучал смущенно и неуверенно.
Богомолов с досадой бросил конторскую книгу на стол:
– Когда еще отдадут, а ведь товары с каждым днем дорожают. Чтоб ни на одну копейку в долг не отпускал! Понял?
Максим, поймав на себе насмешливый взгляд богомоловской дочки, с досадой толкнул ногой дверь в конторку.
Богомолов повернулся к нему всем корпусом. Его глаза впились в свернутый мешок:
– Что надо?
– Слыхал я, Филипп Павлович, что вам на мельницу работник нужен.
Богомолов, рассматривая Максима, словно прикидывал что–то в уме:
– Надо было, да уже я пленного австрийца взял.
Максим молча повернулся к двери.
– Постой, куда торопишься? Ты сколько у Бута получал?
– Двенадцать рублей.
Богомолов, разгладив бороду, подошел к Максиму.
– Ну, ладно. Я защитникам отечества завсегда рад помочь. – И, повертываясь к приказчику, спросил: – Филимон, сколько за его матерью числится?
Тот, мусоля пальцы, начал перелистывать толстую книгу.
– Десять рублей семьдесят три копейки, Филипп Павлович.
– Ну вот, сам видишь – навстречу бедным иду, товар даю в долг.
Максим молчал. Богомолов хлопнул его по плечу:
– Оставайся! Что ж с тобой делать? За двенадцать, как у Бута.
Максим замялся:
– Так то ж в прошлом году было, Филипп Павлович, вздорожало теперь все…
Богомолов недовольно поморщился:
– Ну, как хочешь… Ты вот раненый. Какой с тебя работник? А я беру. Думаешь, ты мне нужен? Для души своей делаю. Понять это надо!
Максиму хотелось уйти, но, вспомнив, что дома нет муки, он нерешительно переступил с ноги на ногу.
Богомолов взял из рук Максима мешок и кинул его приказчику.
– Ты, я вижу, за мукой пришел… Насыпь ему, Филимон, пуда два размолу. – И когда приказчик уже вышел в лавку, крикнул ему вдогонку: – Да не забудь, запиши в счет жалованья!
Максим повернулся к двери, но в это время в конторку вошла старая Панчиха, у которой сына убили на германском фронте. Увидав Богомолова, она с плачем кинулась ему в ноги:
– Не губи, кормилец ты наш! Не оставляй детей малых без крова!
Богомолов отошел за большой конторский стол. Панчиха на коленях поползла следом:
– Отец ты наш, не губи! Ведь мой Гришка на тебя шесть лет работал! Если б он живой был, да неужто бы этих одиннадцати пудов не отдали бы? Не меня пожалей – дети голодные сидят, а ты хату отобрать хочешь…
Она в отчаянии сорвала с головы платок. Черные с проседью волосы в беспорядке рассыпались по плечам, а полные слез глаза с мольбой смотрели на Богомолова:
– Смилуйся!..
Богомолов поднял голову:
– Эй, кто там есть?
В конторку вошел работник.
– Чего стоишь, как бревно? Гони ее вон!
Максим, стиснув зубы, выскочил из конторки.
По дороге домой у него от тяжести кружилась голова, звенело в ушах, но он шагал и шагал, крепко сжимая руками конец чувала…
Июньской ночью поезд привез в Каневскую Луку Чеснока. Но прошло уже несколько дней, а Луку еще никто не видал ни на улице, ни во дворе. И что самое удивительное – не слышно было из его хаты звуков гармошки, с которой он обычно не расставался. На неотвязные расспросы соседей Дунька, жена Чеснока, неохотно отвечала, что он болен и, отворачиваясь, со слезами уходила в хату.
На пятый день Лука показался на улице. Левый пустой рукав его щегольской когда–то черкески был выше локтя заколот английской булавкой. Плечо неестественно топорщилось вверх.
Провожаемый любопытными взглядами соседок, шел Лука посредине дороги, опустив голову и ни на кого не глядя, словно боялся, что его кто–нибудь пожалеет…
После Чеснока приехало еще несколько казаков и иногородних, изувеченных на германском и турецком фронтах.
Шла вторая неделя после отъезда Андрея, а Марина все еще жила у Семенных.
Григорий Петрович понимал всю неловкость своего положения, но не решался отослать Марину к ее тетке и откладывал это со дня на день.
В воскресенье, встретясь с ним в церкви, атаман спросил:
– Никак, сына женил?
– Не успел, Семен Лукич.
Свинцовые глаза атамана с укоризной уставились на смутившегося старика:
– Это что ж выходит: Гринихину дочку сыну в полюбовницы взял?
Краска стыда залила лицо Григория Петровича. Гневом и обидой прозвучал его голос:
– Стар я, Семен Лукич, чтоб мне такие слова слушать. Не моя вина, что сыну двух дней дома побыть не дали…
К атаману подошел богатый казак Сушенко, церковный староста. Подавая атаману просвиру, он с притворной ласковостью проговорил:
– Здравствуй, Петрович! Что, проводил сына–то? Бедовый он у тебя! На старого, всеми уважаемого человека руку поднял…
Атаман перебил Сушенко:
– На сына его я отдельскому атаману донесение послал. За такие дела кресты посымают и в рядовые разжалуют. А девка чтобы завтра же у матери была!
Всю дорогу от церкви Григорий Петрович шел угрюмый, не замечая поклонов встречных, а придя домой, послал Василия к Богомолову просить линейку.
Марина, узнав, что ее собираются отвезти к тетке, стала нехотя собираться.
Во дворе хлопнула калитка. Григорий Петрович взглянул в окно. По двору важно шествовала Гриниха, боязливо косясь на Жучку и придерживая рукою новую шелковую юбку.
Марина, увидев мать, бросилась в сени и взобралась по лестнице на чердак.
Гриниха вошла в кухню, окинула ее быстрым взглядом и набросилась на Григория Петровича:
– Куда дочку мою дел? Зараз же отдай дочку, а не то ославлю на всю станицу! И где ж это видано – сперва сын твой меня осрамил, а теперь и ты взялся!
Григорий Петрович, стоя у печки, тихо пробурчал:
– Сама себя срамишь на старости лет…
Гриниха яростно замахала перед его лицом руками:
– Говори, где ты ее прячешь? Все одно, люди ее в твоем дворе видели!.. Добром не отдашь, атаман заставит!
Лицо Григория Петровича стало суровым:
– Вот что, Власовна! Мы с твоим Иваном друзьями были – вместе у покойного Бута батрачили. Да и ты, сдается мне, частенько там работала. Помнишь, как мы с Иваном тебя от Павла Бута обороняли?
Он взял Гриниху за руку и усадил на лавку. Сел напротив нее и глухо проговорил:
– Когда твой Иван умер, кто к тебе пришел – Бут или я? Кто от своих детей кусок отрывал да твоим носил? – Его голос зазвенел горькой обидой. – Мне твои дети вроде как родными стали.
– А я им, по–твоему, мачеха, что ли? Что ж я, своей дочке счастья не хочу?
Гриниха хотела встать, но Григорий Петрович удержал ее на месте:
– Больно мне смотреть, Глаша, как ты над дочками глумишься. Если б Иван живой был, всыпал бы он тебе хороших плетюганов! Богатства тебе чужого захотелось? Да они тебя через год и на порог не пустят, внука понянчить не дадут…
Гриниха сидела, низко опустив голову. И в самом деле, что такое она для Бутов? Батрачка, которая ряд лет гнула спину на их земле. Да разве они признают ее когда–нибудь за свою родню? Да и Марина… Чем будет она в их доме?
Эти мысли, впервые пришедшие ей в голову, настолько смутили ее, что она не нашлась, что возразить Семенному. Она по–своему любила Марину, и ей искренне хотелось для нее счастливой жизни. А вдруг Марина в самом деле на всю жизнь станет батрачкой в семье Бутов? Старая Гриниха хорошо знала суровый нрав Бута, и ей стало страшно за дочь…
– Довольно с ума сходить, Глаша! – с особой лаской продолжал Григорий Петрович. – Не первый год друг друга знаем. – И, улыбаясь, посмотрел ей в глаза: – Будем сватами, Глаша! Давай руку–то. Ну, давай, давай! Не захотела за меня выходить, так дочку теперь за сына отдай.
Смущенно улыбающаяся Гриниха нерешительно протянула руку.
– Вот так–то лучше, – весело сказал Григорий Петрович.
Затем встал и крикнул в сени:
– Эй, Маринка! Вылазь! Куда спряталась–то?
Максим пришел с мельницы усталый, и, не раздеваясь, повалился на койку. Дети бегали во дворе, мать стирала у Богомолова белье. Кроме Максима, в доме никого не было.
В комнату, сгибаясь под притолокой, вошел Сергеев:
– Спишь, что ли?
Максим сонно повернулся и зажег спичку.
– Не трудись, Максим! – негромко сказал Сергеев. – Говорить и без огня можно.
Портной Сергеев жил в станице уже шестой год, но никто не знал, откуда он появился. Был он человеком скромным. Жил тихо, пьяным его никто не видел, и все скоро привыкли к его высокой фигуре и даже кличку ему дали – Цапля.
Но при нем называть его так не решались даже ребятишки: было в его серых глазах что–то, мешающее обходиться с ним, как с другими иногородними.
Максим, сидя на койке, ожидал, когда Сергеев заговорит.
– Ты что же, с австрийцами воевал? – Сергеев достал из кармана кисет.
– Нет, с немцами.
– По чистой домой пришел?
– Через год на комиссию являться. На переосвидетельствование. – Максим засмеялся. – А через год–то войны не будет.
– Ты так думаешь?.. Так… Но кто ее кончит, а?
Максим не ответил. Сергеев, чиркая спичкой, проговорил:
– Война – она, брат, сама не кончается. Кому–то кончать ее надо.
– Слыхали мы это на фронте, – нехотя произнес Максим.
– Что ж, не веришь?
– Чего не верить? Да только не все понимают это. Солдат – он темный, а офицеры свое гнут, – с ожесточением добавил Максим.
– Так… значит, некому, говоришь? Ну, чего молчишь? – Огонек папиросы вспыхнул ярче, осветив на миг рыжеватую бороду и пару строго смотрящих глаз.
Глава VII
Двери кабинета кубанского войскового наказного атамана были плотно закрыты.
Высокий худой жандармский полковник говорил:
– Мое глубокое убеждение, господа, что несчастье, которое обрушилось на Россию, принимает длительный характер. Иными словами, господа, в России начинается ре–во–лю–ция, – последнее слово полковник, зло подчеркивая, произнес нараспев.
Атаман, сидевший около письменного стола, отпил глоток кофе.
– Сергей Николаевич слишком мрачно смотрит на вещи. Революция, господа, не всегда означает свержение существующего строя. История знает много случаев, когда царская власть после революционного взрыва только усиливалась.
Сделав еще пару глотков, он продолжал:
– Имея кое–какой опыт в прошлом, я думаю, что мы сумеем подавить любую революцию. Но для этого, господа, необходимы два условия. Первое – это твердая рука там, в Петрограде. Второе – это армия. Надо любыми усилиями сохранить ее за собой. С кем будет армия, у того будет и победа.
Начальник гарнизона, обрусевший немец, процедил сквозь зубы:
– Фронт разваливается, а гарнизоны там, где уже начались беспорядки, переходят на сторону восстающих.
Атаман снисходительно улыбнулся:
– Вы правы, полковник. Правы, но не до конца. Еще очень многие полки убереглись от разложения и самое главное – это казачьи полки… Кроме того, у меня есть срочное сообщение, за достоверность которого я ручаюсь: сообщение о новом государе.
– Кто же он, ваше превосходительство? Михаил? – взволнованно спросил адъютант атамана есаул Богданов.
Атаман, смерив его пренебрежительным взглядом, расправил седую бороду.
– Великий князь Николай Николаевич… Его знает вся Россия. За ним пойдет армия. Только он один при теперешней разрухе сможет твердой рукой править Россией.
В соседней комнате послышались спорящие голоса.
– Его превосходительства нет дома, – убеждал кого–то женский голос.
– Доложите его превосходительству, что очень нужно… Иначе я сам войду.
– Виктор Сергеевич! Взгляните, кто там?
Богданов, позванивая шпорами, вышел в боковую узкую дверь, ведущую в приемную… Увидев его, пристав, уже снимавший короткую офицерскую шинель, сунул опять руку в рукав. Горничная вопросительно смотрела на адъютанта.
– Варя, идите к себе, – сказал Богданов.
Пристав, заглушая до шепота свой простуженный бас, взволнованно наклонился к нему:
– Рабочие… к центру идут… с красными флагами. – И совсем тихо добавил: – «Долой царя», «Долой министров»… на флагах–то. Казаков бы, Виктор Сергеевич… хоть сотенки три…
Он умоляюще смотрел на Богданова.
Если сейчас двинуть на толпу казаков, то восстанет весь гарнизон, да и сами казаки–то… неизвестно кого разгонять захотят… Пока, понимаете ли, пока нельзя принимать старых мер, – тихо ответил Богданов.
А с городовыми что мне делать, Виктор Сергеевич? – теми, что на постах стоят? – пристав удрученно опустил голову.
Глаза Богданова заискрились смехом:
– Красная материя у вас есть?
Есть, Виктор Сергеевич. На той педеле при обыске отобрал.
Ну так вот, слушайте: наделайте из нее красных повязок и наденьте их на рукава вашим постовым. Поняли?
Пристав обиженно поджал губы:
– Шутить изволите, Виктор Сергеевич, а мне, видит бог, не до шуток.
– Я вам серьезно говорю.
И, взяв его за борт шинели, Богданов зашептал ему что–то на ухо. Лицо пристава прояснилось. Он схватил руку Богданова и благодарно потряс ее.
– Золотая у вас голова, Виктор Сергеевич! – И, с таинственным видом указав пальцем на потолок, шепотом спросил: – А что с пулеметами делать будем?
– Тс-с! – Богданов приложил палец к губам.
Совещание у войскового атамана кончилось. Гости через боковую дверь по одному уходили из атаманского дворца. В кабинете остались лишь атаман да начальник гарнизона.
Синеватый табачный дым медленно плыл в открытую форточку.
Полковник, почувствовав на себе пристальный взгляд светлых, холодных глаз, заерзал в кресле.
– Я не могу поручиться за гарнизон, ваше превосходительство. К тому же вы знаете, что я, с моей строгостью…
– Да, я знаю, полковник, что вас ненавидят не только ваши солдаты, но даже мои казаки. Кстати… скажите, что это за история с солдатом, которого вам прислала моя жена?
Полковник замялся:
– Видите ли, ваше превосходительство… Инна Васильевна прислала ко мне из благотворительного комитета солдата с просьбой отправить его домой по болезни. Этот мерзавец оказался дезертиром. Я его и посадил в карцер…
– Ну и что же?
– Видите ли… он в карцере в ту же ночь и умер…
Атаман поморщился:
– Мне доложили, что эта глупая история взволновала людей в гарнизоне. Ведь, говорят, он от побоев умер… Вам, полковник, необходимо сейчас же провести совещание с офицерами гарнизона и самому посмотреть, что делается в частях.
– Но…
– Что «но»?
– Я затрудняюсь, ваше превосходительство, идти к солдатам…
– Это еще что? Боитесь появиться в ротах?
Полковник закусил губу:
– Ваше превосходительство, при теперешнем положении можно ожидать всего.
Он встал, подошел к окну и нервно забарабанил пальмами по стеклу. Во дворе бродили группами казаки атаманского конвоя. Полковник резко повернулся. Его холеное лицо приняло обычное, чуть надменное выражение.
– Впрочем, я сделаю это, побываю в частях, а с офицерами совещание проводил вчера. – Помолчав, он решительно добавил: – Офицеры готовы выступить на подавление могущих возникнуть беспорядков.
– Все офицеры?
Полковник удивленно посмотрел на атамана:
– Конечно, все. То есть те, кого я звал на совещание.
Атаман встал и, дружески протягивая ему руку, уверенно проговорил:
– Благодарю вас, полковник. Вполне полагаюсь на вас. Свои же казачьи согни я, по возможности, изолировал от внешней среды. Надо быть готовыми ко всему…
Маленький кирпичный домик не мог заслонить собой большого старого сада.
По узкому мокрому тротуару к домику шел человек в черной кубанке, в серой солдатской шинели без погон. На плече он нес узел, завернутый в черную бурку и стянутый ремнем. Взбежав на деревянное крылечко, человек несколько раз нетерпеливо дернул ручку звонка. За дверью послышались шаркающие шаги, и, когда она отворилась, в полумраке показалась старушка, кутающаяся в темный полосатый плед.
Она удивленно посмотрела на солдата, и вдруг все ее лицо сморщилось, а из глаз хлынули слезы.
– Мама!
– Володечка! Родной ты мой… – Неловко обхватив непослушными руками наклонившуюся голову сына, она с рыданиями забилась у него в руках…
Они прошли в кабинет отца.
С портрета на Владимира Кравченко смотрят еще мололодые, слегка грустные глаза человека с высоким спокойным лбом.
– А как он перед смертью хотел тебя, Володечка, видеть!
Бережно обняв мать, Кравченко усадил ее на старенький диванчик и сел рядом.
Когда он почувствовал себя плохо, телеграмму тебе, Володечка, послать велел… – со скорбью в голосе продолжала мать. – Перед смертью в себя пришел… Заплакал… Говорить уже не мог… Все на стенке пальцем твое имя писал да на дверь глазами показывал. Дескать, «посмотри, может, приехал»…
Мать вновь заплакала, судорожно прижимая конец старенького полосатого пледа к лицу…
Кравченко допоздна сидел в кабинете отца, перебирая его бумаги.
…Утром он решил проведать своего друга – есаула Богданова.
Надев поверх черкески бурку, Владимир вышел на улицу. Ночью выпал снег и сверкал в лучах утреннего солнца голубоватым блеском. На крыльце атаманского дворца Кравченко загородили дорогу два казака, но, признав в нем офицера, вытянулись и пропустили его вперед. Скинув в вестибюле бурку, он подошел к огромному зеркалу. Оттуда на него глянул молодой, стройный офицер со смуглым гладко выбритым лицом и улыбающимися синими глазами.
– Вот неожиданно! А мне доложили, что какой–то приезжий хочет меня видеть.
К Кравченко подходил, протягивая ему руки и блистая ослепительно белыми зубами, есаул Богданов.
– Ты что, прямо с фронта? Это очень кстати.
Богданов дружески взял Кравченко под руку и повел
его к широкой мраморной лестнице, застланной красным ковром.
– Пойдем, я тебя представлю атаману. Расскажешь ему новости.
Кравченко, идя рядом с Богдановым, с любопытством оглядывал его новенькую черкеску с золотыми чеканными газырями, выше которых блестел офицерский «Георгий».
«Вот как, в тылу «Георгия» получил!» – промелькнула у него мысль.
Атаман сидел за огромным столом, заваленным бумагами. Устало подняв голову и увидев сперва только Богданова, он хотел было снова приняться за чтение бумаг, но взгляд его остановился на незнакомом офицере. Кравченко вытянулся. Богданов поспешил представить его:
– Подъесаул Второго Запорожского полка, ваше превосходительство! – И, значительно посмотрев на атамана, тихо добавил: – Только что приехал с фронта.
Лицо атамана несколько прояснилось, а в холодных серых глазах промелькнуло нечто похожее на улыбку:
– Очень рад, есаул! Итак, вы приехали с фронта?
– Я ехал к больному отцу, ваше превосходительство, – покраснел Кравченко, поймав себя на том, что, отвечая атаману, он словно оправдывается в чем–то.
– Кто ваш отец?
– Он умер, ваше превосходительство… Он здесь учителем музыки был.
– Да… жаль, жаль… Ну, как дела на фронте? Каково настроение казаков?
– Казаки, ваше превосходительство, очень утомлены войной… – Кравченко замялся.
Богданов стоял тут же около стола и ободряюще смотрел на Владимира:
– Говори откровенно его превосходительству все, что знаешь.
Кравченко продолжал:
– Все поезда и станции забиты больными, ранеными и дезертирами. Я насилу добрался.
Атаман рылся в ворохе телеграмм. Не отрывая от них взгляда, он строго спросил:
– А как дисциплина?
– Перед моим отъездом еще кое–как держалась. Теперь же, когда фронт узнал об отречении…
– Да, да… Это огромнее несчастье отразилось в первую очередь на фронте, – в голосе атамана зазвучали грустные нотки.
Богданов тихо, почти шепотом спросил:
А скажи, это правда, что на фронте убивают офицеров?
Кравченко, поеживаясь, как от холода, опустил голову: – Да, правда. Были случаи. Солдаты и даже казаки очень озлоблены.
Атаман, не найдя нужной ему телеграммы, гневно скомкал весь ворох и бросил его на пол:
– Мерзавцы! Не хотят воевать да еще, видите ли, они же и озлоблены!
Нервно вскочив, он стал быстро ходить по кабинету.
Кравченко поднялся с кресла, ожидая разрешения уйти. Собрав брошенные атаманом телеграммы, Богданов приводил их в порядок. Атаман остановился посреди кабинета и затопал ногами:
– Полевые суды! Вешать здесь, в тылу, и расстреливать там, на фронте! Немедленно, сейчас! Иначе будет поздно!
Вздрогнув от крика, Кравченко растерянно смотрел на атамана. Богданов вытянулся, словно ожидая приказа.
Успокоившись, атаман подошел к столу и грузно опустился в кресло.
– Садитесь, есаул! Знаете ли, я не могу равнодушно об этом говорить…
Богданов щелкнул шпорами:
– Каждый честный офицер приходит в бешенство от всего этого, ваше превосходительство!
Кравченко молчал. Атаман посмотрел на Богданова. Тот вытащил из кармана маленький изящный блокнот и стал за атаманским креслом.
Атаман нагнулся через стол к Кравченко:
– Что вы думаете, есаул, делать в городе?
– Не знаю, ваше превосходительство. Очевидно, скоро возвращусь на фронт.
– Слушайте, есаул… – Голос атамана снизился до шепота. – У меня есть точные сведения, что, хотя государь император Николай Александрович отрекся в пользу Михаила, но на престол вступит великий князь Николай Николаевич. И тогда – вы понимаете меня, есаул, – будут особенно нужны преданные престолу и родине офицеры. Их заслуги будут щедро вознаграждены…
Кравченко с тоской посмотрел в сторону. Разговор с атаманом стал тяготить его, но уйти было нельзя. Атаман продолжал:
– Вы видели вчерашнюю демонстрацию? Эти мерзавцы с красными флагами подходили к моему дворцу.
Богданов вмешался:
– Не только подходили, но даже бросали в окна камни, ваше превосходительство!
Атаман недовольно покосился на Богданова.
– Так вот, я обращаюсь к вам как к честному русскому офицеру. Готовы ли вы исполнить свой долг?
Владимир поднялся. Его стал раздражать этот надменный старик.
– О каком долге вы говорите, ваше превосходительство? Мой долг – вернуться на фронт.
Богданов снова вмешался в разговор:
– Не наивничай, Владимир. В городе возможны крупные беспорядки. Мы стягиваем к городу надежные казачьи части… его превосходительству нужны преданные, храбрые офицеры, а на фронт поехать успеешь.
Владимир твердо ответил:
– Я завтра уезжаю в свой полк.
Раздался резкий телефонный звонок. Богданов бросился к телефону:
– Алло… Что? Не слышу. Гарнизон? Кто говорит? Где начальник гарнизона? Кто арестовал? Какой совет?..
Богданов, побледнев, бросил трубку.
– Александр Алексеевич! Восстал гарнизон… Солдаты вышли на улицу… Начальник гарнизона арестован каким–то советом. Солдаты направились к казачьим казармам…
В открытую форточку ворвался порывистый мартовский ветер. Подхватив телеграфные бланки, он разбросал их по полу.
Атаман, держась за сердце, встал, нижняя губа его отвисла, обнажив неровный ряд желтых зубов.
В комнату вбежал начальник конвоя – высокий, бородатый вахмистр:
– Ваше превосходительство!.. К дворцу народ идет… с красными флагами. Что прикажете делать? Я полусотню на коней посадил.
Атаман безнадежно махнул рукой:
– Что ты со своей полусотней сделаешь?
Вахмистр обиженно заморгал глазами. Атаман, как человек, принявший какое–то решение, вдруг выпрямился и уверенно бросил:
– Есаул, соедините меня с казачьей казармой.
Богданов торопливо схватил трубку. Атаман снова повернулся к вахмистру:
– Пулеметчиков по местам! Во двор никого не пускать! Охрану парадного хода и ворот удвоить. До прихода к нам казачьих сотен не стрелять! Иди!.. Ну, Виктор Сергеевич, готово?
– Так точно, ваше превосходительство! Сейчас ответят.
Атаман быстро взял из рук адъютанта трубку:
– С вами говорит наказной атаман. Кто у телефона? Что? Какой еще, член совета?! – Атаман, покраснев от злости, крикнул: – Позвать к телефону дежурного офицера! Как арестован? Что? Все арестованы?..
Атаман растерянно опустился в кресло.
Дергач, выйдя за ворота госпиталя, долго жмурился от яркого солнечного света. Левая рука его была подвязана на черном платке. На тротуаре лежала грязь, смешанная с талым снегом. Бойкие ручьи весело бежали по улицам, а воробьи на крыше дружным озорным чириканьем приветствовали наступающую весну.
Было еще рано, и Дергач, направляясь на вокзал, надеялся попасть в Каневскую до наступления ночи.
Пересекая базарную площадь, он остановился: с прилегающих к базару улиц ветер донес до него обрывки песни. Сотни голосов восторженно сливались в волнующем сердце напеве… Дергач еще в госпитале слышал о том, что где–то, в далеком Петрограде, вспыхнула революция и что царя уже нет, но никто пока ничего толком не знал…
Голоса приближались. Уже можно было уловить отдельные слова:
Смело, товарищи, в ногу!
… грудью проложим себе!..
Покрывая голоса, победно грянул оркестр. Из медных труб лились ликующие звуки музыки. Ровными прямоугольниками на площадь вышли солдаты. Впереди полка, с маузером через плечо, шел среднего роста солдат с большой русой бородой. За ним шагало двое: один – еще совсем молодой прапорщик, другой – пожилой фельдфебель. У всех троих на груди были приколоты красные ленточки.
Позади них шел оркестр, а за оркестром – два молодых солдата несли на древках огромное красное полотнище с крупной надписью:
ДОЛОЙ МОНАРХИЮ!
ДОЛОЙ ВОЙНУ!
– Вот это здорово! – прошептал Дергач, пробежав глазами надпись. – Выходит, что и на фронт можно не вертаться, ежели свобода!
За батальонами вольным, широким потоком двигались толпы народа. Ярко рдели на солнце красные полотнища.
Толпа увлекла Дергача за собой. Так и дошел он с ней до атаманского дворца. Раздалась команда, и оркестр смолк. Батальоны спокойно разворачивались перед дворцом.
Во дворе перед полусотней конвоя растерянно метался на коне вахмистр. Казаки хмуро и испуганно косились на улицу.
Под натиском толпы широкие ворота соскочили с петель, и двор сразу наполнился громким криком и гневными возгласами.
От серых шеренг отделились десятка два солдат и вместе с человеком, шедшим впереди полка, направились к дворцу.
Отобрав у испуганных часовых винтовки, они вошли во дворец и поднялись по лестнице на второй этаж, где был приемный зал.
Командир, толкнув дверь, шагнул вперед. Солдаты гурьбой ввалились следом за ним. В комнате возле письменного стола оторопело стоял атаман. Около него застыли перепуганные офицеры.
Атаман угрюмо уставился на вошедших:
– Что вам угодно, господа?
Молодой безусый солдат тихо толкнул бородатого соседа.
– Из серой скотины–то сразу в господа произвел! – весело подмигнул он.
Пожилой солдат, не отвечая ему, с винтовкой в руке подошел вплотную к атаману:
– Нам угодно вас арестовать!..
Стоявший около самого дворца Дергач увидел на крыльце растерянно озирающегося атамана и двух офицеров, окруженных солдатами. К своему удивлению, в одном из офицеров он узнал Кравченко и радостно рванулся вперед, но был оттиснут толпой в сторону. Случайно он поднял голову. На серые шеренги солдат смотрели из темных глазниц чердака тупые рыла пулеметов.
Дергач понимал, что казаки атаманского конвоя замышляют обстрелять солдат. Он мгновение стоял, не зная, что делать, потом, работая здоровой рукой, изо всех сил стал пробираться к командиру. Тот сначала не мог понять, чего от него хочет раненый казак с узелком в руке, но, посмотрев по указанному Дергачом направлению, быстрым движением руки подозвал фельдфебеля. В следующую минуту рота солдат с винтовками наперевес уже бежала к дворцу.
Со двора донеслись чьи–то крики. Хлопнул одинокий выстрел. Это солдаты разоружали конвой атамана.
Главе VIII
В садах наливаются медовым соком оранжевые абрикосы, а ветви вишняка, словно крупными каплями крови, усеяны спелыми ягодами.
Сидя на опрокинутом бочонке, Григорий Петрович починял шлею.
Из конюшни донесся топот и пронзительный визг лошадей. Григорий Петрович, бросив шлею на землю, вскочил.
– Еще, чего доброго, других коней покалечит, чертяка скаженный, – сердито пробормотал он, скрываясь за дверью конюшни. И вскоре снова появился во дворе, ведя в поводу вороного рослого жеребца с короткой блестящей шерстью. Его вздрагивающие тонкие ноздри жадно хватали свежий утренний воздух.
Всхрапывая, жеребец вскинулся на дыбы, затем, злобно мотнув головой, вырвался из рук испуганного Григория Петровича и понесся по огороду.
– Ишь ты! – изумленно протянул старик, с сожалением глядя, как жеребец безжалостно вытаптывал грядки.







