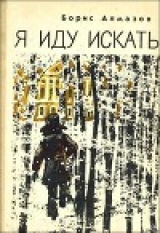
Текст книги "Я иду искать"
Автор книги: Борис Алмазов
Жанр:
Детские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Глава десятая
«ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
Я повесил объявление в Доме журналиста, как велел Георгий Алексеевич, но Форген-Морген не откликнулся. Да и смешно было надеяться! Если бы мне кто-нибудь написал: «Макарона, позвони!», я бы ему так позвонил – у него бы до пенсии в ушах звенело!
У меня даже как-то интерес к поиску пропал. Вот искал я, искал подпись – нашёл, ну и что? «Н. Демидов, С. Иванов, В. Мироненко».
А кто из них кто? Даже неизвестно, как читать, слева направо или справа налево… Ясно только, что в середине с перевязанной головой С. Иванов.
Короче говоря, лично для меня этот поиск окончился двумя двойками по английскому и почти месяцем потерянного времени. И сам я стал какой-то ненормальный: раньше приду из школы, уроки выучу и смотрю себе телевизор или по улицам болтаюсь, а теперь всё мне чего-то не хватает, всё про этих трёх танкистов думаю.
В кружке я, конечно, помалкивал, что мне их фамилии известны. Да и что такое фамилия? Вот если бы их найти да в школу привести – тогда сенсация, а так…
В воскресенье вдруг является Эмлемба.
– Пойдёмте в кино! Пойдёмте в кино! Папа билеты купил! Ждёт около кинотеатра!
Ну, я, конечно, поломался для приличия, – мол, не хочется, времени нет, да и фильм старый – «Парень из нашего города».
Она глаза вытаращила:
– Костя! Вы что! Это же по пьесе Константина Симонова! Это же по нашей поисковой теме! Я вот не люблю про войну смотреть, но иду!
– Про войну самое интересное! – говорю я.
– Не люблю, когда стреляют, – говорит она. – И если кого-нибудь убивают, мне жалко!
– Что, – говорю, – тебе и врагов жалко?
Эмлемба нос повесила.
– Но у них же, наверное, дома детки остались…
– Это – артисты! Они после кино пойдут – и убитые, и живые – вместе чай пить!
– Что я, маленькая? – говорит Эмлемба. – Это я прекрасно понимаю. Но мне не артистов жалко, а тех солдат, которых они играют!
– А тех солдат, – дразню я её, – писатели выдумали!
– Я не про тех, которых выдумали! – раскипятилась Эмлемба. – А про настоящих, которые в жизни были! Вы идёте или нет?
– Иду, иду!
Во даёт! Покраснела! Слёзы на глазах. Маленькая совсем, а спорит.
Только надел пальто – новое дело.
– А тётя?
– Что – тётя?
– Разве ей неинтересно в кино пойти?
Не успел опомниться, она уже Агу приглашает! Я думал, Ага откажется, – что она, девчонка на утренний сеанс идти? Как бы не так! Она как стала носиться по квартире! Как запела! Как защебетала!
Через пять минут выскакивает: шуба мутон – стоит миллион! Шляпа типа «Гулливер в стране лилипутов»! Губы накрасила!
На лестнице два кота драться собирались, как её увидели – чокнулись! По отвесной стене вверх полезли! Ага с Эмлембой под ручку взялись, идут разговаривают две подружки: со стороны посмотреть – здоровенный подберёзовик, а рядом на тоненькой ножке клюковка!
– Костя! Идите к нам!
Я делаю вид, что не слышу. С ними под ручку идти! Ребят из нашего класса встретишь, так не то что Макароной – как-нибудь похуже обзовут!
– Знакомьтесь, – говорит Эмлемба и вся от гордости светится. – Это мой папа!

Ну, тут я вообще! Этот папа почти одного со мною роста! Нашей Аге по пояс. Одни очёчки и нос на фигушку похожий. Со спины как мальчишка. Его запросто сзади можно окликнуть: «Эй, пацан, лишнего билетика нету?»
А фильм был что надо! Потому ли, что я старых газет начитался, то ли, действительно, поставлено хорошо, но только мне всё очень нравилось. Всё по-настоящему! Если бы сейчас ставили, так бы не получилось. Нынешние фильмы смотришь – бой показывают: на переднем плане одна «тридцатьчетвёрка», а дальше современные танки идут. Режиссёр думает, их не видно. Солдаты в атаку идут, а у самих волосы из-под касок торчат… А я документальных фотографий насмотрелся и знаю, что тогда все были наголо пострижены. Раньше не замечал, а теперь мне сразу в глаза бросается.
А в этом фильме всё было старое: и танки БТ с перилами на башнях, и глубокие каски, и длинные гимнастёрки, подпоясанные под грудью, и платья, и причёски, и вообще всё! И артист Крючков замечательно играл: я, когда обратно шёл, всё вспоминал, как он в Испании в плен попал, а фашист его допрашивает, а он: «Я – француз, я не понимаю по-русски!» А немец говорит: «Разве может быть француз с такой рязанской мордой!» Потом они на войне встретились – Крючков ему как даст! Я на него смотрел, и мне казалось, что это он на нашей фотографии с перевязанным лицом стоит. Очень похож: и гимнастёрка такая же, и орден, и вихор из-под бинтов, как будто это Крючкова со спины сфотографировали.
Я, когда домой пришёл, сразу фотографию из стола вытащил и всё смотрел и смотрел, и мне казалось, что это кино про наших танкистов.
Глава одиннадцатая
ПУДИК И КОМПАНИЯ
Но домой-то мы ого когда пришли! Нас Эмлемба с отцом к себе затащили чай пить! Мы долго поднимались по лестнице старого пятиэтажного дома, потом открывали дверь, на которой было много-премного разных кнопок от звонков, а когда открыли, то нам навстречу кинулась такая мохнатая, такая хвостатая, с таким мокрым горячим языком собачина, что я тоже чуть не залаял от радости!
– Это наш Пудик! Моя собака! – сказала Эмлемба. – Он очень умный! Он раньше лаял в коридоре, а соседи ругались, и он сразу перестал, теперь лает только на улице.
– Вау-ва! – подтвердил Пудик.
Эх, если бы у меня была собака! У какой-то девчонки, которая в собаках ничего не понимает, есть Пудик, а у меня ничего нет! И Пудик, наверное, это понял, потому что, когда мы пили чай, он всё время под столом клал мне голову на колени, я чесал у него за ухом и он дрожал от удовольствия и лизал мне руку!
Чаю мы выпили, наверно, стаканов двадцать. Ленка-Эмлемба как стала всякие варенья и печенья носить… У них, оказывается, и бабушка есть – вся тоже маленькая, сморщенная и всё время улыбается. Потом и Ленкина мама пришла – она на «скорой помощи» врачом работает, поэтому и в воскресенье дежурит. Они все такие маленькие и, я подумал, уютные! И все друг другом очень гордятся. Не выпендриваются, а вот именно гордятся. У нас как гости соберутся, так меня сразу к пианино тащат (я до пятого класса мучался – учился): «Давай покажи успехи! И я начинаю наяривать «Весёлого крестьянина». Я это пианино ненавижу! А тут Ленка приволокла гитару, сунула в руки отцу, и они все стали петь! Я никогда не слышал, чтобы вот так все вместе пели. Я и песню эту не слышал. Дядя Гена подкрутил колки у гитары и запел сначала один, а потом они все подхватили негромко:
Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет,
Когда трубу к губам приблизит и острый локоть отведёт.
Надежда, я останусь цел, не для меня земля сырая,
А для меня твои тревоги и добрый мир твоих забот…
Там дальше было ещё про последнюю гранату и про комиссаров в пыльных шлемах… Когда мы домой шли, эта песня всё время пелась во мне.
Вот интересно, как люди живут: совсем не так, как мы! Они даже друг с другом разговаривают не так, как мы. К нам тоже гости ходят, но тогда бы взрослые пошли к родителям, а детей бы усадили за детский стол в моей комнате. И мы бы в комнате бесились! И бегали ко взрослому столу воровать конфеты, и просто бы гоняли по квартире и путались у всех под ногами, чтобы мешать!
А здесь сидели все вместе и даже пели все вместе… Комната маленькая, а стол посередине – большой!
– Какие славные! Какие тёплые люди! – всё восторгалась Ага. – Вот, Костик, обрати внимание: таким людям хочется сделать что-нибудь очень хорошее! «Добро всегда распространяется кругами, и зло тоже, вот вокруг таких людей есть круг добра!» – так говорил мой папа. – Ага ещё что-то говорила, но я поразился её словам: «Мой папа!»
Как это я раньше никогда не думал, что ведь и у нашей Аги были родители – папа, мама. И она была раньше молодой и даже девочкой, бегала в школу, ела эскимо…
Я об этом думал, когда в постели лежал и слушал, как она в столовой поёт. Форму мне к завтрашнему дню отпаривает и поёт. И в её песне, кроме слова «Надежда», ничего не разобрать, только «ля-ля-ля… а-а-а… м-м-м…».
И вдруг к этим звукам примешались ещё какие-то вздохи и всхлипывания. Я выбежал в комнату и увидел, что Ага сидит за столом, подперев щёки кулаками, а по её лицу часто и быстро катятся мелкие прозрачные слёзы.
– Ага! – закричал я. – Что с тобой?
– Ничего! Ничего! – Она отворачивала от меня лицо. – Так. Нервы!
Я никогда не видел, чтобы Ага плакала, и очень испугался.
– Ага! Это я тебя обидел?
– Да нет! Нет, мой мальчик золотой! Детынька моя! Это так после кино. Пирожка хочешь?
– Хочу! – закричал я. – Что после кино?
– Прошлое вспомнилось. Ребята… Вот они такие были, и Коленька мой… Когда на фронт пошёл и форму надел, сразу такой худенький стал, маленький…
– Какой такой Коленька? – не понял я.
– Мой муж. Мы в тридцать девятом году поженились – и сразу война!
– Какая война? Война была в сорок первом!
– В тридцать девятом тоже была война. Война с белофиннами. Он погиб при штурме линии Маннергейма. Я его ночью провожала. Такой холод был… Машины всё шли, шли… Фары потушены. Он как закричит из грузовика: «Лялечка! Ляля, я здесь!» Худой! Одни глаза. И каска белая, и подшлемник шерстяной тоненький. Он мёрз ужасно. А тут ещё одна война, блокада! В наш дом попала бомба, и все фотокарточки пропали, так что у меня ни одной и нет… Много было раньше… Я молодая когда была, очень любила фотографироваться. Коленька специально для этого фотоаппарат купил на свою первую инженерскую зарплату. Замечательный аппарат «лейка»!
Я не знаю, что со мной сделалось, но я обхватил Агу и поцеловал её в щёку. Щека была мокрой и солёной.
– Ну всё! Ну всё! – сказала Ага странным дрожащим голосом. – Спокойной ночи! Надо спать!
Глава двенадцатая
«Я ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СИЖУ НА КАДРАХ!»
Ночью я проснулся, словно меня в бок толкнули.
«Он же заболел! Форген-Морген не откликнулся, потому что заболел! Он же старый! Он должен быть очень старый!»
Насилу я дождался, когда уроки кончились, побежал в Дом прессы, к Георгию Алексеевичу, а он – в командировке! Что делать? Я подумал-подумал и сам в Дом журналиста побежал. Потому что нельзя ни минуты терять! А вдруг он умер? Вот тебе и «не торопись, поиск требует терпения!».
Я мчался по набережной Фонтанки, будто от этого зависела жизнь Форген-Моргена. Хорошо ещё, на парапете был снег и я его немножко похватал, – видела бы Ага!
В вестибюле на видном месте висело моё объявление.
– Тётенька! – едва переводя дыхание, спросил я вахтёршу. – У вас никто не заболел?
– Боже мой! – закричала она. – Что с ним?
– С кем?
– С Вадиком! Ты из школы?
– С каким Вадиком? Я из школы, но никакого Вадика не знаю!
– Как не знаешь? Что с Вадиком Тимофеевым? С моим внуком? Отвечай!
Пока я ей растолковал, что к чему и в чём дело, она три таблетки валидола съела и вокруг нас целая толпа собралась.
– Мне старичок нужен, он у вас работал, а ещё раньше – фотокорреспондентом и подписывался «Ф. М.».
Но вахтёрша ничего сообразить не могла и только открывала рот, как рыба на суше, да всплёскивала толстыми руками, а всякие сбежавшиеся тётеньки обмахивали её платками, газетами, уговаривали. И на меня тоже махали:
– Вот баламут ненормальный, это ж надо так человека напугать!
Но я не уходил и правильно делал! Потому что другая тётенька молча взяла меня за плечо и куда-то повела. Я сначала даже немного испугался, – может, в милицию, чтобы людей не пугал. А при чём тут я? Вахтёр – это тот же часовой! Он должен быть спокойным и хладнокровным! Пусть слабонервных в вахтёры не берут.
Тётенька привела меня в бухгалтерию, надела громадные очки, сразу стала похожа на сову.
– Имей в виду! Ты отнимешь у меня время! – И стала шуршать бумагами и шарить по шкафам. Минут через десять она сказала: – Человек работал! – И опять папки с бумагами туда-сюда, туда-сюда перекладывает. – Значит, получал зарплату! – Еще десять минут шуршала. – Значит, фамилия должна быть в ведомостях. Вот. – Она достала длинный лист бумаги. – Фёдор Иванович Меркулов. Мог подписываться «Ф.М.»? Мог. Нет, это не он. Он в этом месяце аванс получал и молодой. Фома Миронович Моисеев – наверняка мог! Но он объявление видел! Имей в виду, я теряю с тобой драгоценное время! Боже мой! Какое имя: Фемистокл Эпильдифорович Маккавеев!
– Во! – сказал я. – Это он.
– Отпадает. Он тридцать пятого года рождения.
– Почему?
– Фу, какой ты глупый! Ему в сорок первом году было шесть лет, и он никак не мог работать фотокорреспондентом! Что же это получается: раз человек работал, он должен получать зарплату, – значит, должна быть его фамилия в ведомостях… Ах, я теряю время. Одно из двух: или он получал зарплату не у нас, или это не его инициалы! Идём в отдел кадров.
Часа через два в отделе кадров дядька такой толстый, что когда он смеялся, то животом тряс письменный стол, и такой лысый, что в его лысине отражалась настольная лампа со стеклянным зелёным абажуром, прохрипел:

– Четыре гардеробщика, два вахтёра работали по два месяца. Зарплату получали не у нас, поскольку они от управления коммунального хозяйства… и естественно, никаких данных у нас на них нет! Не смей реветь! Орёл! Солдат! Следопыт! Не смей!
– Да не реву я!
– Молодец! Что тебя не устраивает? Вот иди в коммунальное управление. Не смей реветь!
– Да! – сказал я. – Тут и без отдела кадров ясно, что на «Ф.М.» ни одного человека нет!
– Ну и что! – сказал толстяк. – Ну и что! Я тридцать лет сижу на кадрах! Как меня в сорок третьем году на Курской дуге долбануло в позвоночник, так я на кадры был переведён… У меня опыт! Фотокорреспондент – почти художник. Художник – богема! А это значит – псевдоним! А псевдоним к фамилии может никакого отношения не иметь! Псевдоним может быть Туманский, или Грёзин, или Чаровницын, а фамилия при этом Колупаев. Форген-Морген может быть и Корытиным, и Лопатиным…
– Так что же, мне его никогда не найти?
– Не смей реветь! Не смей! Выше голову! Орёл! Чапаевец! Герой! Не реви!
– Да не реву я! У меня просто такое лицо выразительное!
– Молодец! Марсель Марсо! Артист. – Он снял телефонную трубку и набрал номер. – Выразительное лицо, говоришь? Алё! Алё! Тосенька! Лепетунин беспокоит. Тосенька, я тебе сейчас вахтёров зачитаю, посмотри, зайчик, личные дела, не работал ли кто из них фотокорреспондентом. Тут из министерства нагрянули! Да! Для Исторического музея… Но это между нами… – Толстяк подмигнул мне. – Лады! Лады! Жду звоночка. Видишь, что ты со мной делаешь? – сказал он мне, опуская трубку на рычаги. – Я вру людям в глаза! Историк! Министр! Хоть бы фотографию показал? При себе?
Я достал фотографию.
Толстяк поднял очки на лоб и поднёс её к самому носу.
– «Три танкиста! – пропел он грустно. – Три весёлых друга…» Обмундирование новенькое П.Ш. Качественное обмундирование… Орденоносцы. Да, брат, в сороковом году Красная звёздочка не фунт изюма… Орлы! Добровольцы!
– Почему добровольцы?
– Я тридцать лет на кадрах, глаз – алмаз! Молодые.
Я посмотрел:
– Дяденьки как дяденьки.
– Тебе и десятиклассник – дяденька. Дети! К сорок первому году – самые надёжные бойцы! Опытные, обстрелянные! Этого, брат, голыми руками не возьмёшь… Он пороха нюхнул, драться будет до последнего! Кремень! Железные люди! Кабы не они… – Он отдал фотографию и, подперев подбородок кулаком, сказал: – Вот у меня такая троица в глазах стоит. В июле сорок первого – жара. Фашисты прут! Бомбёжка! Перепуталось всё: и раненые, и беженцы, и наступающие части, и отступающие. Кругом болота горят! Ад!
У речушки – берега – топь сплошная, Т-34 и вот такая троица возится. Откуда ни возьмись, командир – не то полковник, не то ещё кто. Машина вся в пробоинах, в грязи. «Кто такие?»
Оказывается, командир танка – кадровый, ещё на Халхин-Голе воевал. «Ну, – говорит полковник или генерал, – тогда объяснять не нужно. Дорога здесь одна, вы – пробка! Сколько продержитесь – на том спасибо. Помните: каждый час – это километр, который мы пройдём». – «Есть держаться!» – отвечают. «Ребята! – полковник говорит. – Нам бы только к Староселью выйти, в укрепрайон, – там и окопы, и боеприпасы, и пополнение! Нам бы в дороге не пропасть!» – «Ясно», – говорят. «Письма пишите». – «Некогда. У нас ещё танк не на ходу».
– Так никто и не узнал, как их звали? – спросил я.
– Почему? – сказал толстяк. Он встал и тяжело прошёлся по крошечному кабинету. – Звали их коротко и ясно: «Советской Родины солдаты»! Вот такие у них были данные. На всех троих!
Он отдал мне фотографию, бережно упрятав её в новую чистую папку.
– А они знали, что погибнут?
– Мы тогда все это знали. Надеялись, но слабо. Даже имён никто не узнает, даже писем не написали!
– Но ведь про них никто никогда ничего не узнает! Их как будто и не было!
– Ты говори, да не заговаривайся! – сказал толстяк. – Как это – не было? Философ! Мыслитель! А Победа? Победа? Эх! Молодёжь! Ты что, в школу за одними пятёрками ходишь или знания получать? Так или не так?
– Знания, – сказал я и почувствовал, что краснею.
Хорошо, в этот момент зазвонил телефон, – может, толстяк и не видел, как я покраснел.
– Так! – закричал он. – Ефим Макарович Трушкин! Годится! А, вот он где! Теперь понятно. Спасибо, зайчик! Спасибо, Тосенька! Ну вот! – сказал он мне. – Вот тебе адрес. Иди! Стремись! Следопыт! Герой! Отличник!
Но когда я закрывал за собою дверь, я увидел, что он, сняв очки, грустно глядит мне вслед.
Глава тринадцатая
ФОРГЕН-МОРГЕН
Адрес был какой-то странный: Парковая улица, ДИП, комната 52. Уж я до этой Парковой ехал, ехал – полвоскресенья. И на метро, и на трамвае, и на автобусе. Приехал – огромное поле, через него дорога в лес ведёт, вдалеке городские новостройки виднеются. Белые дома на фоне голубого зимнего неба, из двух огромных труб пар валит шапками. Куда идти? Хорошо, на столбе белая эмалированная табличка со стрелкой: ДИП. Я вошёл в этот не то лес, не то парк, где было очень тихо и высоко по стволу сосны шастала белка. И долго шёл, пока не упёрся в забор с проходной, в которой никого не было. За проходной дорожка вела к огромному старинному дому с колоннами, а перед ним по всему парку в одиночку и парами ходили какие-то люди. Они двигались медленно. Когда я появился, они все ко мне повернулись, и я даже оторопел: укутанные в шарфики, платочки, в шапках с опущенными ушами, заслонившись от ветра воротниками пальто, по парку гуляли одни старики. Они были все так похожи друг на друга, что даже не разобрать было сразу, кто из них дедушка, а кто бабушка.
– Вы, простите, молодой человек, к кому? – спросил меня старичок. – К Ефим Макарычу? Но они сегодня не гуляют, они в шахматы сражаются! Турнир!
– К кому? – подставил к уху красную, как гусиная лапа, варежку ещё один старичок.
– К Ефим Макарычу! – закричал тот, кто меня спрашивал.
– К кому? – стаскивая варежки, развязывая тесёмки шапки и высвобождая ухо, переспросил он.
– Он к кому? – подставил к уху такую же красную варежку ещё один старичок, очень похожий на гнома.
– К Ефим Макарычу! – закричал тот, кто меня спрашивал.
– К кому?
– К Трушкину…
– Да к Трушкину, не ясно, что ли… – сказала толстая бабушка. – Глухой, как пятка, а спрашивает! А извините за любопытство, вы ему кем приходитесь?
– Следопыт! – сказал я. – Красный следопыт. Факт мне один выяснить нужно.
– Следопыт! – зашуршало за моей спиной. – Ну, ясное дело! Кто же не знает! – Старики со всего сада собрались толпою и медленно шли сзади нас.
– Что за демонстрация? – строго сказала вышедшая на крыльцо тётка в белом халате. – Что это ещё такое?
– Это к Трушкину, к Ефим Макарычу следопыт пришёл…
– Ну и что? – сказала тётка. – А ну гулять, гулять всем. Быстренько, быстренько, пока хорошая погода, всем гулять. – Кто тебя пропустил? – спросила она меня.
– Никто.
– Вот я дам сторожу! – сказала тётка. – Взбаламутят моих, а потом всю ночь сердечные приступы. Идём.
Она решительно взяла меня за плечо и повела по коридору.
– Найдите Ефима Макарыча и приведите в мой кабинет, – распорядилась она.
– Да я бы сам… – заикнулся я.
– Нечего тебе по палатам ходить! Раздевайся! – всё так же строго приказала она мне у себя в кабинете.
В кабинет вкатился маленький старичок в пижаме, с остриженной наголо головой и жёлтым личиком. Он всё время подмигивал и улыбался.
– Здрас-с-с, Мария Степановна.
– Ефим Макарыч! – сказал я. – Это ваша фотография?
Он схватил снимок, поднёс его к самому носу.

– Моя! Вот мой штамп «Ф. М.» – Форген-Морген! Это я – Форген-Морген! Это, знаете, когда я стал работать, ещё при нэпе, то у моего хозяина было ателье, которое называлось «Фотограф-моменталист»! На всех снимках мы ставили вот эту маленькую печать «Ф. М.». У нас у каждого – нас пять человек работало – была такая печать, и мы были обязаны на все снимки её ставить, это был фирменный знак. О! Фирменный знак – большое дело! Хозяин дорожил фирмой! Это большое дело! Фирменный знак! О! Да! Это да!.. Так о чём мы говорили?
– Про то, как вы стали Форген-Моргеном.
– А… – заулыбался Ефим Макарович. – Вот когда меня первый раз напечатали, нэп уже кончился, мне выписали гонорар за работу и решили, что это мой псевдоним. А расшифровку в бухгалтерии придумали: Форген-Морген. Вот Форген-Морген! А что? Смешно! Как будто затвор аппарата щёлкает, форген – взвёл, морген – снял! Очень хорошо… И печать у меня от хозяина осталась!.. Форген-Морген…
– А это кто? – спросил я. – Что это за люди? Может быть, вы их помните?
– Я же репортёр! Я же всё помню!.. А что здесь помнить? Это было до войны! Пришли военные к пионерам. Вот у них ордена Красной Звезды. Всё помню!
«Ну, – подумал я, – это и козе ясно!»
– Да! – закричал вдруг Форген-Морген. – Эту фотографию опубликовали! А потом ко мне девочка приходила вот эта, уже в войну. Просила снимок! И очень огорчалась, что вот этот военный почти не виден. Да! Я помню, они были танкисты и этот вот в центре – у него такая очень простая фамилия… Он был ранен в лицо… или обгорел, что ли? В общем, он был весь забинтованный! Я его не запомнил, но он меня запомнил… – Форген-Морген вскочил. – Это удивительное дело. Я его встречал ещё два раза. Он тогда уже был полковник! Такая простая фамилия… Очень простая.
– Петров, Сидоров, Васильев… – стал я подсказывать.
– Васильев! Да! – сказал Форген-Морген. – Васильев! Полковник Васильев! Гвардеец! Весь в орденах!
– А может, Иванов?
– Да! – закричал Форген-Морген. – Конечно Иванов! Иванов, а не Васильев! Как я сразу не вспомнил? Такая простая фамилия! Иванов! Гвардии полковник Иванов. Очень красивый был человек – высокий, светловолосый! Только весь подбородок и левая сторона шеи в шрамах – обгорел. Ещё тогда, до Великой Отечественной.
– А вот этих двух вы не знаете? – спросил я, показывая на Демидова и Мироненко.
– Знаю, конечно! У меня же репортёрская память! Я тогда, до войны, снимал их всех вместе… Но больше их не встречал. Девочка вот эта, я помню, ко мне в редакцию приходила… Это был сорок второй год! Весна сорок второго. Март. Тогда всё и случилось… Я почему помню: она была сандружинница. Она рассказала, как попала бомба… Я был на фронте. – У Трушкина задёргалась голова.
«У него все погибли», – вспомнил я слова бабы Сони.
– Ну и что с этой девочкой? – спросил я, чтобы отвлечь его от воспоминаний.
– Она сказала, что в её дом тоже попал снаряд и фотография вот эта погибла, она ей очень дорога…
– Ну как? – спросила Мария Степановна, входя.
– Спасибо! – сказал я. – Ефим Макарыч всё прекрасно помнит и всё мне рассказал.
– Вы мне тогда, если не трудно, сообщите: как там с Ивановым? И привет ему от меня большой! – пожимая трясущимися руками мою кисть, приговаривал Форген-Морген. – Вы обязательно…
– Конечно, конечно… – кивал я.
– Действительно, – сказала мне вдруг совсем другим, нестрогим голосом Мария Степановна, проводив меня до крыльца, – сообщите нам… Они все ждать будут… У нас ведь тут ничего не происходит…
Парк был пуст. По расчищенной дорожке важно ходила ворона, напоминая только что гулявших здесь стариков. Я оглянулся и увидел Ефима Макаровича, прижавшегося к стеклу окна. Я махнул ему рукой, и он затрепетал, замахал худыми, старческими руками.








