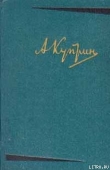Текст книги "Анелька"
Автор книги: Болеслав Прус
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Глава девятая
Тревога в деревне. Гайда пугает воробьев
На другой день после отъезда пана Яна Юзеф Гжиб зашел в корчму за водкой. Он застал здесь жену Шмуля, еще более обычного молчаливую и задумчивую, и самого Шмуля, который, вымещая свое раздражение на служанке, ругал ее за рюмку, разбитую еще на прошлой неделе, и не ею, а кем-то из посетителей.
Как только Гжиб переступил порог, Шмуль с иронической усмешкой обратился к нему:
– Ну, хозяин, радуйтесь! Будет у вас новый помещик…
– Что ж, может, и будет, – отозвался Гжиб, сразу помрачнев.
– Поставят теперь в деревне и винокурню и мельницу…
– А нам они ни к чему. Это вам, Шмуль, на руку: вы же хотели арендовать мельницу.
Шмуль вскипел:
– Эта мельница так будет моя, как лес – ваш! Эх, дурни, сами на себя беду накликали…
– Какую беду? – спросил встревоженный Гжиб.
– А вы не знаете? Пан все имение продает немцу, и тот сказал, что аренду сразу у меня отберет, а на будущий год и из корчмы выгонит.
– Так то ж вас, а нам что за дело?
– И вам солоно придется: немец уже дознался, что вы не имеете права пользоваться и половиной того, чем пользуетесь.
– Ну-у…
– Вот вам и «ну»! Тут никаких «ну», тут есть документ, табель. Пан вам дал волю, потому что у него не было денег, чтобы держать лесников да полевых сторожей. И вы делали, что хотели, да еще потребовали с него за лес по пяти моргов. Ну, а теперь… черта с два! Не получите и двух моргов!
– Увидим! – проворчал Гжиб. – Если шваб нас вздумает обижать, мы за себя постоим…
– Не он вас обижать будет – это вы прежнего пана обижали, а новый только свое возьмет. Привезет комиссара, начальство… И пусть только кто из вас у него лишнюю веточку сломит в лесу – засадит в острог, и все. И поделом вам… сами виноваты! – заключил Шмуль.
– Да мы же не хотели…
– Не хотели? В то воскресенье вы, Юзеф, громче всех кричали, что не надо соглашаться, а если соглашаться, так только на пять моргов. И ведь как уговаривал вас Олеяж! Вот это умный мужик, а у вас разума ни на грош…
Гжиб был расстроен. Он хотел купить четыре бутылки водки, но, услышав такие вести, купил только три и, возвратясь домой, обошел всех соседей и передал им то, что услышал от Шмуля.
Мужики сокрушались или облегчали душу бранью и угрозами. Были, однако, и такие, которые считали, что это выдумал Шмуль, чтобы склонить их к соглашению с помещиком.
Но уже на другой день даже самые стойкие оптимисты пали духом. С самого утра из губернского города приехали немцы – целых трое – и стали осматривать деревню. В усадьбу они не зашли, зато обследовали весь лес, речку и крестьянские поля.
Как только их увидели в деревне, за ними увязалась толпа мужиков, баб и ребятишек. Но немцы не обращали на них никакого внимания.
– Ой, не к добру это! – говорил один из мужиков. – Наш пан, когда к нему приставали, только серчал иногда, а эти шароварники все гогочут да шушукаются – должно быть, смеются над нами…
– А не перекрестить ли кого из них шкворнем?
– Боже тебя упаси! Не видишь, дурень, какие трубы они при себе носят? И замахнуться не успеешь, как он тебя на месте уложит!
Когда немцы уехали, даже не заглянув в корчму, мужики, посовещавшись, решили отправить депутацию в усадьбу. Выбрали троих самых почтенных хозяев: Гжиба, который в воскресенье отговаривал других от сделки с помещиком, а теперь переменил мнение, Шимона Олеяжа, с самого начала советовавшего подписать договор, и Яна Самеца, того лохматого с колтуном, которым командовала жена, – его выбрали потому, что земли у него было больше, чем у всех в деревне.
Гжиб и Олеяж были на сходе, а Ян отсутствовал: он в это время сидел дома и по приказу жены укачивал ребенка. К нему направились оба депутата, а за ними еще несколько мужиков и множество баб.
Олеяж объявил лохмачу, что они идут в усадьбу мириться и что общество выбрало делегатом и его, Яна, как человека степенного. В заключение он спросил:
– Ну как? Пойдете, кум?
Ян молча встал, пошел в чулан и вынес оттуда новехонький кафтан. Но не успел он натянуть один рукав, как жена подняла крик:
– Это еще что! Ты, мокроглазый (у Яна все еще болели глаза), куда собрался? Я тебе покажу подписывать договоры! Садись и качай Зоську!
Толпа безмолвствовала, в окна и дверь с любопытством заглядывали бабы. А Ян стоял, не зная, на что решиться: надевать кафтан в рукава или скинуть его с плеч.
Видя, что он колеблется, жена схватила валек и давай колотить им мужа.
– Ах ты мокроглазый, растрепа, старый хрыч! Думаешь, взял молодую жену только для утехи! Ну-ка, садись к люльке! Хотелось тебе детей, так вот и качай!
И она все колотила его, наскакивая то спереди, то сзади.
Волосы свесились Яну на лоб. Мужик молча откинул их, натянул кафтан – и вдруг, поплевав на ладони, как хватит жену по голове, как начнет таскать! Господи, что тут было! Платок полетел в угол, валек – на лежанку, да так, что два горшка грохнулись с нее на пол.
– Перестаньте! Будет вам, Ян! – кричали женщины.
– Бейте, кум, валяйте, пока не взмолится! – советовали мужики.
Ян ничьих советов не слушал и действовал по своему разумению. Изрядно отделав жену, он напоследок пнул ее сапогом в бок и швырнул в угол. Потом застегнул кафтан, опоясался, надел новую шапку и сказал хладнокровно:
– Ну, куманьки, пойдемте в усадьбу, раз такое вышло решение.
Мужики только головами качали и шептали друг другу:
– Старый-то каким хватом оказался!
– Да, есть еще сила в руках!
– Ого! Он корец пшеницы может под мышкой унести!
Делегаты ушли, а бабы остались. Жена Яна, лежа на полу, причитала заунывно и певуче:
– Ой, матерь пресвятая Ченстоховская, что ж это такое творится? Видели, кумы? В моего старика бес вселился! Четыре года колотила я его – и он ни разу не пикнул, во всем меня слушался, а сегодня так осрамил перед людьми! Ой, и зачем я, несчастная, на свет родилась!
– Правда твоя! – сказала одна из соседок. – И мне было бы обидно, если бы мой на пятом году меня бить начал.
– Ой, жаль мне тебя, бедную, – утешала пострадавшую другая баба. – Мужик, хоть и самый тихий, все равно что волк: волк смирен, покуда человечьего мяса не отведает. А уж коли Ян сорвался – будет тебя теперь лупить каждый божий день.
По дороге в усадьбу три депутата зашли к Гайде, который только что вернулся с работы (он занимался извозом), и рассказали ему все от начала до конца.
Гайда от ужаса даже руками всплеснул.
– Ах, еретик! Псякрев! – воскликнул он. – Третьего дня он содрал с меня за потраву три рубля, последние, не на что было хлеба купить девчонке, и она у меня сидела на одной холодной картошке. А теперь всю деревню в такую беду ввел!
– Кому-кому, а вам, кум, без него легче будет, – вставил Олеяж.
Гайда нахмурился.
– Мне что? Меня не пан, меня мои лошадки кормят, – пробурчал он.
– А может, еще все к лучшему обернется, – сказал Гжиб. – Попросим пани, чтобы она за ним послала, и подпишем договор. Хоть бы три морга – все лучше, чем ничего, да еще немец в придачу.
– Что правда, то правда, – подтвердил Гайда. – У меня пять моргов, а если прибавится три, так будет целых восемь: вот уж тогда человек может на панское не зариться.
– То-то вот! Говорил же я вам в воскресенье, что надо подписать! А вы тянули, покуда дело не сорвалось. Теперь все головы потеряли, мечутся в страхе. Ну, что хорошего? – сказал Олеяж.
Гайда рассердился.
– Не одним нам, и ему тоже худо будет! Если имение продаст, так ни с чем останется. Вы говорите, Шимон, что мы тянули. А он не тянул? Бывало разве когда-нибудь, чтобы он поговорил с мужиком по-людски? Чтобы растолковал, как и что, расспросил? Нет! Только и знает, что насмешничать да пыжиться, а теперь ни с того ни с сего поскакал в город и готовит там несчастье на наши головы. Проклятый!
Депутаты простились с Гайдой и медленно зашагали в усадьбу. А Гайда, проводив их, стоял в сенях, по своей привычке засунув руку за пазуху, и смотрел то на сад, то на длинный ряд надворных строений, тянувшийся справа от панского дома.
«Ничего! – сердито буркнул он про себя. – Не только нам, а и тебе будет худо, коли нет у тебя ни стыда, ни совести!»
Скоро Анелька прибежала к матери с вестью, что три мужика хотят поговорить с нею. Мать с трудом встала с кресла и вышла на крыльцо.
Мужики поклонились до земли, поцеловали руку у пани, и Олеяж приступил к делу:
– Вельможная пани, покорнейше просим, не делайте нам такой неприятности, не продавайте немцу вашего и нашего имущества. Ведь мы уже почти сговорились и за четыре морга на хозяйство подпишем бумагу насчет леса.
– О чем вы толкуете? – удивилась пани.
– А о том, о чем вся деревня толкует и что мы своими глазами видели. Были здесь нынче какие-то три шароварника, объезжали поля.
– Приснилось вам, что ли?
– Помилуйте, пани, – возразил Олеяж. – Все их видели и слышали, как они по-своему лопотали…
– Так это, может, какие-нибудь проезжие люди?
– Где там проезжие! Всё обошли, лес, речку, и не просто глазами, а в какие-то гляделки смотрели, нас даже мороз по коже подирал…
Опомнившись от первого удивления, пани призадумалась.
– Мне насчет продажи ничего не известно, – сказала она. – Вот через два-три дня вернется муж, тогда с ним поговорите. Жаль, что вы так долго тянули и не подписывали…
– Мы и сами теперь не рады, – отозвался Гжиб. – Да ведь пан нам ничего не говорил, словом за все время не обмолвился… А мы ради мира и согласия готовы и по три с половиной морга взять.
– Э… даже по три! – вставил молчавший до тех пор Ян; он, стыдясь своего колтуна, укрывался за колонной.
– Так, стало быть, вы, вельможная пани, похлопочете за нас перед паном? – спросил Олеяж.
– Ну конечно. Как только он приедет, я с ним поговорю, скажу, что вы уже согласны подписать…
– Согласны, согласны! – хором подтвердили делегаты, а Ян добавил:
– Швабам мы только для могилы земли дадим, на это не пожалеем, хоть бы и даром. А со своим швабским хозяйством пусть не лезут сюда, на нашу землю!
Делегаты опять отвесили поклоны и приложились к ручке пани. На обратном пути они снова завернули к Гайде, и теперь Ян высказался первый:
– Сдается мне, люди, что помещик наш что-то хитрит – видите, даже жене не сказал, что продает имение. А ведь оно ей от отца досталось. Старики-то помнят, что землею здесь владели всегда не его, а ее отец и дед.
– Дело скверно! – пробормотал Олеяж.
– Да, видно, что так, – продолжал Ян. – Если он родной жене про это не заикнулся и потихоньку с швабами сговаривается – значит, хорошего не жди! Они его вокруг пальца обведут, и ему уже не отвертеться от продажи, хоть бы он и хотел.
– Холера! – выругался Гайда.
– А может, нам самим к нему в город съездить? – предложил Гжиб.
– Ни к чему это! – запальчиво возразил Гайда. – Уж если он надумал продавать, так и продаст, – разве что немцы сами купить не захотят. Знаю я его! Он меня двенадцать лет на работу не брал, хотя ему не раз до зарезу нужно было!
Ушли озабоченные мужики, а Гайда все еще стоял перед своей хатой. Только когда они уже дошли до деревни, он побрел к панским службам.
За садовой оградой кусты были так облеплены воробьями, что казались серыми. Гайда осмотрелся и, убедившись, что никто его не видит, швырнул в кусты полено.
В тот же миг туча воробьев с громким шумом снялась с места, пролетела у него над головой и спустилась на крыши амбара, конюшни и хлева.
Гайда тихо рассмеялся. Пошел дальше и опять спугнул птиц с кустов. Эти тоже целой стаей взлетели на крыши дворовых строений.
– Не продашь ты ничего! – проворчал Гайда, грозя кулаком в сторону панского дома.
Он прошел через сад, везде пугая воробьев. И когда они перелетали на крыши, он, скаля зубы, твердил про себя: «Не продашь, нет!» А вернувшись домой, отыскал в чулане большой кусок трута и положил его на теплую еще печь для просушки.
Глава десятая
Догадки матери. Снова воробьи
После отъезда хозяина дома и гувернантки в усадьбе стало еще мрачнее. Эконом, человек холостой, ночью собрал свои пожитки и удрал, даже не простясь ни с кем. Лакей, давно уже заявивший, что уходит, теперь не вылезал из шинка и пропивал свои вещи. Батраки по целым дням бездельничали, жалуясь на то, что хозяин вот уже три месяца им не платит. Если бы те, кто подобрее, сжалившись над бессловесной скотиной, не подбрасывали ей горсть-другую сечки и не выгоняли к колодцу на водопой, животные все околели бы от голода и жажды.
Два-три раза в день приходила девушка из буфетной, подметала комнаты пани, подавала обед или самовар, приносила воду для мытья – и только ее и видели! Ни Анелька, ни ее мать не смели требовать большего, зная, что прислуге давно не плачено и кормят ее плохо.
Анелька с утра до вечера ухаживала за матерью и Юзеком, даже ночевала в их комнате.
Мать лежала в постели или сидела в кресле и обычно читала какую-нибудь книгу, а молчаливый и вялый Юзек забавлялся всем, что попадалось ему под руку. Анелька же, помня наказ гувернантки «учись!», соблюдала прежнее расписание и сама себе задавала уроки. Отметив в учебнике «отсюда и досюда», она учила все наизусть и отвечала урок перед пустым стулом гувернантки. Так она изучала историю, географию, грамматику. Но без замечаний учительницы, похвал и отметок в дневнике учиться стало совсем не интересно.
Часто, когда Анелька занималась, из соседней комнаты раздавался звонок. Девочка бежала туда, крича уже издали:
– Сейчас! Иду, мама!
– Это я звонила лакею, ma chere, чтобы подал молока…
– Лакея нет, мамочка…
– Ах правда, я забыла… Наверное, сидит в корчме…
– И молока нет, коровы сегодня не доены…
Пани заливалась слезами:
– Боже, боже! Что этот Ясечек со мной делает!.. Как ему было не совестно уехать в такое время! Прислуга избаловалась, в доме голод, и если бы кухарка из жалости не готовила нам обед, мы все умерли бы…
Поплакав, она опять погружалась в чтение, а Анелька уходила заниматься. Но через какие-нибудь четверть часа снова раздавался звонок, девочка бежала к матери, и повторялась та же сцена с небольшими вариантами.
Любимым развлечением Анельки было кормить воробьев и играть с Карусем.
К окошку в мезонине три раза в день стаями слетались птицы. Им уже было тесно на карнизе, и те, кто посмелее, влетали в комнату. Забияки клевали соседей, сильный сталкивал слабого. А какой поднимался писк и чириканье! Как торопливо они клевали корм, как вертели головками, прыгали, трепыхали крылышками… Трудно было даже уследить за их движениями, такими быстрыми и легкими.
Каруся Анелька учила «служить». Ставила его у стены с палкой под лапкой. Песик сначала вытягивался в струнку, но постепенно, поднимая зад, съезжал на пол. Сколько ни уговаривала его Анелька, он не хотел вставать. Где там! Он ложился на спину, задирая кверху все четыре лапы, и лежал бревном. Анельку это частенько сердило, но стоило ей посмотреть на его славную мордочку и лукавые глаза – и она не могла удержаться от смеха.
В конце концов Карусь совсем отбился от рук я стал убегать на долгие прогулки. Однажды он вернулся с изорванным ухом, шерсть у него вся стояла дыбом, он хромал и жалобно визжал. Анелька искупала его в пруду, завернула в одеяло и уложила на застекленной террасе. Пес спал всю ночь как убитый. Утром вылакал миску борща с холодной картошкой, запил чаем со сливками, после чего получил еще сухарик и две сушеные сливы, – и опять убежал на целый день.
Анелька с грустью говорила себе, что собака и та бросает их в беде.
Разговор с крестьянской депутацией оказал на мать Анельки действие неожиданное: вместо того чтобы огорчиться, услышав такую определенную весть о продаже имения, она повеселела.
– Знаешь, – говорила она Анельке. – Отец очень умно придумал! Я уже была уверена, что он никогда не покончит с сервитутом и не вылезет из долгов. Но теперь вижу, что он человек дельный и разумный. Какие ему приходят удачные мысли!
– А что он такое придумал, мама? – спросила Анелька, у которой от вести о продаже усадьбы голова пошла кругом.
– А ты и не догадалась? Правда, ты еще мала и в делах ничего не понимаешь. Ах, какой он у нас политик! Какой гениальный план придумал! Понимаешь, чтобы заставить мужиков поскорее пойти на уступки, отец пустил слух – должно быть, через Шмуля, – что продает имение немцам. Ну, мужики испугались и сейчас уже на все согласны.
– Это тебе папа сказал?
– Нет. Ни он, ни Шмуль ничего мне не сказали, но я сама сообразила. Какие они оба молодцы! Надо будет поздравить Яся с удачной выдумкой.
У Анельки почему-то стало тяжело на душе. Если бы мужики пришли опять, она бы поспешила их уверить, что отец имения не продаст и только подшутил над ними. И даже после этого ей было бы стыдно смотреть мужикам в глаза. Впрочем, это не удивительно – ведь она была еще ребенок и ничего не понимала в делах!
А мать мечтала вслух:
– Я знаю, какой сюрприз нам отец готовит. Получит он десять тысяч за лес, а может, и другой лес продаст. Привезет мне горничную, а тебе гувернантку… Эта панна Валентина хотя и умная, но взбалмошная особа… Ну, почему, например, она от нас ушла? Право, не понимаю… Приедет отец, и я первым делом спрошу его: привез солодовый экстракт? А он ответит: «Ох, совсем забыл! У меня было столько дел!» И тогда я рассержусь, а он скажет торжественно: «Завтра мы едем к Халубинскому, и я верю, что он и тебя и Юзека вылечит окончательно».
Она говорила это с улыбкой, глядя куда-то вдаль – вероятно, в сторону Варшавы. Потом склонила голову на грудь и, прошептав: «Mon cher Jean, я все угадала, меня чутье никогда не обманывает», – уснула спокойно, как дитя.
Так мать тешилась мечтами и чувствовала себя счастливой. А дочь страдала.
«Если отец мог так подшутить над мужиками, – размышляла она, – то он, пожалуй, и над мамой подшутит, и что тогда будет? Вот мужики поверили, что папа продает имение, и мама смеется над ними… Мама верит, что папа повезет ее к Халубинскому, а он…»
Ее безграничное доверие к отцу было сильно поколеблено.
– Анельця, – сказала, проснувшись, мать. – Не едет ли отец? Я, кажется, слышу стук колес.
– Нет, мама, не едет.
– Если бы я знала, что в доме есть крахмал и мыло, я приказала бы перестирать все белье… Не следует ни на один день откладывать поездку в Варшаву, – я чувствую, что слабею… Что ты так на меня смотришь, Angelique? Радость быстро вернет мне силы. Ты еще увидишь, как твоя мама будет танцевать на масленой. Ха-ха-ха! Я – и танцевать!
Анелька с трудом сдерживала слезы. Мать, слабая, вечно ноющая или плачущая, была для нее чем-то привычным и понятным в окружавшей их обстановке. Но мать веселая и полная надежд при этой заброшенности, нужде и зловещих слухах просто пугала девочку и надрывала ей сердце. Иногда ей хотелось бежать, звать на помощь. Хоть бы Карусик пришел!..
– Нет, никто не придет.
Медленно и незаметно сошла на землю ночь. Служанка постлала постели, закрыла ставни и ушла, оставив три одиноких существа на волю божью.
На другое утро мать была еще веселее, чем накануне.
– Представь, – говорила она Анельке, – мне сегодня приснился Халубинский, я видела его совсем как наяву! Пожалуйста, запомни все, потому что я хочу ему этот сон потом рассказать – пусть знает, какие верные у меня бывают предчувствия! Ах, какой он красавец! Длинная черная борода, черные глаза… И только он на меня глянул, как я почувствовала себя лучше. Потом он прописал порошки – я, кажется, даже рецепт помню – и вылечил меня совершенно. Да, я непременно, непременно должна к нему съездить.
– И я тоже, – вставил Юзек. – Потому что я слабенький.
– Naturellement, mon fils!<Ну, разумеется, сынок! (франц.)> Анельця, выгляни на дорогу – не едет ли отец. Я не успокоюсь, пока не увижу его здесь.
Анелька, взяв с собой несколько ломтиков хлеба для воробьев, побежала в мезонин. Выглянула в окно. На дороге никого.
Зато воробьи мигом прилетели под окно и, как всегда, расшумелись. Среди них было несколько птенцов, которые только еще учились летать, и один старый, без хвоста. Этот гость появился здесь впервые, но все его поведение говорило о том, что он не был чужим среди остальной компании.
«Наверное, ему недавно кто-нибудь оторвал хвост», – подумала Анелька.
Но, разглядев затем, что хвост у этого воробья обгорел, она очень удивилась.
– Что же, он упал в огонь? Или негодные мальчишки ему хвост подпалили?
Впрочем, ей некогда было думать об этом, – она пошла к матери с вестью, что отец все еще не едет.
После обеда мать задремала в кресле, и Анелька с Карусем побежали в сад. Казалось, деревья здесь еще выросли за последнее время и цветов как будто стало больше. В саду Анельке дышалось вольно. Развеселившийся пес прыгал ей на грудь и тявкал. Она стала бегать с ним наперегонки так быстро, что щеки у нее разгорелись.
Вдруг между кустов у забора послышалось тревожное чириканье. Заглянув туда, Анелька увидела сложенное из нескольких кирпичей подобие коробки. Из щели между кирпичами торчало дрожащее крылышко. Анелька поспешила вытащить птичку. Освобожденный воробей клюнул ее в палец и взлетел на ветку, волоча крыло, видимо сломанное или вывихнутое.
Затем девочка осмотрела кирпичи. Их было пять, и в отверстие между ними было насыпано немного крупы и воткнуто два прутика.
«Видно, кто-то здесь ловит воробьев, – подумала Анелька. – Неужели это работники наши с голоду едят их?»
Рядом на кусте висела сделанная из лески петля, а подальше – другая такая же. Обе были пусты.
«Бедные воробушки!» – вздохнула девочка. И тут же решила каждый день осматривать все кусты и выпускать маленьких пленников, если кто-нибудь снова поставит на них силки.