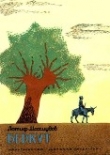Текст книги "Колокола судьбы"
Автор книги: Богдан Сушинский
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Тебя слушаю, – помрачнел Крамарчук. Снял автомат, повертел шеей, словно освободился от петли, и, не глядя на Беркута, прошел мимо него к едва освещенному бледными лучами камню. – Нет больше нашей Марии. Вот так, во спасение души…
Беркут подошел к нему, опустился на корточки, ошалело посмотрел ему в глаза.
– Ну, говори, говори… – тихо, но властно приказал Крамарчуку, видя, что молчание его может затянуться надолго. – Что значит «нет»? Что с ней? Ты разыскал её? Что произошло?
– А что ты так… вдруг? – жестко улыбнулся Крамарчук. – Рыцарь наш, весь из мышц и стали… Что ты вдруг так заволновался? Нет её – и всё тут. Вычеркни из списков гарнизона еще и медсестру Кристич. Ты же её не подпускал сюда, к нам, к отряду, к спасению. И дождались. На облаву напоролась. В Журавках, что рядом с Горелым. Она еще полицая какого-то прибила, пробовала прорваться к лесу… Ну и… В общей могиле её… Их там фрицы человек тридцать в тот день положили.
– Подожди, подожди, Крамарчук, – потормошил его Беркут за борта шинели. – Ты вдумчиво, вдумчиво… Вот то, что она?… Что её?…
– В этот раз – всё правда, лейтенант. – Только сейчас Беркут заметил, что посеревшее лицо его сплошь покрыто морщинами. Это было лицо человека, которому далеко за пятьдесят. – Первым эту историю мне рассказал всё тот же дед, который навел на Мазовецкого, – поиграл желваками Крамарчук. – Я не поверил, поспрашивал. В Журавках несколько человек знали Марию. Подруга её там жила, тоже медсестра. Когда-то Кристич гостила у неё. Кто-то из знавших Марию, очевидно, и выдал. А шла она к тебе. Расстались-то мы километров за пятьдесят от Журавков. Однако дошла она быстрее.
– Значит, вы шли не вместе? – тихо, почти шепотом уточнил Андрей. Он вдруг почувствовал, что каждое слово дается ему с большим трудом.
– Шли-то мы вместе. Только разными дорогами. Так уж получилось, лейтенант, что с самого сорок первого… И всё разными. А теперь не спрашивай ты меня больше ни о чём. Дай закурить. Патронов навалом, а сигаретки ни одной. Довоевался! Покурю и с полчасика покемарю. Устал я. Смертельно, видать, устал. Только сейчас, когда наконец увидел тебя, понял, как погибельно я за всё это время изнемог.
15
Поздно вечером радист передал в Украинский штаб партизанского движения радиограмму, в которой Беркут доложил о действиях парашютистов в течение дня и ответил на вопрос, который особо интересовал людей, занимающихся где-то там, очевидно, в Москве, его группой:
«По поводу „офицера СС-41“, сообщаю: профессиональный разведчик и диверсант. Работал в нескольких европейских странах. В совершенстве владеет русским, знает украинский и польский. Отлично подготовлен. К Гитлеру относится скептически. Обожествляет Скорцени. Лично знаком с ним. Мечтает сколотить группу первоклассных профессионалов, чтобы работать с ней после войны, независимо от ее исхода. Предлагал сотрудничество. Выходил на личный контакт. В июле 41‑го я взял его в плен в рукопашном бою у моста через Днестр, в районе Подольска. Подробности может сообщить бывший командир охраны этого моста, если он жив. Однако тогда „СС-41“ бежал из Подольска, из-под ареста. Командовал спецотрядом по штурму дота № 120, комендантом которого был я. Возглавлял диверсионную группу „Рыцари Черного леса“, переименованную в „Рыцари рейха“. Храбрый. Волевой. Философично жесток, в меру циничен. Капитан Беркут».
Уже когда радист отстучал это послание, Андрей задумался над этой фразой: «Философично жесток, в меру циничен». Насколько вообще правомерно такое определение – «в меру» – если речь идет о цинизме? Насколько оно соответствует моральной сути Штубера? И поймут ли его в штабе? Поймут ли – вот в чем вопрос. Но в конечном итоге признал, что именно понятия «философично жесток» и «в меру циничен» наиболее точно отражают отношение гауптштурмфюрера Штубера к той реальной действительности, в которой он обитает.
Впрочем, ответ из штаба оказался лаконичным. «Спасибо. Обстоятельно и непривычно. Попробуем понять. Поздравляем с успешным началом действий группы. Центр».
Как только радист закончил работу, Беркут поблагодарил его, приказал свернуть рацию и присоединиться к бойцам, которые под командованием Мазовецкого занимались приемами ближнего боя.
– Но я не должен проходить обычную десантную подготовку, – довольно резко парировал Задунаев. – Участия в боевых действиях я все равно принимать не буду – нас готовили к работе на рации. К тому же от физических нагрузок у меня может ухудшиться чувствительность пальцев и подвижность кисти.
– А это скажется на «почерке». Правильно. И поскольку рассуждаете вы по понятиям, принятым на Большой земле, совершенно логично, немедленно присоединяйтесь к группе и отрабатывайте все приемы, которые вам покажут, и вообще выполняйте все, что прикажет старший лейтенант Мазовецкий.
Задунаев очумело посмотрел на командира, но тот радушно улыбнулся ему и, сказав: «Идите, идите, красноармеец» – пошел вслед за ним к кошаре, у которой Мазовецкий напоминал младшему лейтенанту и его людям азы солдатской науки: способы смены позиции во время боя.
Правда, прыжки, кувырки и обманные движения, которые он демонстрировал, воспринимались бойцами как трюки акробата. Тем не менее, поддержав Мазовецкого, Беркут и сам продемонстрировал несколько приемов рукопашного боя, которыми им придется овладеть в ближайшее время. И демонстрировал он их в основном на Задунаеве, пытаясь вызвать в нем азарт, желание почувствовать себя настоящим солдатом, искренне удивляясь, что тот остается безучастным и покорным, словно манекен.
Свою солдатскую элитарность радист усматривал не в умении, не в храбрости, а в праве на безделье. Ну что ж, ему, Беркуту, это тоже знакомо. Как много людей, надевших солдатские шинели, так и не поняли, что они солдаты. Впрочем, они и не готовы быть ими – ни морально, ни по уровню своей выучки. А ведь казалось, что до войны их всех обучали, всех готовили.
– Да, на дороге он дрался как черт! – услышал Андрей голос Горелого, когда, оставив группу отдыхать, направился к Отшельнику. – По-моему, лучше, чем только что показывал. Не видел бы своими глазами – не поверил бы.
– А нам перед отправкой что о нем говорили? – ответил старшина. Они с Горелым сидели за валуном и попросту не заметили появления капитана.
– Ну, говорить могут всякое. А пока такого человека своими глазами не увидишь в бою, не поверишь. И что немецкий язык так хорошо знает, тоже с трудом верилось.
«Болтуны, – поморщился Беркут. – Нашли тему для разговора!»
Было еще довольно светло, и хотя большую часть Монашьей тропы скрывал от глаз густой кустарник, все равно появляться на ней сейчас было рискованно: мог заметить кто-нибудь из немцев или полицаев. Однако, ступив на нее, Беркут уже не сумел удержаться от того, чтобы не проведать Отшельника, который сразу же после операции снова укрылся в своей «пещере-келье» и больше не показывался ему на глаза.
* * *
Подойдя к камню, которым Отшельник мог перегородить путь, Андрей обратил внимание, что в этом месте, на гладкой в общем-то поверхности скалы, лучи предзакатного солнца как бы преломляются на стекольно-слюдистых зернышках едва уловимых граней. Чуть отклонившись, он понял, что это грани борозд, которые сливаются в какие-то знаки. Отклонился еще больше и, рискуя сорваться, вернулся чуть-чуть назад.
Поблуждав взглядом по затейливой церковно-славянской вязи, он сумел прочесть написанное в два ряда изречение: «Милосердие к себе – жестокость есть, жестокость к себе – милосердие». «Странная мысль», – подумал он, обходя камень-ворота, и вдруг наткнулся на еще одну надпись, сделанную очень тонко, очень мелким резцом: «Жизнь есть жестокое милосердие Божье».
– Что, Беркут, не согласен с этой мыслью?
– Надпись кажется свежей.
– Она и есть свежая, потому что войною писана.
– Вот оно что! Значит, фраза: «Жизнь есть жестокое милосердие Божье» – твоя работа? И пришло тебе это в голову во время раздумий над надписью, сделанной монахами?
– Эта, первая, надпись сделана не монахами, а моим дедом.
– Тем самым, что вытесал «Распятие» у входа на кладбище на окраине Сауличей?
– Им.
– Талантливым дедом наградила тебя вещая судьба рода.
– Постой-постой, ты-то об этом от кого узнал?
– Пришлось видеть, как один обреченный на виселицу или на распятие военнопленный спасал от обезглавливания распятого Христа. Правда, тогда этот пленный показался мне истинным солдатом, храбрым и мудрым, верящим только в свою собственную судьбу.
– Значит, ты видел все это?
– И не только я.
– Да, там неподалеку, на базаре, обычно крутилось много народу… Иногда полицаи подходили… – как бы про себя прикидывал Отшельник, стараясь вспомнить, примечал ли он этого человека возле распятия. – Но о том, что?… Подожди, подожди… Уж не тот ли ты?… Да тот, тот самый! Обер-лейтенант?! Господи! Как же я сразу не вспомнил?! А ведь лицо твое мне запомнилось. Обветренное такое, с выпяченным подбородком и крючковатым, немного напоминающим орлиный клюв носом. И взгляд жестокий, прожигающий взгляд…
– Готовый «портрет маслом».
– Я еще подумал тогда: жестокий, должно быть, человек. Храбрый, но жестокий. И очень удивился, когда ты вдруг заговорил по-русски, предупредив, чтобы я не спешил к райским воротам.
– Все верно, я и есть тот самый обер-лейтенант, – подтвердил Беркут. – Прости, что не мог тогда спасти тебя. Может, и попытался бы что-нибудь предпринять, но ведь ты работал, словно раб, прикованный к веслам галеры. Мне показалось, ты настолько смирился со своей смертью, что единственное, к чему стремишься, – это вернуть голову и терновый венок обезглавленному Христу, смягчить жестокую несправедливость к нему людей, до дыр зачитавших его житие, но так и не проникнувшихся его проповедями.
– Было и такое: смирился, – кивнул Отшельник.
– Ты не шел на контакт со мной – вот в чем дело. И я понял, что операция провалится. А петель на твоей виселице три. Места обоим хватит.
– Вот именно, эта проклятая виселица, – отвел взгляд Отшельник. – Она ведь до сих пор стоит. На моей судьбе она – как метка на сатане. Если бы ты знал, как я возненавидел себя за то, что соорудил ее!
– Но ведь, став «висельничных дел мастером», ты спас себе жизнь, – осторожно напомнил ему Беркут, внимательно следя за реакцией Отшельника.
– Спас. Только не этим. И не смей называть меня «висельничных дел мастером». Ты сейчас очень похож на того, другого офицера, эсэсовца, который назвал меня точно так же. И похож не только потому, что на тебе германская форма.
– О том эсэсовце я тоже слышал. От часового. Ты не помнишь его фамилии? При тебе ее не называли?
– Швабская. Как у всех у них.
– Штубер? Гауптштурмфюрер Штубер? Тебе не приходилось слышать такой фамилии?
– Что гауптштурм… или как ты там говоришь – так это точно. Это я запомнил. Только так к нему и обращались. Еще знаю, что лагерная охрана его боялась. Очень боялась. Даже те два офицера-эсэсовца, которые из гестапо…
– Внешне он мало напоминает немца: черные, слегка курчавые волосы, широкоскулое смугловатое лицо, – подсказывал ему Беркут. – Холодная презрительная улыбка. Неплохо говорит по-русски. Иногда, зная, что перед ним украинец, даже вставляет украинские слова.
Отшельник присел на камень, поправил выложенный на кострище шатер из щепок и сухих веток, подсунул под него обрывок немецкой газеты, поджёг и какое-то время задумчиво наблюдал, как, медленно дымя, расползаются по веткам язычки пламени.
Глядя на него, Беркут подумал, что вот так же, молчаливо, смотрит он на огонь, просиживая в одиночестве все свои пещерные отшельнические ночи. И почувствовал уважение к нему, к его одиночеству, к приверженности этой скале и этим пещерам, отлично понимая, что сам-то он позволить себе такой роскоши – уединиться и жить здесь, заботясь только о покое души и скромном пропитании, – не сможет. И не смог бы. Это противно его духу, его характеру. У них разные пути. Да, разные. Хотя быть этого не должно. По крайней мере сейчас, пока идет война, и внизу, у подножия этих скал, рыщет враг, охраняя виселицы, построенные народом для самого себя.
– Хорошо ты нарисовал этого эсэсовца. Точно. Это был он. Видно, и тебе он тоже до головной боли запомнился.
– В сорок первом по его приказу меня замуровывали в доте на берегу Днестра.
– Так это ты командовал дотом, гарнизон которого замуровали?! – оглянулся на него Отшельник. – Я слышал о нем… Весь лагерь военнопленных гудел об этом. По селам тоже слухи-легенды. До сих пор вспоминают. Правда, молва уверяет, что никто из бойцов дота не спасся. Никто, ни один.
– Спасся, как видишь.
– Может, просто выдаете себя за… коменданта гарнизона?
– За коменданта такого гарнизона и выдавать себя не грех: простится. Но я – комендант «Беркута».
– Оно конечно… И все же… – Отшельник многозначительно развел руками: дескать, извини, быть и выдавать себя – не одно и то же.
– Это за меня, за Беркута, уже выдают себя другие, – еще жестче объяснил Громов. – И давай не будем упражняться в недоверии. А что касается эсэсовца, Штубера… По его приказу недалеко от дота, которым командовал наш комбат, какого-то солдатика распяли. Ничуть не милосерднее, нежели твой дед – своего деревянного Христа. Живого… распяли. Исполосовав всего. Так что он мне, Штубер этот, действительно очень хорошо запомнился.
– Распятие… – проворчал Отшельник. – А что распятие?! Святая и христоугодная казнь. Не то что повешение.
Они помолчали. При свете костра пещера казалась более просторной и таинственной. Прорываясь в зиявшие над кострищем дыры, ветер превращал их в органные трубы. Заунывная, леденящая душу мелодия, которую они порождали, создавала какую-то особую, действительно монастырскую, атмосферу, склонявшую человека к исповеди и смирению.
– Скажи, капитан, ты меня сразу узнал? Как только увидел?
– Не сразу. Уже когда вернулся от тебя. Вспомнил, и не поверил. Штубер привык выполнять свои обещания, какими бы они ни были.
– И выполнил бы. Да, видно, спешить ему было некуда. Он ведь отобрал нас троих из группы «штрафников», которую через час должны были расстрелять. Сказал: «Для тех, кто сумеет соорудить хорошую виселицу, казнь будет отсрочена». Не помилует, а всего лишь отстрочит, – вот так.
– И все же мастера сразу же нашлись, – саркастически осклабился Беркут. – Хоть виселицу для самого себя, лишь бы при деле.
– Да, нашлись, – с вызовом подтвердил Отшельник, поскольку сказанное задевало лично его. – Ты бы, ясное дело, не пошел, – предположил с не меньшим сарказмом.
– Строить себе виселицу? Ни при каких условиях.
– Даже если при этом появляется шанс… Несколько лишних минут, и топор в руке…
– Топор? Топор – да. Об этом я как-то не подумал, – примирительно признал Беркут.
– А мы подумали. Потому-то сооружать вызвалось сразу девятеро. Девятеро взмолились о жестоком милосердии, которое даже там, в лагере военнопленных, называлось жизнью. И меня отобрали первым.
– Еще бы!
– Кто-то из охранников, из наших, местных полицаев, подсказал офицеру, что, мол, хороший мастер.
– Специалист по виселицам.
– Потом Штубер – так ты его называешь? – отобрал еще двоих. Помню, отбирая, смотрел на руки. Чтобы мастеровые были.
– Что ж, в таком случае и смысл надписи: «Жизнь есть жестокое милосердие Божье» становится более понятным.
– Но пока что ты вспомнил меня только как «висельника», а ведь мы с тобой и раньше встречались.
– Когда ты приходил к моему доту, чтобы передать статуэтку нашей медсестре Марии Кристич?
– Узнал все-таки! – был приятно удивлен Отшельник. – Я, как видишь, тоже присматривался: ты или не ты? Виделись-то мы у дота мельком, да и потом ведь получалось, что комендант дота вроде бы погиб…
16
Отшельник повесил над огнем котелок с водой, подбросил в костер несколько сухих веток, а когда вода чуть-чуть подогрелась, опустил в котелок несколько заранее отмытых картофелин.
Беркуту показалось, что замолк он снова надолго, может быть, на весь вечер, и разговор следует считать законченным. Однако не торопил ни уходом своим, ни расспросами. Понимал, что для Отшельника рассказ этот и есть исповедь.
– Три дня, с рассвета до заката, мастерили мы это нелюдство, и каждый вечер Штубер приезжал к нам, усаживал меня на стоячке под среднюю петлю, сам садился рядом, на низенький чурбанчик, и подолгу говорил со мной. Только со мной. Тех двоих вроде бы не замечал.
– Вербовал? Предлагал служить?
– Я тоже думал, что к этому клонит. Нет, ни слова. Все расспрашивал. Обо мне, об отце, дяде. Каким ремеслом занимались, что построили-смастерили. О жизни всякое такое говорил. О страхе перед смертью. О плене, предательстве… И, знаешь, умно говорил. Спокойно и страшно, однако умно. Будто сидели мы не под виселицей, а где-нибудь на лавке у плетня. Человек он, видать, начитанный, рассудительный. В сибирских лагерях я тоже встречал таких.
– В сибирских? – резко переспросил капитан. – Ты был осужден? Как «враг народа»?
– У вас, коммунистов, все, весь народ – «враг народа». И всего два «друга народа» – Сталин и Берия. И лагеря у вас, те, сибирские, страшнее германских, это уж ты мне поверь.
– Вот оно что?! – многозначительно протянул Беркут, однако спорить не стал. – Штубер знал об этом?
– О лагерях? Нет. Знал только, что два года проучился в духовной семинарии, но был изгнан оттуда, поскольку даже на уроке Божьем не молитвы заучивал, а сотворял из зеленых веток всяких божьих человечков. Об этом я сам ему рассказал. Поэтому он много говорил со мной о вере, о Боге. Сам он, по-видимому, человек неверующий, но в религиозной философии смыслит. Вот тогда, на третий день, когда виселица уже была готова, и Штубер узнал, что я учился в семинарии, он решил отсрочить мою казнь и заставил смотреть, как казнят моих товарищей-плотников.
– Его почерк, – хрипло подтвердил Беркут. – Узнать нетрудно. Что было дальше?
– А дальше – две недели подряд на этой виселице казнили по шесть, иногда по восемь, и даже по десять человек в день. Однако на помост выводили только по два человека – одна петля всегда оставалась свободной. А меня по два раза в день ставили в строй приговоренных, чтобы я считал, что на этот раз пришел и мой черед. И если при этом бывал сам Штубер – а он побывал раза три, – то вежливо спрашивал, не хочу ли я казнить самого себя. А когда я отмалчивался, начинал расхваливать мою работу, надежность виселицы, говорил, что прикажет сделать ее чертеж и разослать, как образец для строительства виселиц, по всей Украине.
– Странно, что он не сделал этого. А может, и сделал.
– Тех двоих вешали, меня отводили в сторону, эсэсовец беседовал со мной, пока не привозили следующую группу, а потом, как бы между прочим, предлагал: «Сами не хотите испытать? Вон та, крайняя петля… она, как видите, не тронута. Из уважения к вам». И ждал, наблюдая, как я мучаюсь от сознания того, что сам же и сотворил это проклятие человеческое. Как боюсь, что нервы подведут меня и действительно взойду на помост. В то же время с ужасом жду, что Штубер вот-вот подаст сигнал солдатам-палачам, и те, ни минуты не медля, вздернут меня.
– Да, все это нетрудно понять, – вздохнул Беркут, стараясь хоть как-то поддержать разговор.
– Но пытка заключалась в том, что меня не вешали. Сам я тоже не решался надеть себе петлю на шею. Вот и получалось, что Штубер дарил мне еще день, два, три дня – я не знал, сколько именно, но все же дарил эти дни жизни. И, грешен, каждый раз я мысленно благодарил его за это жестокое, варварское милосердие. Хотя и проклинал себя за свой страх, за рабское желание воспользоваться этим милосердием, за само желание жить, пусть даже вот так, не по-человечески, но жить.
– Изысканная пытка. Штубер это умеет, – тихо проговорил Андрей, когда в скорбном рассказе Отшельника наступила очередная пауза.
– Изысканно умеет.
Вновь выглянувшее из-за тучи солнце лениво освещало часть задней стены пещеры, и красноватые лучи его сливались с отблесками пламени костра. Наверно, вот так же, при свете закатного солнца и пламени костра, эта пещера не раз слышала дивные и жутковатые сказания монахов, библейские притчи и житейские исповеди. Однако вряд ли когда-нибудь под ее сводами звучала более страшная исповедь. Ибо трудно предположить что-либо бесчеловечнее и мрачнее в своей осмысленной жестокости, чем то, что пришлось пережить этому человеку.
– Извини, что заставил вспоминать все это.
– Ничего ты меня не заставлял, капитан. Каждый вечер, каждую ночь я переживаю все это заново. Все заново: каждую казнь, каждый разговор со Штубером, каждую его пощаду, каждое жестокое милосердие, каждый взгляд и крик человека, взошедшего на помост моей «образцовой рейхс-виселицы». А знал бы ты, как начали ненавидеть меня пленные, жившие со мной в одном блоке. Как все они ненавидели меня! Ведь лагерное начальство, – очевидно, по подсказке этого эсэсовца, – сделало так, что вешали в основном из этого блока. Подселяли все новых и новых, чтобы затем вешать из этого барака висельников – партизан, евреев, штрафников, коммунистов, офицеров… Даже слух между пленными пошел, что это я сам отбираю жертвы. Сам называю начальнику охраны, кого следует казнить сегодня, кого оставить на завтра. Меня в палача превратили, а?! Конечно же, никто никогда совета у меня не спрашивал. Но кому это объяснишь?
– Значит, и мучить себя нечего. Так я понимаю?
– «Понимаю»! Что ты можешь понимать в этом? Если я сам с собой разобраться не могу. Не спрашивали – это правда. А если бы спросили? Если бы потребовали назвать список следующей партии висельников?! – вдруг резко обернулся он к Беркуту. – Если бы потребовали, а? Что тогда?! Ведь назвал бы! Назвал, назвал, как птенец прочирикал бы! И каждый день называл бы. Потому что знал: за невыполнение – казнь. А я хотел жить. Я вымаливал милосердие у своих палачей. И ничего не мог поделать с собой. Ничего! Другие решались, набирались мужества. Переступали через собственный страх, через жалость к себе, через ту самую «мучительную жажду жизни», как писал кто-то поумнее нас с тобой. Да, решались, я сам видел таких. Одни из отчаяния, другие из бесшабашности своей, третьи – из убежденной ненависти к врагу, убеждения в правоте своей борьбы. А я не мог. Вот не мог – и все тут.
– Вот это я как раз могу понять. Потому что это – искренне. Это я способен понять, как никто другой. Там, в доте, мне самому не раз приходилось переступать и через страх, и через жажду жестокого милосердия. Пусть даже самого жестокого. Правда, не Божьего, а сугубо человеческого.
– Вот видишь… – упавшим голосом согласился Отшельник, тяжело вздохнув.
Вода в котелке уже закипела, но он не спешил снимать его, хотя и в костер тоже не подбрасывал. Беркут несколько раз заглядывал в котелок, однако в кашеварные хлопоты его не вмешивался.
– Наверно, в бараках говорили, что сам ты и вешаешь своих товарищей?
Отшельник удивленно взглянул на Беркута, и капитану показалось, что глаза его сверкнули ненавистью.
– Что, тоже слышал об этом? Я спрашиваю…
– Слышал, конечно, – соврал Беркут. – Слухи есть слухи. Но не поверил. Я ведь запомнил тебя как скульптора, резчика по дереву, как мастера. И не поверил.
Несколько минут Отшельник молча смотрел на затухающий костер. Казалось, что огонь немного успокаивает его.
– Это неправда. Я не вешал. Потом не вешал. Никого. Больше никого! Кроме тех двоих.
– Каких двоих? – не понял Андрей.
– Плотников, которые вместе со мной строили саму эту рейхс-виселицу.
– Так это ты их?!
– А, не знал, значит! – злорадно улыбнулся Отшельник. – Да, я. Штубер приказал. Похвалил работу и сказал: «Ну что ж, вам, как бывшему семинаристу, должно быть известно, что гильотину – есть во Франции такая адская машина – испытывали на самом изобретателе. Не будем же мы нарушать традицию. Вот вам, товарищи мастера, и предоставляется почетное право испытать собственную виселицу. Кому из троих отведем роль палача?» Мы онемели. От наглости его, от бездушия и… страха. Нам как-то и в голову не приходило, что нас же первыми и повесят. Все страшные мысли мы отгоняли. Сразу же отгоняли. И ни о чем таком между собой не говорили. Только то, что необходимо по работе: подай, отмерь, подгони, подстрогай. Штубер нас не торопил. Дал двадцать минут на размышление. Чтобы сами избрали себе палача, из своего круга. И сами решили, кого из двух обреченных палач должен вздернуть первым.
– Очередной психологический эксперимент Штубера, – мрачно согласился Беркут. – Его садистские игры. Моральная казнь обреченного. Им самим… обреченного.
– Я и сейчас все это вижу: мы смотрели друг на друга и молчали. Все двадцать минут. Молчали и плакали. Стояли, обнявшись, и плакали. Не хотелось нам быть ни жертвами, ни палачами. Потому и сказали: «Раз три петли, все трое вместе и взойдем». Артюхов, самый старший из нас, так решил. А мы согласились.