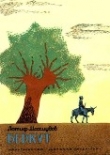Текст книги "Колокола судьбы"
Автор книги: Богдан Сушинский
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
13
Только теперь, ощутив в своих объятиях плечи Анны, он понял, как немыслимо давно познавал трепет женского тела, как соскучился по нежному прикосновению девичьих рук и какими упоительными кажутся пылкие поцелуи…
– Тебе нравятся мои ноги, пан лейтенант-поручик? – тихо спросила девушка, беря руку Андрея и нежно проводя ею по оголенному, еще не остывшему от угасающей страсти бедру.
– У тебя очень красивые ноги, – прошептал Беркут, поддаваясь вновь нахлынувшей на него чувственности.
– А разве ты сжимал когда-нибудь в своей руке такую упругую грудь? – перевела его руку так, чтобы капитан ощутил под своей ладонью топорщащийся сосок.
– Такой – нет, никогда, – поддавался условиям ее игры Андрей, с удивлением открывая для себя, что говорит совершенно искренне.
Почти двое суток он добирался до этого хутора, когда-то давно слившегося с ближайшим селом, – чтобы увести отсюда Корбача, Арзамасцева и Анну в лагерь десантников.
Рейд выдался немыслимо тяжелым. Гестапо, полиция и румынская жандармерия уже знали о высадке десантников, появление которых встревожило их сильнее, нежели существование всех остальных, давно действовавших в округе партизанских отрядов. И теперь они старались перекрыть все дороги, все подступы к селам и местечкам, на которые волна за волной накатывались в эти дни обыски, проверки и усиленные облавы.
То, что группе Корбача, которого Беркут назначил командиром, до сих пор удавалось каким-то образом уцелеть, показалось капитану чудом. Впрочем, оно имело объяснение. Дом находился на вершине холма, и из окон его видны были все подступы к усадьбе, поэтому всякий раз по глубокому оврагу партизанам удавалось уходить в заросли терновника, посреди которого они заползали в подземелье, подготовленное хозяином еще во времена Гражданской войны.
– Ты сразу же набросился на меня, ты слишком торопился, – шептала Анна, укладывая Андрея на плечо и проводя сосками своей груди по его губам.
– Это потому, что очень хотел тебя.
– Неправда, это потому, что очень боялся, что я заупрямлюсь и откажу тебе.
– Сойдемся на том, что очень хотел тебя, но очень боялся твоего упрямства.
– Никогда больше не поступай так.
– Никогда-никогда?
– Мною нельзя насыщаться, как нежной телятиной после Великого поста.
«Очень нежной телятиной», – иронично, потакая собственной вредности, уточнил Андрей, однако вслух высказать это не решился. Вслух он сказал:
– Очевидно, пост мой «великий» слишком затянулся. Это был великий военный пост.
– Это не оправдание, Анджей, – молвила она с милым польским акцентом.
Беркуту нравилось, когда она произносила его имя на польский лад. Ему многое нравилось в это девушке: её фигура, её храбрость и воистину солдатская выносливость, умение приспосабливаться к самым сложным походным условиям. Да, Андрей знал, что именно нравится ему в этой девушке, но никак не мог понять, почему до сих пор не влюбился в неё. Может, только потому, что до сих пор не мог забыть другую девушку – Марию Кристич?
– Согласен, это не оправдание, – сказал капитан, когда, пытаясь растормошить его, Ягодзинская повторила своё утверждение. – Зато хоть какое-то объяснение.
– Мною не нужно насыщаться, Анджей! Мною следует наслаждаться; каждой частью, каждой клеточкой моего тела – наслаждаться, – почти по слогам повторила она.
– Божественно. Постараюсь научиться этому, Анна. Но уже в следующий раз. Двое суток блужданий, и две перестрелки с полицаями. Наверно, я слишком устал, чтобы насыщаться тобой еще раз.
– А теперь подумай, сколько ночей, сколько возможностей для таких вот ласк мы с тобой уже упустили.
– Об этом лучше не думать. Чтобы не терзать себя.
– Нет, ты все же думай и терзай себя. Долго-долго терзай. Обещай, что всю оставшуюся жизнь будешь терзать себя за то, что столько ночей по твоей воле мы уже прожили без любви.
– Остаток своей жизни я проведу в терзаниях, – клятвенно пообещал Беркут, чувствуя, что безмятежно засыпает.
– Тебе еще многому нужно будет научиться, Анджей, – шептала полька, касаясь губами его ушка. – Однако первые уроки постараюсь дать тебе уже сегодня.
Беркут пришел поздно вечером и узнал от хозяина, деда Уласа, что Арзамасцев и Корбач остались ночевать в «схроне», как он называл свое подземелье в терновнике. Вот уже вторые сутки, как по окрестностям села шастали полицаи, и Улас очень опасался, что они застанут партизан у него в доме. Появление в нем Анны он еще как-то мог объяснить, выдавая ее за племянницу покойной жены, которая была полькой. А вот объяснять появление двух вооруженных парней ему уже пришлось бы в гестапо. Перед казнью.
Девушка вновь поводила сосками по лицу парня, затем несколько раз прошлась над его губами всем телом, от подбородка до самых интимных мест. А когда почувствовала, что он опять возбужден, улеглась рядом и принялась целовать его губы, шею, грудь, медленно спускаясь все ниже и ниже, пока наконец не раздался тот сладостный стон мужчины, которым он признает себя полностью порабощенным.
Принимая у себя партизан, Улас сразу сказал, что делает это лишь из уважения к Беркуту, который в свое время освободил их село от «сатаниста» старосты и двух его родственников-полицаев, зверствовавших здесь с осени сорок первого. И постелил им обоим в теплой комнатке, одна из стен которой была стеной жарко натопленной печи.
«Дело молодое, – сказал, – поэтому меня не стесняйтесь. Хотите отлюбить эту ночь вместе, так отлюбите её!» И заслужил у Анны «поцелуй благодарности».
Теперь Беркут был признателен хозяину, что тот сумел подарить ему такую женщину и такую потрясающую ночь любви.
– Разве до меня была женщина, которая ласкала тебя так, как только что ласкала я?
– Такой женщины, как ты, у меня не было и быть не могло. – Беркут мог бы сказать, что когда-то давно женщина пыталась «любить» его таким же образом. Но она была слишком опытной для него, курсанта первого года обучения. Поэтому, застеснявшись, он ретировался.
– Если ты женишься на мне, Анджей, я подарю тебе множество таких ночей. Это будут потрясающие ночи, каких не сможет подарить тебе ни одна куртизанка.
– Мне придется серьезно подумать над твоим предложением, Анна.
– Когда будешь очень-очень серьезно думать над этим, то помни, что я не развратная, а… способная. Постель тоже требует таланта. Особого женского таланта. Так вот, он у меня есть. А еще я безумно люблю тебя, Анджей.
Засыпал Беркут уже под утро и совершенно обессилевшим. В этом состоянии он, наверное, смог бы проспать целые сутки, однако утром его поднял с постели испуганный голос деда Уласа:
– Поднимайся, Беркут! Твоих солдатиков полицаи схватили! Я козу выводил и видел.
– Каких солдатиков, какие полицаи?! – тяжело приходил в себя капитан, и лишь увидев, как, поспешно набросив куртку на голое тело, Анна схватила лежащие на лавке свой и его автоматы, решительно поднялся.
– У терновника полицаи устроили засаду. Кто-то, очевидно, донес, – испуганно вводил его в курс дела Улас. – Солдатиков твоих взяли без боя, когда они выползали из зарослей, обезоружили и теперь ведут сюда.
– Сколько полицаев?
– Пятеро.
– Не так уж и много, – заметил Беркут, обуваясь и проверяя оружие. – У тебя, Улас, оружие есть?
– Нет.
– Тогда вот тебе мой пистолет. Курок я взвел, как стрелять, ты знаешь. Только спрячь его пока что в карман. И выйди к полицаям.
– Они застрелят меня.
– Могут и застрелить. Но ты все же выгляни и поинтересуйся, почему полицаи ведут арестованных к тебе.
– Потому что твои солдатики уже выдали меня.
– Не может такого быть! Чтобы полицаям, да еще вот так, сразу, без допросов, без пыток! Так не бывает. – Беркут хотел добавить еще что-то, но в это время на крыльце послышались шаги и один из полицаев крикнул:
– Эй, Улас, сам выходи и выводи свою польку-партизанку! Не выйдете, сожжем вместе с хатой!
– О тебе, как видишь, не знают, – едва слышно проговорил Улас. – Проворонили, значит.
– Я заметил полицейский наряд и пробрался краешком сада. Последние метры, до самого крыльца, ползком пробирался.
– Ты в этих делах опытный, – признал Улас. – Не то что твои солдатики.
Они взглянули на Анну. Девушка стояла между окном и дверью, прижавшись к стене и приподняв автомат, чтобы легко можно было распорядиться им.
– Нет у меня никакой партизанки, пан полицай! – ответил Улас, когда в дверь ударили прикладом винтовки. – Наговорили на меня, Григорий!
– Мы ее с вечера только потому и не тронули, чтобы остальных двух выследить, да узнать, где ты их прячешь. Может, ты еще и Беркута ждешь?
– А это кто такой? Ты же меня, Григорий, знаешь: я партизанам не помогаю, меня самого когда-то раскуркуливали!
– Многих раскуркуливали, но когда это было! Так что выходи, по-соседски потолкуем. Эй, – обратился Григорий к своим полицаям, – положите-ка этих партизан-висельников на землю, а сами станьте у окон!
«А вот укладывать моих ребят на землю вам не следовало! – молвил про себя Беркут. – Это сразу же облегчает мне жизнь». И тут же вполголоса приказал Уласу:
– Выходи на крыльцо, стреляй в Григория и падай, дальше я сам с ними поговорю.
На самом же деле получилось так, что Беркут выскочил на крыльцо вместе с хозяином. Спрятавшись за спиной Уласа, он с силой толкнул его «в объятия» Григория, и, прорвавшись мимо них, прошелся автоматной очередью по еще не успевшим рассредоточиться полицаям.
Двое сразу же упали, третий, направлявшийся к окну, за которым стояла Анна, успел выстрелить, но Андрея спасла мощная дубовая опора крыльца. В следующие же мгновения Анна буквально иссекла полицая пулями и осколками стекла.
Четвертого карателя Беркут на какое-то время упустил из вида и обнаружил, когда на него уже навалился Корбач. Как потом выяснилось, даже лежа на земле, Звездослав сумел захватить его за ноги и повалить. На помощь ему на четвереньках пришел Арзамасцев: подобрав винтовку, он навалился стволом на горло выворачивавшегося из-под Корбача полицая.
Резко развернувшись к просторному крыльцу, капитан увидел, что Григорий и Улас так и стоят на нем, привалившись друг к другу, словно встретившиеся после долгой разлуки.
Еще не понимая, что произошло, Беркут бросился к полицаю, вырвал его из объятий Уласа, и только тогда увидел, что живот его залит кровью. В ту же минуту рухнул на землю и сам Улас. Уже получив пулю в живот, полицай сумел ударить старика финкой в бок, очевидно, выхватив ее из-за голенища.
– Как ты оказался здесь, Беркут?! – вытаращился на него Арзамасцев. – Господи, нам послало тебя само небо!
– Именно так все и произошло, – сдержанно отмахнулся от него Беркут.
– Пока нас от терновника вели, я только о том и молился: «Дева Мария, был бы здесь Беркут! Если б только появился Беркут – единственное наше спасение!»
– Божественные у тебя молитвы, ефрейтор. Только на войне молиться нужно на себя, а не попадаться так глупо, как вы с Корбачем. Без охраны спали, как сурки, и Деву Марию впутывать в эту историю нечего!
– Это будет нам уроком, Беркут, – покаянно молвил Арзамасцев.
Однако капитан не ответил. Как и двое других мужчин, он смотрел теперь на медленно спускавшуюся с крыльца с автоматом в руке Анну. Девушка была так счастлива видеть его живым, что совершенно забыла, что под распахнутыми полами куртки сверкает ослепительной белизной и соблазняет первородным грехом оголённое тело.
14
Предвечерний лес казался умиротворенно-тихим и нехоженно-таинственным. Разомлев за день под неожиданно теплыми в эту пору солнечными лучами, сосны источали терпкий аромат древесной смолы, хвои и того особого лесного настоя, который не поддается никакому сравнению, но который неизменно пьянит каждого, кто таким вот погожим днем вдруг окажется в сосновом бору.
– А ведь, по партизанским понятиям, места эти райские, – почти сонно пробормотал младший лейтенант, укладываясь на густо усыпанный сосновыми иглами краснозем, в трех шагах от лежащего в пожелтевшей траве командира.
– По человеческим понятиям – тоже, – сегодня Беркут решил показать Колодному Змеиную гряду, считая, что лучшего места для закладки зимнего лагеря младшему лейтенанту не сыскать.
Поведение немцев подсказывало ему, что база на Лазорковой пустоши для них уже давно не тайна. И что по первому снегу, когда леса вокруг плато основательно оголятся, они обязательно оцепят его и штурм будет упорным и недолгим.
– Я, конечно, понимаю, что «партизанские понятия» имеют свою, особую, специфику, – попытался уточнить Колодный, – и не всегда связаны с красотами природы.
– Вот именно. Скорее – с ее суровостью. Там, – кивнул Беркут в сторону хаотично громоздящихся скал и валунов, – природа и в самом деле скуднее. Зато есть куда отойти и часок-другой продержаться.
– Я так понял, что тот, последний, бой вашей группы…
– Нет, не здесь, – уловил суть вопроса Андрей. – Это происходило по ту сторону гряды. Или где-то западнее. Впрочем, тогда я тоже добирался в эти места с проводником. Слышь, Гандзюк, ты ведь у нас местный… Гряда, похожая на крепостную стену… Приходилось видеть такую?
– Есть такая, есть. Сам когда-то залюбовался. Только отсюда далековато. Напрямик если – километра четыре, но придется сбить две пары сапог. А в обход – все восемь. Если держаться по правую руку – чуть ближе. Но там болото, – медленно, с ленцой объяснил сорокапятилетний боец из отряда Иванюка, направленный к ним связным.
– Тогда веди к ней, – потребовал младший лейтенант.
– Зимовать все-таки лучше здесь. Горы защитят от холодных северных ветров, до села и шоссе отсюда ближе. Лес тоже гуще. Да и ручей рядом. – Высказав все эти доводы, Гандзюк удобнее привалился к позеленевшему валуну и то ли задремал, то ли погрузился в какие-то свои воспоминания, будучи уверенным, что погнать его в дебри этого чертового нагромождения скал командиры уже не решатся.
До войны Гандзюк был лесником, его кордон находился недалеко отсюда, и вряд ли они смогли бы найти лучшего проводника. Однако от Гандзюка тоже услышали немногое. Шел он молча, отвечал односложно, причем так, что не всегда было понятно: согласен или возражает. Да и по окрестностям гряды вел как-то неохотно, стараясь не заходить в глубь плато – всё по краешку да по краешку.
– Но если немец прижмет по-настоящему, – вмешался Горелый, который до сих пор тоже предпочитал отмалчиваться, – лагерь нужно будет перенести под ту самую стену. Когда-то, еще школьником, я побывал по ту сторону Змеиной Камьяницы – так мы ее называем. Скалы, пещеры… На таких позициях держи оборону хоть целый месяц.
– Вот только собрались мы в этих лесах не для того, чтобы месяцами обороняться, – заметил капитан. – Гандзюк прав: к селам и шоссе отсюда ближе. А значит, действовать будет удобнее. Да и люди меньше будут изматываться.
Беркут действительно не сомневался в том, что лесник прав. Потому и решил: «Отдохнем минут двадцать, и еще раз обойдем окрестности, выбирая место для землянки».
Однако, убеждая других в том, что искать сейчас «крепостную стену» нет ни времени, ни смысла, сам капитан едва подавлял в себе желание тут же подняться и пройти хоть восемь, хоть все восемнадцать километров, лишь бы еще раз побывать на Змеиной гряде. В тех местах, где погибли его ребята, где, отстреливаясь последними патронами, уже не надеясь вырваться из этого ада живым, он упорно уходил к перевалу. Побывать, вспомнить своих бойцов, поклониться обугленным останкам дуба-патриарха…
В том бою Крамарчука с ними не было. Мазовецкий, побывавший на задании вместе с сержантом, остался жив. А вот сам сержант исчез. Если бы он уцелел, то, конечно, сумел бы найти его или отряд Иванюка. Тем более что в окрестных селах к тому времени опять заговорили об отряде Беркута. К тому же далеко уйти Крамарчук не мог. В любом случае он держался бы поближе к этим краям, к Днестру.
В серой туче медленно очерчивался нимб угасающего солнца. Лучи его поползли по листве березы, по замшелым камням и образовавшимся в каменных воронках усыпанным листвой озерцам.
«А если бы он и ушел из этих мест, то лишь в попытке разыскать Марию, – подумал Беркут, поправляя под собой полу шинели. Сначала земля показалась ему довольно теплой, но теперь она, похоже, остывала даже под его телом. – Только в поисках Марии, – добавил он уже более уверенно. – Она – последнее, что у нас двоих оставалось в этой распроклятой войне».
– Пережить бы эту зиму, капитан, – тяжело вздохнул Колодный. – Если не поступит приказ и нас не вырвут отсюда за линию фронта, для меня это будет самая страшная зима. Прошлой меня забросили в тыл врага всего на месяц. Но до сих пор вспоминаю его, словно десять лет, проведенных в сибирской тайге.
– Мне вспоминать будет труднее. Для меня она будет третьей.
– Понимаю, капитан. С содроганием, конечно. Вряд ли я смог бы так. Удивляюсь твоему характеру. Даже то, что мне пришлось увидеть самому… Увидеть тебя в бою…
– Брось, лейтенант, – недовольно поморщился Беркут. В последнее время он почти никогда не добавлял «младший». Так было проще.
Колодный умолк, и Андрей вновь мысленно увидел Марию… Ту, лежащую на камне в каком-то провале, в котором, вырвавшись из замурованного дота, они оказались после блужданий по карстовым пещерам.
«Что ты знаешь об аде, младший лейтенант?! Зима в тылу врага! А замурованный, облепленный врагами дот, в котором отсчет жизни и смерти ведется на секунды?»
Мария… Ей нужно было уйти из этих мест. Еще в сорок первом. Она же, наоборот, стремится быть поближе к отряду, хотя понимает, что это связано со смертельным риском. Зачем? Странный ты человек, возразил Андрей сам себе. Все очень просто: хочется быть рядом с тобой и Крамарчуком. Да, и с Крамарчуком – тоже. Нельзя же отказывать ей в чувстве солдатского братства только потому, что она женщина! Просто тебе страшно видеть ее в бою – это другое дело. Ты любишь эту женщину, и сама мысль о том, что она снова и снова подвергается опасности, находясь при этом почти рядом с тобой, становится невыносимой.
Понятно, что пребывание в отряде было бы для нее смертельно опасно. Но разве в Квасном ей, защищенной от врага всего лишь какой-то липовой справкой сельского старосты, бояться уже было нечего? В отряде она по крайней мере могла бы рассчитывать на твою помощь. А на кого ей было рассчитывать в чужом селе? Однако тогда, во время боя у Змеиной гряды… Ну, что тогда-тогда? Поклонись в ноги сержанту за то, что не привел Марию Кристич в отряд. И хватит об этом.
– Гандзюк! – позвал он задремавшего лесника. – Там, за грядой, у «крепостной стены», я наткнулся на большую пещеру. Немцы шли по пятам, поэтому вскочить туда я не решился…
– Есть пещера, есть, – неохотно, сквозь дрему, отозвался Гандзюк.
– Так повел бы нас туда, – оживился Колодный. – Вдруг и в самом деле стоящая пещерка? В морозы можно было бы в ней пересидеть. И лазарет неплохой, особенно если «мессеров» на нас натравят.
– Так ведь пещер в этих краях много, потому и не в диковинку. Об этой же мало кто и знает. Ущелье там, как преисподняя, – все так же лениво, утомленно объясняет Гандзюк. – Туда и попасть-то можно, только вскарабкавшись на гору, чтобы затем пройти по едва заметному карнизу.
И вновь рассказ лесника неожиданно обрывается. Беркут несколько минут выжидает и, понимая, что никакого желания вести группу к гряде у Гандзюка нет, негромко командует:
– Подъем! Группе выступить на поиски места для лагеря.
Все неохотно поднялись и подошли к командиру.
– Но все же, подземелье это действительно большое? Или так себе? – не унимался младший лейтенант. – Если большое…
– Змеюшник это, а не подземелье, – бубнит лесник. – Весь этот камень – сплошной змеюшник. Весной всё гадьё из ближайших лесов туда почему-то сползается. За всё своё лесничество я только раза четыре и побывал там. Да и то дважды – после первых снегов, когда гадьё в спячку уходило.
Он хотел сказать еще что-то, но из ельника вдруг донесся сухой, ревматический треск веток. Партизаны переглянулись. Треск повторился, и люди, привыкшие прислушиваться ко всему, что происходит вокруг, «читая» звуки леса, безошибочно определили, что ветки трещат под ногами человека. В следующее мгновение все трое снова оказались в густой омертвевшей траве, приготовили оружие и замерли, внимательно всматриваясь в черневшие впереди заросли.
Только сейчас Беркут осознал, что, располагаясь здесь на отдых, они нарушили святую заповедь партизан: никогда не устраивать привалы на полянах, на открытой местности, тем более если неподалеку виднеются заросли. На такой поляне они, конечно же, могут оказаться великолепными мишенями, а сменить позицию будет трудно.
Поняв свою оплошность, они начали бесшумно отползать-пятиться назад, к камням, между которыми кое-где выпячивались молодые сосенки. Но выстрелов всё не было и не было. Треск веток тоже прекратился. Наверное, они так и решили бы, что это пробежал зверь, если бы вдруг из чащобы не послышался резкий окрик:
– Лежать на месте! Кто вы?!
Каким же знакомым показался Беркуту этот голос! Словно не из чащобы донесся он, а из самих воспоминаний. И принадлежать он мог только Крамарчуку. Но Андрей отказывался поверить этому. Такого просто не могло быть! Слишком уж похоже на появление духа, вызванного его собственными грезами и заклинаниями. – Оглохли, что ли?! Или пальнуть, чтобы штаны просохли?
Теперь Беркут уже не сомневался, что человек, державший их в траве под дулом автомата, – Крамарчук. Только потому, что он упрямо не верил ни в каких духов, перед ним вдруг восстал нахрапистый дух его бессмертного сержанта из 120‑го дота. Но именно эта уверенность почему-то мешала позвать его, окликнуть и вообще что-либо предпринять.
Прямо под стволом его шмайсера медленно проползла длинная, полуоблезлая какая-то змея, как живое подтверждение того, о чем только что говорил Гандзюк. Забыв на какое-то время о Крамарчуке и о том, что в руках у него оружие, Андрей оцепенело, как насмерть перепуганный мальчишка, ждал, когда она исчезнет. Невольно вспомнился убитый во время боя под Подольском партизан из отряда Иванюка. Когда лейтенант подполз, чтобы оттянуть его поближе к своим, то увидел, что прямо на лице погибшего свилась в кольцо гадюка. Никогда в жизни смерть не представала перед ним в таком омерзительном виде, как тогда.
– А кто ты такой?! – первым нашелся Горелый, перекатившись за усеянный муравьями пень. Очевидно, он решил, что офицеры умышленно молчат, чтобы не выдавать себя.
– Апостол Павел! – грубо ответил Крамарчук. – Поднимись и отряхни штанину, чтоб я поглядел на тебя, вояка хренов!
– Крамарчук! – Беркут не узнал своего голоса. Мог ли он представить себе, что появление Николая настолько взволнует его. – Ты ли это, сержант?!
– Во спасение души, командир! Так это ты, со своими гренадерами?! – снова раздался треск сучьев. Наверно, Крамарчук поднялся с земли или вышел из-за ствола дерева, за которым прятался. – Громов, душу твою!..
– Откуда ты взялся?! – поднялся с земли и Андрей.
– Громов! Комендант! Живой! – пробивался к нему Крамарчук через заросли, словно медведь через малинник. – Во спасение души, командир!
Он предстал перед ним в куцей, желтоватой мадьярской шинели, туго стянутой немецкой портупеей, с двумя висевшими на животе кобурами; с немецким автоматом и биноклем на длинном ремешке. Тут же, за ремнем, деревянными ручками вниз, торчали две немецкие гранаты, а прямо за пряжкой покоился кинжал с длинным узким лезвием и свастикой на набалдашнике рукоятки.
Вид этого лесного пришельца был настолько необычным, что после коротких объятий, прежде чем что-либо спросить у сержанта, Беркут отступил на два шага и удивленно осмотрел его с ног до головы. Казалось, что этот сильно исхудавший, но все еще довольно крепкий на вид человек весь нафарширован оружием. Тем более что из карманов шинели торчали автоматные рожки, а из-за голенищ – рукоятка третьего пистолета и немецкий штык.
– Я к тебе шел, командир, – взволнованно проговорил Крамарчук, перехватив его иронический взгляд. Словно это «я к тебе шел» все объясняло. – Не имея никакого представления о том, где ты. И жив ли.
– О, сзади еще и саперная лопатка. А в ранце… – бесцеремонно изучал его со спины Колодный, – в ранце – плащ-палатка, бутылка шнапса, кусок колбасы и… лимонка.
– Но сюда?… – не обращал Беркут внимания на шпильки младшего лейтенанта. – Как ты сюда попал?
– Так ведь я не один. Со мной пан поручик Мазовецкий. Только он где-то отстал. Ногу натер. Давай, младшой, доставай колбасу, дели на весь полк, – начал сержант стаскивать с себя ранец, лишь бы Колодный не мешал ему наговориться с лейтенантом. – Только обо мне не забудьте. Особенно когда дойдет до шнапса.
– А Мазовецкого ты где встретил? – поинтересовался Беркут.
– На тайной явке.
В лагере поляка не было уже целую неделю. Он отпросился у капитана, чтобы побыть в одной из деревень, у своих знакомых, и хоть немного подлечить донимавший его в последнее время желудок. К тому же хотел восстановить кое-какие старые связи в местной польской общине.
Беркут давно подозревал, что поручик тайно намеревается создать свой, польский партизанский отряд. И хотя Мазовецкий старался не затевать разговоры по этому поводу, несколько раз он все же намекал, что подобный отряд действительно можно было бы создать. Однако возникла серьезная проблема.
«Ты, Беркут, пойми, – разоткровенничался как-то поручик, – польская проблема слишком сложна, чтобы ее способен был решить некий поручик Мазовецкий. Дело не в людях: найти пятьдесят-шестьдесят поляков, которые бы составили костяк будущего отряда, я бы уже давно сумел».
«Почему же не собрал? Я бы даже помог оружием, провел несколько тренировок».
«Но при этом потребовал бы, чтобы мои поляки отстаивали советские, пролетарско-интернациональные идеалы и с надеждой ждали прихода сюда Красной армии».
«Если они станут молитвенно ждать прихода в эти края английской королевской армии, возражать и возмущаться не стану, – рассмеялся Беркут. – Единственное, что сделаю, так это искренне посочувствую несбыточности их надежд».
«Нет, они, конечно, понимают, что прийти сюда сумеет только московская армия, – явно смутился Мазовецкий, – но речь идет о душевных порывах, которым поляки подвержены значительно больше, нежели другие славяне».
«Да пусть они верят себе в кого угодно, главное, чтобы били немцев, а не прислуживали им; чтобы сопротивлялись, а не покорно ждали своей участи. Вот и вся философия войны как таковой».
Мазовецкий томительно помолчал, прикидывая, как бы поточнее выразиться, поубедительнее воспроизвести всю сложность «извечного польского вопроса в Украине».
«Видишь ли, лейтенант, мы не можем не учитывать идеологической направленности нашей борьбы. Ты даже не догадываешься, насколько поредевшая польская община этой части Подолии разобщена. Одни готовы сражаться, но, только причисляя себя к подчиненной Лондону Армии Крайовой, которая отстаивает основы буржуазной Польши. Другие склоняются к Польше социалистической и ориентируются на те воинские части Армии Людовой, которые формируются где-то под Москвой, а значит, рано или поздно должны будут схлестнуться на поле боя с „краёвцами“».
«Но и это еще не всё, – мрачновато усмехнулся тогда Беркут, давая понять, что кое-какие нюансы этой извечной польской проблемы ему всё же известны. – Нельзя сбрасывать со счетов польские националистические амбиции и территориальные претензии Речи Посполитой. Разве не так?»
«Представь себе, лейтенант, нельзя! – признал поручик. – Ибо куда денешься от того факта, что и „краёвцы“, и „людовцы“ и даже сторонники польской государственности под протекторатом рейха, единодушны в том, что Украина должна входить в состав Великой Польши от моря до моря. И на этой почве уже не раз вступали в конфликт с местными украинскими партизанами и подпольщиками – как советскими, так и подчиненными Организации Украинских Националистов и сотрудничавшими с Украинской Повстанческой Армией».
Однако все это было в прошлом. И с какими впечатлениями вернулся теперь Мазовецкий из своего рейда в польскую диаспору в Украине – это Беркуту еще только предстояло выяснить.
…Даже Гандзюк, до того сонно стоявший в стороне под деревом, вдруг подошел к Крамарчуку, осторожно, двумя пальцами, достал из-за пряжки кинжал и, словно золотую монету, попробовал кончик лезвия на зуб. Пока они говорили, он так и стоял потом с кинжалом на ладонях обеих рук, всё не решаясь вернуть его хозяину. Это мастерски изготовленное оружие околдовало его.
– Так где же ты встретился с Мазовецким? – повторил свой вопрос Беркут.
– Где и должен был встретиться – у одной молодки, в селе Горелом, – объяснил Крамарчук. – Я там у какого-то деда задушевного заночевал. Он меня ночью чуть топором не зарубил, решил, что я немцами подослан, чтобы уличить его в связях с партизанами. Но когда я прочел ему по этому поводу «политграмоту», смилостивился и под утро, за стаканом самогона, шепнул: «Хочешь, с немцем одним сведу? Ядреный, скажу тебе, немец. Вроде аж из Варшавы присланный, чтобы, значится, за наших воевал. Он тут к соседу, Ивану Лознюку иногда наведывается. Только мы двое и знаем о нем». Четыре дня я опухал от дедова самогона, пока не дождался этого «варшавского немца». Зато как узнал, что совсем недавно он сидел с тобой за одним партизанским костром, готов был его расцеловать. Хотя поляков отродясь недолюбливал. И потребовал, чтобы вел к тебе, причем как можно скорее.
– Судя по всему, тебе здорово повезло.
– Как святому грешнику. Да бери ты, отец, этот кинжал, пользуйся, – успокоил он Гандзюка. – Мне его немецкий майор подарил. «На вечную память». Так вот, вчера я нашего пана поручика у соседа выследил, а сегодня к табору притопали, но тебя с ребятами не застали. Говорят, полчаса как ушел. Завтра должен вернуться. А я ждать не могу. Не могу – и всё тут. Нервы сдали. Вдруг с тобой что-то случится? Не увидимся же! Знаешь, оно всегда так бывает: вот, вроде уже всё, уже встретились, и вдруг – на тебе!
– Брось, сержант…
– Ну да, снова слюнявлю. Это ты у нас человек бесчувственный. А я не могу. Словом, Мазовецкого я уговорил. Старшина, спасибо ему, объяснил, куда вы пошли. И сказал, что держите путь к сгоревшей хате лесника. Все выложил. Возле этой хатки мы и взяли ваш след. Земля влажная, поэтому я по нему лучше всякой немецкой овчарки пошел. Ну а по дороге Мазовецкий о твоем плене, о побеге, о многом другом натараторил.
– Ты лучше скажи, где Мария. Что с ней?
– Что? – споткнулся Крамарчук о его вопрос, будто о камень. – Эй, Мазовецкий! Оберфюрер и генералиссимус всех существующих армий! Бери свои намозоленные ноги в руки и дуй сюда! Тут все кругом – свои и наши!
– Ведь ты же искал ее. И, конечно, нашел, – попробовал вернуть его к разговору Беркут. – Ну, чего замолчал?