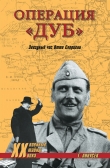Текст книги "Странники войны"
Автор книги: Богдан Сушинский
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
7
Беркут вновь осторожно приоткрыл глаза и увидел, что офицер стоит на краю ямы, прямо перед ним. Какое-то время обер-лейтенант всматривался в Андрея, пытаясь понять: жив этот расстрелянный или глаза его уже мертвы? Скорее всего – мертвы. Он даже наклонился, чтобы убедиться в этом.
– Жизнь – есть жестокое милосердие божье, господин обер-лейтенант, – яростно проговорил Беркут по-немецки и, резко пошевелив плечами, сначала освободил свою голову, а затем, поднатужившись, – то ли мертвые такие тяжелые, то ли сам он настолько ослаб? – с трудом поднялся на ноги. Теперь он стоял по грудь в безжизненных окровавленных телах и смотрел на онемевшего от удивления палача.
– Ты, кажется, что-то изрек, несчастный? – переспросил тот, обретя наконец дар речи. Больше всего офицера заинтриговало то обстоятельство, что чудом уцелевший заговорил по-немецки.
– Я сказал: «Жизнь – есть жестокое милосердие божье». Так было написано у подножия одного распятия. – Беркут проговорил это как-то слишком уж беззаботно, как человек, окончательно понявший, что спасения нет и терять ему больше нечего, но в то же время сумевший сохранить присутствие духа. – Именно это я и сказал вам, обер-лейтенант.
– Любопытное изречение. Древние умели ценить мудрость. Особенно, когда она исходит из могилы. Удивишь меня еще чем-то? – приподнял ствол пистолета.
– Смерть всегда лаконична. Поэтому пристрелите меня, окажите милость!
– Какая банальщина! – разочарованно ухмыльнулся обер-лейтенант и, заметив, что могильщики позамирали от удивления и стоят, ожидая конца их«загробного диалога», тут же гаркнул:
– Засыпаугь!
– Я обращаюсь к вам как офицер к офицеру. В вашем пистолете, думаю, найдется лишняя пуля. В конце концов вы получили приказ расстрелять меня, а не похоронить живьем.
– Ты кто, немец? – дуло пистолета отплясывало в руке обер-лейтенанта какой-то бешеный фокстрот, словно он ловил на мушку ускользающую от него мишень, но никак не мог поймать.
– Нет, русский. Офицер, – быстро проговорил Беркут, выплюнув изо рта большой сгусток крови.
– Разведчик, значит? Как же тебя здесь прозевали? Обычно таких в наш лагерь не посылают.
– Я всего лишь фронтовой офицер. Обычный окопник. – Беркут вдруг осознал, что обер-лейтенант проявил к нему интерес, который уже выходит за пределы интереса палача к своей ожившей жертве. И понял, что от этого разговора может зависеть сейчас его судьба.
«А вдруг!» – озарило его сознание. И ничего больше не успел подумать, только это обреченное: «А вдруг!»
– Просто в детстве увлекался немецким.
– Но ты хорошо говоришь. Слишком хорошо, – с явной подозрительностью в тоне добавил обер-лейтенант.
– Потому что воспитывался у немцев, когда-то давно поселившихся в России. Затем учился в институте. Готовился стать учителем немецкого.
– И все же... – заколебался офицер. – Ты свободно говоришь по-немецки. Почти без акцента.
– Я уже все объяснил, господин обер-лейтенант, – сдержанно напомнил ему Беркут. Он ведь выпрашивал у этого палача не жизнь, а пулю. Всего лишь пулю, полузасыпанным стоя посреди могилы, на груде тел своих собратьев.
Тем временем другие собратья, которым выпало быть могильщиками, трудились вовсю. В своем старании они не щадили даже его: глина сыпалась на голову, на грудь и спину.
«Куда они так торопятся? – резко оглянулся на них Беркут. – Боятся? Считают: чем скорее засыплют могилу, тем скорее похоронят меня, пусть даже живьем... тем больше шансов вернуться в лагерь? Логика могильщиков!»
– Было бы куда лучше, если бы вы признались, что являетесь разведчиком, – как бы про себя размышляя вслух, молвил обер-лейтенант.
«Ему нужен повод, – уловил его мысль Беркут. – Хоть какой-то повод для того, чтобы вытащить меня отсюда».
– Ну так не поверьте мне. Предположите, что перед вами скрывавшийся в лагере разведчик.
8
Гольвег исчез за дверью, а два диверсанта продолжали стоять, опершись руками о стол, и молча смотреть друг на друга: один решительно и воинственно, другой – заискивающе виновато. Кондаков словно хотел разжалобить Скорцени. Словно извинялся, что не способен вознестись до уровня «СС-командос», к которому стремился поднять своих фридентальских курсантов первый диверсант рейха.
– Курс вашей общей подготовки завершен, лейтенант. Оставшиеся десять дней мы будем готовить вас отдельно. По специальной программе, рассчитанной исключительно на выполнение операции «Кровавый Коба». Я не понял: вам что, не нравится название операции?
– Почему же... «Кровавый Коба». Это каждому понятно.
– Вот именно: каждому, – решительно подтвердил Скорцени. Не будь этот лейтенант знакомцем механика Сталина, Скорцени тотчас же изменил бы свой выбор. Лагерник – он и есть лагерник. – Ваша задача – совершить возмездие. Потом, в течение двух недель, Москва и ее окрестности, вся Россия будет отдана вам на откуп. Живите, наслаждайтесь, предавайте суду – и сами же исполняйте приговор...
– Нас отправится двое? – Как Скорцени и предполагал, на «двухнедельные московские радости» у Кондакова фантазии уже не хватило.
– Кажется, вы ничего не имеете против Меринова? Вы сработались с ним, мы это заметили.
– Нетруслив. Уголовником стал уже в сибирской ссылке...
– Зато нож и фомку пускает в ход, не задумываясь. В этом, согласитесь, есть свои преимущества. К тому же воровская жизнь приучила его скрываться, добывать харч, словом, выживать в любых условиях. Но... вы слышите меня, лейтенант Кондаков, если почувствуете, что бывший уголовник начинает колебаться, если у вас появится хоть малейшее подозрение... Немедленно убирайте его. Немедленно! Этот грех я возьму на свою душу.
– На моей тоже будет всего лишь грехом больше, – может быть, впервые за время их встреч проснулось самолюбие Кондакова.
Однако «греховный» спор их был самым банальным образом прерван появлением Гольвега.
– Вот она... – положил на стол нечто подобное засохшему комку грязи, величиной не более кулака.
– Вы уверены, что это именно она? – уточнил Скорцени, двумя пальцами потрогав то, что и в самом деле представляло собой комок рыжевато-черной грязи, только слепленной специальной клейкой массой.
– Не хотелось бы, чтобы инженер, который дал мне эту штуковину, продемонстрировал ее действие в нашем присутствии. Говорят, у этой мины фантастическая сила взрыва.
– Вы слышали, Кондаков? – обратился Скорцени к лейтенанту. – На вас почти месяц работал целый военный институт. Именно для вас создано это чудо пиротехники, аналогов которому пока что нет ни в России, ни в Англии.
Вместо того чтобы возгордиться и восхититься, Кондаков промычал нечто нечленораздельное* уже в который раз сбивая Скорцени с волны вдохновения.
– Вы отправитесь в Москву, имея в рюкзаках четыре таких мины. В случае опасности можете незаметно положить этот комок у своих ног, и все НКВД двадцать раз споткнется о него, но так и не догадается, что это мина, взрыватель которой действует от миниатюрного коротковолнового передатчика, размером с сигаретную пачку. Впрочем, все это слова Что там у нас на лесном полигоне, Гольвег?
– Все готово.
Через несколько минут диверсанты уже сидели в машине, увозящей их на спецполигон, на территории которого проходили «взрывную» практику курсанты Фриденталя. Инструктор, ожидавший их там, показал Кондакову, как пользоваться маленьким тюбиком, содержащим какое-то клейкое вещество, благодаря которому мину можно было легко прикрепить к стальному днищу старого, обреченного на гибель «опеля».
Кондаков сделал это лично и сам же, вернувшись в бункер, послал радиосигнал передатчика Взрыв был таким, что машину разнесло вдребезги, но не на земле, а где-то в поднебесье. И стальные обломки ее опадали в виде осколочного града.
– Ну вот, а вы, Гольвег, сомневались, – первым нарушил молчание Отто Скорцени, когда осколки достигли земли, а султан песка и пыли осел на обломках ближайших сосен. – Вас, Гольвег, всегда трудно в чем-либо убедить, пока не увидите собственными глазами.
– Но ведь такое приятно увидеть, – невозмутимо ответил Гольвег, краем глаза следя за удивленно посматривавшим то на него, то на Скорцени лейтенантом Кондаковым. Диверсант еще не понимал, что становится свидетелем обычного для Скорцени «психического спектакля» – как называли эти импровизации «первого диверсанта рейха» его подчиненные.
– Что скажете, лейтенант Кондаков? – мгновенно забыл о существовании гауптштурмфюрера Скорцени.
– Страшная сила.
– Операция «Кровавый Коба»!.. Старались. Диверсия века. Кто осуществил? Старший лейтенант Кондаков. Не оговорился, на задание вы отправитесь старшим лейтенантом, в рейх вернетесь капитаном. О награждении вас Рыцарским крестом позабочусь лично. Но это к слову. Вы видели, что минуту назад произошло с машиной? Конечно, у Сталина машина бронированная. Но мины будут потяжелее.
– Такая разнесет! – оживился Кондаков.
– Не думайте, что все две недели, которые остались до высадки в России, вас будут развлекать такими зрелищами. Эта «Коба-мина» слишком дороговата, чтобы доставлять вам подобное удовольствие. Но закреплять ее и посылать радиосигнал вам придется раз сто. Чтобы до автоматизма. Взрыв на машине Сталина вам тоже не обязательно лицезреть. Радиокоманду вы сможете подать, находясь в одиннадцати километрах от места взрыва.
– Ну?! – недоверчиво взглянул на штурмбаннфюрера Кондаков.
– Как видите, мы вовсе не собираемся превращать вас в смертника. В отличие от Сталина нас приучили ценить те самые кадры, которые «решают все»;
– Понимаю, – вновь перевел Кондаков взгляд туда, где вместо машины осталась обрамленная обломками воронка.
– А теперь я хочу услышать ваше твердое «да», лейтенант. Если вы считаете, что не в состоянии справиться с этим заданием, говорите прямо. Мы подберем другого руководителя группы, вы же останетесь исполнителем обычной «грязной» диверсантской работы. Но уже в других операциях. При этом вас никто не упрекнет ни в трусости, ни в отказе осуществить акцию «Кровавый Коба».
– Я говорю: «да», господин пггурмбаннфюрер, – с некоторым раздражением подтвердил лейтенант.
– Что ж, в таком случае идите и готовьтесь к выполнению задания. Вам покажут несколько фильмов о Москве и Подмосковье. Экипируют. Отлично вооружат. Дадут надежные явки в окрестного стях русской столицы. И поймите: теперь вы – «второй диверсант рейха». Увы, пока что второй, – улыбнулся Скорцени одной из тех своих, почти ласковых, улыбок, при виде которых даже давно близкие к нему люди содрогались. – Титул «первого» временно сохранится за мной. Вас это удручает?
– Нет.
– А жаль, – резко отреагировал Скорцени. – Должно удручать! Отправляясь на задание, вы должны бредить ореолом «первого диверсанта рейха». И титулом «лучшего диверсанта за всю историю России», на который вы попросту обречены. А пока что... Но ведь, согласитесь, не вы же похищали Муссолини с вершины Абруццо.
«Правда, я и сам уже не уверен, что это похищение дуче из “Кампо Императоре” совершил я», – мысленно проговорил Скорцени уже самому себе, садясь рядом с водителем в машину, которая должна была доставить его в Берлин. Он и так потратил на этого лагерника слишком много времени. Непозволительно много.
– Я понимаю, Гольвег, что вас удивляет, почему я столь упорно вожусь с этим русским.
– Ему трудно найти замену. По-моему, Кондаков понял это.
– Дело не в замене. В конце концов мы могли бы послать другого диверсанта. И помогли бы ему найти подходы к гаражу Сталина. Но для меня сейчас не так важно: подорвем мы Кобу или же он и дальше будет истреблять свой советский народ.
– Сталин истребил столько своего собственного народа, что мы его должны не казнить, а награждать. Высшими орденами рейха. Недооцениваем заслуг, штурмбаннфюрер.
– Если ваши слова, Гольвег, дойдут до Гиммлера, он вынужден будет наградить вас за гениальную мысль, признав которую, вся служба безопасности рейха должна будет признать себя идиотами, зря поедающими хлеб. Ведь Сталин действительно истребил больше русских, чем весь вермахт с дивизиями СС и комендатурами гестапо, вместе взятые. Не покушаться, а охранять мы его должны...
– А почему бы рейхсфюреру и не призадуматься над этим? – храбро завершил его рассуждения гауптштурмфюрер.
Скорцени промолчал, однако Гольвег почувствовал, что молчит он совершенно по иному поводу.
– ...Для меня важно убедиться, – неожиданно продолжил прерванную мысль Скорцени, – удастся ли нам в конце концов сотворить из этого лагерника, человека, совершенно лишенного какой-либо «диверсионной» фантазии, настоящего «СС-командос». Диверсанта-профессионала.
– Пристрелите меня за лесть, Скорцени, но вы единственный в этой стране, которому это действительно может удаться.
9
Все вокруг уже было покрыто глиной. Над этим могильным слоем земли возвышалась только его голова и плечи.
– Что, струсил? – незло, почти добродушно спросил обер-лейтенант. Он все еще колебался. И трудно было понять, чем обернется для него, Беркута, это милосердное колебание: то ли выстрелом, то ли погребением живьем, то ли...
– Это в самом деле очень страшно, обер-лейтенант. Вам лучше поверить мне на слово. Да остановите вы этих гробокопателей! Куда они торопятся?
– Стоять! – прокричал немец то единственное русское слово, которое знал и которое, по его мнению, пришлось очень кстати.
Могильщики слышали и слова Беркута, поэтому сразу же прекратили работу.
– Захотелось пожить? Даже в могиле? Еще бы, понимаю... – вернулся к их диалогу обер-лейтенант. Он говорил без презрения, без ненависти. Но и без сочувствия. Сейчас им руководило только обычное любопытство. Беркут сразу уловил это.
– Я ведь не вымаливаю у вас помилования, обер-лейтенант, – снова рискнул Беркут. – Я боролся, сколько мог. А теперь... теперь прошу пули. Выстрела милосердия – так это называлось во всех армиях мира.
– «Выстрел милосердия»? Неужели существовал такой термин? Признаться, не слышал.
– Существовал.
– И все же... Вас, – перешел он на «вы», что уже было хорошим предзнаменованием, – загнали в лагерь как опасного преступника? Вы проходили по гестапо? – наклонился обер-лейтенант к Беркуту.
– Нет, – покачал тот головой, стараясь глядеть немцу прямо в глаза. – Обычный пленный, гестапо обо мне ничего неизвестно.
– Значит, я должен предположить, что неизвестно... – задумчиво повторил обер-лейтенант.
И Беркут вновь почувствовал, что офицер может помиловать его. Он даже склонен к этому. Но для окончательного решения не хватает какого-то психологического толчка, какого-то эмоционального импульса, проблеска человечности. Но кто подскажет, как возродить этот проблеск? Спастись! Еще хотя бы на день отсрочить смерть. А ночью... ночью он обязательно попытается бежать. Главное, выйти из этой могилы.
«“Выйти из могилы!..” Был ли еще в мире человек, мечтавший об этом, находясь в могильной яме?!»
– А ведь я тоже собирался стать учителем, – вдруг произнес обер-лейтенант, резким жестом остановив могильщиков. Ему показалось, что кто-то из них снова вознамерился швырять лопатой землю. – Только не филологии, а математики. Окончил университет. Так что мы почти коллеги.
– К сожалению, окончить свой институт я не успел. – Андрей решил быть искренним со своим палачом. – Война помешала.
– Да, война... Но все равно... Ведь если бы не она, вы бы учительствовали, не так ли? И затеяли ее не мы, педагоги. Военными нас сделали против нашей воли, – отрешенно проговорил офицер.
И Беркут с новой силой почувствовал: обер-лейтенант ищет оправдания своему благородству. Он уже принял решение и теперь пытается как-то освятить его. Прежде всего – в собственных глазах.
– По-моему, им так и не удалось сделать нас военными. Во всяком случае, не всех. Только они еще не поняли этого.
– Вот именно. Война – их ремесло, военных. Мы же... Впрочем, какая разница: одним расстрелянным больше, одним меньше? В конце концов расстреляют в другой раз, – вслух размышлял обер-лейтенант и только теперь спрятал пистолет в кобуру. – Выбирайтесь оттуда, коллега. Не могу я расстреливать учителя. Тем более, что у меня нет приказа расстрелять именно вас. И приговора тоже нет. Вы ведь не приговорены, я прав?
– Абсолютно, обер-лейтенант. Никакого приговора. Я оказался здесь случайно, – как можно поспешнее заверил его Беркут. – По воле рока.
– Мне было названо лишь количество заключенных, подлежащих... – слово «расстрелу» или «казни» вымолвить он уже не отважился. Что-то остановило его. – Ну выбирайтесь же оттуда, выбирайтесь! Время не ждет.
– Мне трудно сделать это.
– Давайте руку. Эй, унтер, ты длиннее всех. Подай ему руку.
– Они у меня связаны, – объяснил Беркут, – за спиной. Их забыли развязать.
– Тогда вы, кто-нибудь! – крикнул он пленным из похоронной команды. – Помогите ему!
– Офицер приказывает вытащить меня отсюда! – перевел Беркут могильщикам. – Да пошевеливайтесь, пошевеливайтесь!
Обер-лейтенант и почти двухметрового роста унтер, не очень спешивший с услугой, отступили в сторону. Трое пленных подошли к тому месту, где они только что стояли. Однако никто не знал, каким образом поступить. Они топтались у кромки, ругались и что-то бормотали, но прыгнуть в яму, на кучи мертвых тел, пока никто не решался.
Их нерасторопность и злила, и пугала Беркута. Он понимал, что сейчас все решают мгновения. Обер-лейтенанту может надоесть их возня. Куда проще пристрелить русского – и дело с концом. Но «выстрела милосердия» Беркуту уже не хотелось. Он поверил в спасение. Он снова цеплялся за надежду остаться жить.
Пошатываясь, лейтенант пытался освободить свои ноги. Одной он уже наступил на чьи-то плечи или, может быть, на грудь и теперь изо всех сил старался вытащить вторую.
– Опустите мне лопату! Я повернусь и ухвачусь за нее! – крикнул он могильщикам, с большим усилием поворачиваясь к ним вполоборота.
– Ни черта не выйдет, – проговорил кряжистый рыжеволосый заключенный.
– Выйдет! Я – лейтенант! – прибег он к последнему аргументу, который у него имелся и который там, в лагере, еще иногда срабатывал. Некоторые из пленных красноармейцев даже в лагерных условиях старались относиться к офицерам с надлежащим почтением. – Выполняйте то, что вам приказывают.
Может, его звание действительно подействовало, может, просто в голове огненно-рыжего неожиданно просветлело, но все же могильщик этот сумел дотянуться до лейтенанта концом черенка. Беркут ухватился за него связанными руками, однако черенок выскользнул.
– Ишь, как не отпускает тебя могила, – натужно прокряхтел рыжий, и лицо его странно побагровело. – Будто втягивает в себя, будто втягивает.
– Не причитать, не причитать! Поверни железкой ко мне, ну, – продолжал подсказывать Беркут.
– Штык, – потребовал немецкий офицер у одного из солдат, тоже сгрудившихся вокруг могилы. А когда солдат снял штык с ремня, взглядом показал: передай пленному.
Тот, кто подавал Беркуту лопату, тоже понял обер-лейтенанта: взял штык, зачем-то поплевал на него и, перекрестившись, прыгнул в яму.
– Господи, это ж считай, что оба мы уже на том свете, – бормотал он, топчась по телам расстрелянных и неумело перерезая веревку. – Повезло тебе, командир...
– Давай, давай, не тяни, – вполголоса поторапливал Беркут. – Помоги выбраться, пока фриц не передумал.
– С возвращением в этот мир, – мрачно приветствовал его «коллега», когда операция по вытягиванию из могилы наконец была завершена. – Я уже полтора года на фронте. Но расстреливать пришлось впервые.
– Слава богу. Не успели зачерстветь. С чего это нас? Вдруг?
– Вместо заложников. Хватали кого попало. Возглавить ликвидационную команду лагеря почему-то приказали именно мне. Странно: чтобы из могилы... оказался не расстрелянным... И даже не раненым. Такое вижу впервые.
– Спасибо за воскрешение, коллега. Война действительно начата не нами. И то единственно доброе, что мы можем сделать, участвуя в ней, – это спасать всех, кого еще возможно, кого в состоянии спасти.
– Это считается трусостью или предательством.
– Зато после войны, особенно на смертном одре, все остальные будут считать убитых ими, а мы – спасенных.
– Оставьте свои проповеди... – презрительно обронил обер-лейтенант. – В машину.
10
– Господин нггурмбаннфюрер, осмелюсь напомнить, что сегодня у нас торжественные проводы.
Прежде чем хоть как-то отреагировать на напоминание адъютанта, Скорцени отбил еще два нападения своего вооруженного кинжалом спарринг-партнера, роль которого выполнял инструктор рукопашного боя фридентальских курсов особого назначения, и лишь тогда, вытирая полотенцем пот с лица и груда, поинтересовался:
– Кого и куда мы провожаем с вами, Родль? – Не так уж часто удавалось Скорцени позаниматься часок-другой в спортивном зале Фриденталя, где курсантов обучали защите от всех видов холодного оружия и где кожаные физиономии подвешенных между полом и потолком манекенов навевали грустные мысли о том, как слишком мало он уделяет внимания своей физической подготовке.
– Известно кого – наших русских компаньонов.
– Точнее, – потребовал штурмбаннфюрер, сбрасывая с себя тренировочную куртку и слизывая с губ едкий соленый пот.
– Операция «Кровавый Коба», – вполголоса произнес Родль, мельком взглянув на отошедшего к окну инструктора и приблизившись к шефу.
– Черт возьми, что же вы раньше?! Когда вылет?
– Через четыре часа.
– Через два с половиной мы должны быть на аэродроме, Родль!
– Машина уже готова. Водитель за рулем. У вас еще останется несколько минут, чтобы произнести напутственное слово.
– Не превращайте меня в партийного функционера, Родль, – проворчал Скорцени, с сожалением осматривая зал. Ему не хотелось уходить отсюда. Иногда его посещала совершенно бредовая идея: отрешиться от всего бренного мира и, подобно монаху Шаолиньского монастыря, полностью посвятить остаток дней собственному совершенствованию в стенах замка Фриденталь.
– Как вы думаете, Родль, высшее руководство рейха придет в восторг, узнав, что мы с вами пытаемся превратить Фриденталь в монастырь для отставных «СС-командос»?
Родль ошарашенно уставился на Скорцени. В общем-то он привык к сумасбродным идеям «первого диверсанта рейха», тем не менее иногда ему все же приходилось на несколько секунд застывать с открытым ртом в попытке как-то понять, сосредоточиться и отреагировать так, чтобы не выглядеть недоумком.
– Оно будет счастливо. Особенно когда до ставки фюрера долетит весть, что первыми постриглись в монахи штурмбаннфюрер Скорцени и его беспутный адъютант.
– Адъютант беспутного «первого диверсанта рейха» – это вы хотите сказать? – добродушно пожурил его Скорцени, решительным шагом направляясь к душевой. – В следующий раз одним из манекенов этого зала станете вы, Родль. Я не допущу, чтобы, откровенно волыня, вы еще и ухитрялись срывать тренировки своему шефу. Это непорядочно.
В кабинет, который администрация аэродрома выделила Скорцени для встречи с десантниками, Кондаков и Меринов вошли вместе. Сбросив маскировочные плащи, которые они надели, чтобы не мозолить глаза своими советскими мундирами, агенты предстали перед штурмбаннфюрером в погонах майора и капитана Красной армии.
– Как видите, на звания мы не скупимся, – холодно прощупал их обоих взглядом Скорцени. – На деньги, кажется, тоже, – вопросительно взглянул на Кондакова.
– Так точно. Там у них, правда, продовольственные карточки... Но черный рынок тоже работает.
– Выпускник такой элитной диверсионной школы должен уметь сам добывать себе на пропитание. Когда заходит речь о деньгах для агента, работающего и стране противника, мне становится стыдно. Есть еще какие-то просьбы? Пожелания?
Диверсанты переглянулись и как-то неуверенно пожали плечами.
– На той, первой явке, на которой будете приходить в себя после десантирования, вы найдете еще довольно значительный запас патронов, сухих пайков и денег. Если же у вас возникнут какие-то проблемы здесь, то – Скорцени взглянул на часы – до вашего отлета остается почти полтора часа. Гауптштурмфюрср, возглавляющий подготовку к операции, постарается решить их очень оперативно. Я же хочу выступить в роли пастора, – ангельски ухмыльнулся Скорцени. – Или попа – так, кажется, по-русски?
– Мы неверующие, – предупредил Кондаков.
– Именно поэтому. Послушайте меня, парни, – голос «первого диверсанта империи» стал жестким и металлически твердым. – Помните, что результатов вашей операции буду ждать не только я. Не только командование вермахта. Его будет ждать прежде всего сама Россия. Порабощенные большевиками народы – Советского Союза. На ваше мужество рассчитывает вся Европа. Весь мир с надеждой будет ждать известия о том, что возмездие наконец свершилось. Взрыв, ради которого вы рискуете жизнями, в тот же день отзовется взрывом ликования в сотнях сталинских концлагерей. Он станет первым глотком свободы, которым Россия насладится еще до того, как добьется демократического возрождения.
Скорцени умолк, давая возможность переводчику дословно перевести все сказанное им. При этом он всматривался в лица диверсантов. Они по-прежнему оставались угрюмо-сосредоточенными. И никакой печати рыцарского мужества на них, никакого полета диверсионной фантазии!
– Но мы не политики, – Скорцени вдруг почувствовал, как, глядя на лица этих безнадежных «лагерников», он и сам потерял всякое воодушевление. – «Ты становишься жалкой тенью Геббельса, – почти с отвращением сказал он себе. – Самой жалкой из всех его теней». – Мы – солдаты. Поэтому я уверен, что вы выполните свой солдатский долг перед человечеством. Следующая наша встреча, уже после вашего возвращения в пределы рейха, состоится в лучшем ресторане Берлина.
– Вот это по-нашенски, – только теперь вымучил нечто похожее на кисловатую улыбку лейтенант Кондаков.
– А вы, агент Аттила, считали, что успех такой операции мы не отметим? Но о меню и выпивке – потом. Пока что – дай бог свидеться.
– До встречи, господин штурмбаннфюрер.
– Будет ли она? – мрачно проворчал по-русски Меринов.
Скорцени не понял его слов, но очень точно уловил дух сказанного.
«Лагерники – они и на том свете лагерники, – молвил он про себя, глядя вслед агентам. – В этом весь ужас твоей работы с русскими».