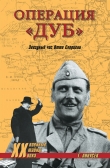Текст книги "Странники войны"
Автор книги: Богдан Сушинский
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
44
Только потом, вернувшись в камеру-одиночку, Зомбарт вспомнил о двух странных визитах некоего профессора Брофмана, психиатра, которого он вначале принимал то за тайного агента гестапо, то за переодетого священника – столь доверчивым и исповедальным казался голос, столь человечным представлялось обхождение, с каким доктор подступался к своему пациенту. Брофман не признался ему, в чем смысл их длительных бесед, поскольку ему, очевидно, запретили прибегать к подобным признаниям. Но Зомбарт решил для себя, что, наверное, речь идет об излишней судебной формальности. Прежде чем пустить пулю ему в затылок, кому-то очень хочется удостовериться, что пристрелен будет не очередной сошедший с ума фронтовик Первой мировой, а психически вполне нормальный унтерштурмфюрер СС.
И лишь теперь, после беседы со Скорцени он решил, что между этими двумя визитами существует некая дьявольская связь. И что умопомрачительные беседы с психиатром по существу готовили его к встрече с кумиром и пастырем всех германских диверсантов.
Трезво поразмыслив над очередным зигзагом своей более чем странной и непотребной судьбы, – чего-чего, а времени для того, чтобы протрезветь после хмельного вечера, когда, явившись в казарму, он был поприветствован одним из шутников как фюрер и тут же решил подыграть ему, у Зомбарта было предостаточно – интендант от СС решил, что, очевидно, у диверсантов есть особые виды на него. И что, подарив ему жизнь, они очень скоро потратят ее на какую-нибудь провокацию или на международный скандальчик, после которого его тотчас же уберут. Но что он мог поделать, если выбора у него не больше, чем у всякого прочего обреченного?
...Однако все это уже в прошлом.
Зомбарт несмело приблизился к одному из зеркал и, всмотревшись в изображение, осторожно, словно бы опасаясь потревожить праведный сон мертвеца, провел пальцами по бледновато-серым щекам.
«Господи, кто перед тобой? – едва сдерживая ужас, спросил он то ли себя, то ли действительно Господа. – Почему так произошло? Почему все это выпало мне? Неужели в наказание за святотатство? Неужто доктор Брофман прав? Когда я попытался поплакаться ему, он вдруг изрек: «Всякий, кто блаженно возомнит себя дьяволом,, столь же блаженно в дьявола и перевоплощается!» Значит, я в самом деле прогневил Господа тем, что блаженно вздумал пародировать одного из самых блаженных на этой грешной земле?»
Едва заметные пластические шрамы, оставленные скальпелями возле ушей и на подбородке, уже затягивались морщинами. Подкрашенная челочка вполне могла сойти за челку того, настоящего фюрера. Водянистые, на выкате глаза одновременно источали и полураскаяние, и полубред маниакальных идей, способных увлечь каждого, кто задумается над их сатанинским величием.
После утреннего просмотра двух посвященных фюреру хроникальных фильмов, Зомбарта, как всегда, отправили в это «пристанище лжефюрера», чтобы он мог и дальше входить в роль, перевоплощаться, доводить до полнейшего безумия гениальный замысел главного своего сотворителя – штурмбаннфюрера СС Отто Скорцени.
При этом Зомбарт по-прежнему чувствовал себя затворником. Но разве не такими же затворниками замка «Вольфбург» являлись и все остальные эсэсовцы из тех, что охраняли и обслуживали его? «Смирись», – говорил он себе в те минуты, когда его одолевала одна из двух навязчивых идей: то ли покончить с собой, то ли бежать. Покончить он не мог из жалости к себе, бежать не решался, понимая, что с такой внешностью он может скрываться только лишь... в бункере фюрера. Объявив, что тот, настоящий, фюрер всего лишь его двойник. Но ведь должен же существовать предел даже такому безумию.
Постепенно перевоплощаясь в фюрера, Манфред в то же время ощущал себя крайне неловко, как может ощущать себя разве что еще окончательно не потерявший чувств стыда и совести авантюрист, явившийся в приличное общество в чужом одеянии и под чужим именем и теперь вынужденный оставаться в этой роли до конца, поскольку давно разоблачившие его люди не желали признаваться в том, что он разоблачен. Оказывается, всем, кроме него самого, было выгодно, чтобы он и впредь оставался «не тем».
Наступали минуты, когда Зомбарт вдруг действительно начи-нал подражать фюреру. Это происходило как-то непроизвольно. Он вдруг пытался произносить какие-то несвязные фразы, имитируя выступление перед огромной аудиторией, или прохаживался по «пристанищу», довольно живо представляя себе, что величественно прохаживается перед строем ошарашенных его величием и мудростью фельдмаршалов и генералов.
Однако все эти перевоплощения продолжались, как правило, очень недолго. Вслед за ними неминуемо, как Божье наказание за святотатство, за попытку перехитрить Создателя, приняв облик, который тебе не предназначался, – наступали мрачное просветление ума, убийственная опустошенность и ностальгическая тоска по своему собственному лицу, собственному образу мыслей, собственной душе.
– Нет! Нет! Нет! – начинал он биться в приступе этой богобоязненной ностальгии, опускаясь на колени перед одним из своих зеркальных отражений. – Я не фюрер! И никогда не буду им! Я не желаю быть кем бы то ни было, кроме самого себя, Манфреда Зом-барта!
Пусть для кого-то тот, прежний Зомбарт, мелкий чиновник из магистрата Пассау – придунайского городка, приютившегося в предгорьях Шумавы, на границе между Баварией и Австрией, – казался всего лишь жалким и бесперспективным провинциалом. Но он, Манфред, все еще жил той, своей, жизнью и желал полностью вернуться в нее, пожертвовав не только сомнительным величием облаченного в эсэсовский мундир Великого Зомби, но и облаченного в мундир главнокомандующего сухопутными силами двойника Гитлера.
– Нет! – почти истерично убеждал себя Зомбарт, покаянно становясь на колени перед собственным, но таким до ненависти чужим ему изображением. – Ты никогда не возомнишь себя фюрером! Ты не способен на это! Господи, пробуди меня от этого кошмарного сна! Как угодно накажи меня на этом или том свете, только верни мой истинный облик, дай умереть с собственным лицом!
45
Крамарчуку все еще казалось, что немец стоит прямо над его головой и что их отделяет лишь очень тонкий, нависший над ним и Марией пласт дерна, переплетенного мелкими жилами корешков. В страхе замерев, он не понимал: почему, видя их, немец не стреляет, не кричит свое распроклятое «хенде хох!». В то же время сам он лежал, закрыв глаза и крепко сжав зубы, чтобы сдержаться, не пошевелиться, не застонать, не зарычать от ярости, не нажать на спусковой крючок.
И когда Николай наконец услышал, как действительно, стоя у него над головой, немец сказал: «Ганс, смотри, какой красавец...», нервы его натянулись до предела. Он понял смысл этой фразы по-своему. Еще секунда – и сержант не выдержал бы, рванулся бы из своего укрытия и прошелся по этим фрицам автоматной очередью.
Но очередь из шмайсера гитлеровца прозвучала на несколько мгновений раньше. И, что самое странное, прошла она высоко над оврагом. Стреляли вверх, в небо – Крамарчук сразу же уловил это своим солдатским чутьем. Благодаря какому-то внутреннему зрению, он почти увидел, почти проследил полет этих пуль и только потом открыл глаза.
– Нет, Ганс, он так ничего и не понял, – расхохотался один из немцев. Но это касалось не его, Крамарчука. И конечно же не замершей от страха Марии. – На охоте это, черт возьми, делается вот так...
Еще одна очередь. И снова смех.
– Да ну его к черту! – проворчал стрелявший и выпустил вверх весь заряд рожка.
– Смотри-смотри, он пикирует! – сумел разобрать Крамарчук из того, что сказал тот, другой, стрелявший первым. И добавил еще что-то, однако смысла этих слов сержант не знал.
– Но не потому, что ты попал, а потому, что увидел добычу! Нет, это была не наша дичь. Пусть за ней поохотятся партизаны.
– Сюда бы охотничье ружье, понимаешь, ружье! Разве из этой чертовщины можно попасть в птицу с такого расстояния?
– К машине! Бегом! – послышалась зычная команда то ли офицера, то ли фельдфебеля.
– Смотри: он еще и издевается над тобой! Видит, что королевская охота не состоялась.
Немцы ушли. Переждав несколько минут и убедившись, что вблизи никого нет, Крамарчук и Мария, почему-то стараясь не смотреть друг на друга, выбрались из своего укрытия и сели, прижавшись спинами к склону оврага и подставив лицо ослепительному утреннему солнцу. Мария закинула голову и так, с закрытыми глазами, беззвучно плакала. Все лицо ее было в слезах.
– Ну, чего уж теперь?.. Теперь-то чего? – неумело попробовал утешить ее Крамарчук. – Ушли ведь. Все обошлось. И на этот раз – тоже...
– И на этот... – еле слышно прошептала Мария. – Господи, когда же все это кончится?
– Вместе с войной. Когда же еще?
– Неправда. Это никогда не кончится. Никогда, – прошептала она, покачивая головой. – И война – никогда... Мы уже не способны остановиться. Мы так привыкли убивать друг друга, так привыкли к крови и смерти, что нас уже никто и ничто не остановит.
Осторожно, словно боясь разбудить, Крамарчук обнял ее за плечи. Мария сразу же сжалась в комочек и по-детски доверчиво прижалась к его груди.
– Как же все это произошло? – спросила она, всхлипывая. – По ком они стреляли? Я ничего не могла понять. Я только ждала смерти.
– Я тоже не сразу... понял. Пока не начали палить. Посмотри вверх.
– Ястреб! По-моему, только он и спас нас.
Теперь ястреб парил совсем низко. На какое-то мгновение он завис прямо над ними, словно собрался атаковать, а может, просто хотел сказать им на своем ястребином языке: «Что, братцы, сдрейфили? Молите Бога, что принял огонь на себя». А потом плавно, большими кругами начал подниматься все выше и выше. И казалось, не будет предела этой небесной спирали, как не может быть предела ощущению радости полета.
– Кажется, он охраняет нас, – едва заметно улыбнулась Мария. – Неужели ему действительно хотелось спасти?
– Хотел ли – не знаю. Но спас. Так что спасибо тебе, браток, – скупо, по-солдатски поблагодарил его Крамарчук. – Втроем мы как-нибудь продержимся.
– Хорошо хоть не подстрелили.
– Теперь еще по нему пореви. Ястреба ей жалко стало! А то, что рядом бедный сержант Крамарчук чуть Богу душу не отдал, – ей безразлично.
– Птица ведь тоже жалеет нас. Разве ты этого не замечаешь?
Еще около часа они просидели в овраге, внимательно наблюдая за окрестностями села и опушкой леса. Немцы уехали – это точно. Но полицаи могли оставить засаду.
– Перебежками не разучилась? – спросил Крамарчук, в последний раз внимательно осматриваясь. – Пригнувшись, перебегаем оврагом поближе к лесу. Последние сто метров придется по равнине. Я перебегаю, ты прикрываешь. Если все тихо, перебегаешь и ты. Если нет – я прикрою. Отходишь вон туда, через долину, к роще.
– Понятно. Вернуться бы к старухе... Я бы ее «отблагодарила».
– Будь это мужик, я бы его еще тогда пристрелил. Или сегодня же, ночью. Но ведь кто мог подумать, что эта богобоязненная на вид старушка уподобится Иуде?
46
И на этот раз им тоже повезло. Как только они оказались на опушке за кустарником, от которого начинали свой путь к оврагу, на тропинке, метрах в ста от них неожиданно показались полицаи. Впереди шли трое, Еще двое – чуть позади. Очевидно, из тех, что отстали во время прочесывания леса.
– Куда ж они, падлы, могли подеваться? – донесся дребезжащий басок рослого худющего полицая, идущего последним. – Может, и впрямь где-нибудь в селе прячутся? Надо еще раз обойти окраину, осмотреть погреба, сараи...
– Или бабке со страху что-то примерещилось.
– Какое примерещилось? Весной она уже выдала троих партизан. И тоже, антихристка, сначала приняла, согрела, молоком напоила. Одного даже травами какими-то два дня отпаивала. А потом заявила в полицию.
Крамарчук и Мария многозначительно переглянулись. Вот, значит, в какую ловушку они попали!
~ Оказалось, что один из этих троих вроде бы в милиции до войны работал. И сам вроде бы арестовывал ее сына. Вместе с энкавэдистом. Эти «сталинские соколы» обоих ее мужиков – и мужа, и сына – под кресты загнали. Вот она и мается: между сочувствием и ненавистью. Но когда немцы приказали выделить ей как пострадавшей от коммунистов муки и сала – отказалась. Награду за выданных тоже не приняла.
Полицаи стояли на опушке, курили и не спеша осматривали лес, кусты, в которых притаились Крамарчук и Мария, овраг, из которого они только что выбрались...
– Слушай, старшой, ну-ка глянем, что там в овражке. Немцы вряд ли заглядывали туда, – посоветовал тот, рослый, что брел последним. – Вы зайдите со стороны села, а мы с кумом отсюда, со стороны леса.
Крамарчук и Мария вновь молча переглянулись.
– Как только начну палить, выскакивай – и к лесу... – прошептал Николай. – Не оглядываясь. Тех троих я тоже придержу.
– А потом?
– Потом пойдем цветы собирать, ни любви им, ни передышки, – улыбнулся сержант только для него возможной в этой ситуации беззаботной улыбкой, знакомой Марии еще по доту.
Три полицая, шедшие первыми, образовали цепь и начали не спеша подступать к оврагу. Двое других направились прямо к кустам. Но тоже осторожно, словно подкрадываясь.
– Придется стрелять, – почти прошептал Николай.
Он подпустил их еще шагов на двадцать. Выждал. Нет, пока что не заметили. Наоборот, опустили винтовки и спокойно переговариваются между собой. Вот только пройти мимо кустарника, не наткнувшись на беглецов, почти невозможно.
Эти двое уже совсем близко. Обходят кустарник справа. Крамар-чук, жестикулируя, приказывает Марии: перемещайся влево. Приготовив пистолет, Кристич молча кивает и неслышно, на носках, делает несколько шагов.
– Стоять! – вдруг негромко, но резко приказал Крамарчук полицаям, все еще прячась за кустами.
Каратели замерли.
– Бросай оружие, вояки хреновы! И молча.
Прежде чем выполнить приказание, полицаи очумело посмотрели друг на друга, решая, как поступить.
– Тебе говорят, жердь осиновая, – добавил Крамарчук, высовываясь из-за куста чуть левее Марии.
Рослый полицай робко попытался поднять винтовку, которую до сих пор по-охотничьи держал за приклад, стволом вниз.
– Рук не поднимать! – скомандовал сержант, когда обе винтовки мягко шлепнулись на все еще влажную утреннюю землю. – Махорка имеется?
– Чего? – испуганно спросил тот, что помоложе и поменьше ростом. Длинные рыжеватые волосы делали его похожим то ли на монаха, то ли на семинариста.
– Махорка, говорю. Если есть – закурите. Смотреть только туда: на тех троих. – И сразу же махнул Марии: уходи в лес. А как только она скрылась за крайними деревьями, продолжил: – Так что, хлопцы, свои закурите? Или, может, мне вас табачком угостить? Красноармейским?
– Черти б с тобой перекуривали, – проворчал рослый. – Ну, давай, доставай, чего уж тут, – подтолкнул напарника. – Теперь-то для кого экономишь? Пристрелят – там не покуришь.
– Эй! – крикнул один из тех троих, что уже заглянули в овраг. – Никаких партизан здесь нет! Ноги бьем – сапоги топчем!
– И мы говорим, что нет! – неохотно подтвердил рослый, стоя вполоборота к Крамарчуку и сворачивая самокрутку. – Посидите, хлопцы, покурите, пока курится!
– Чего вы там застряли?!
– Говорю же: курим! Какого тебе?!
Тот, что звал их, крикнул еще что-то – слов Крамарчук не разобрал – и, успокоившись, присел на склоне оврага.
– Ну, и как живется вам здесь, хлопцы, при новом порядке? – вновь, теперь уже довольно миролюбиво заговорил Крамарчук.
– Да, по правде говоря, немножко лучше, чем тебе, по лесам замерзая, – ответил рослый.
– Чего загрызаешься? – предусмотрительно толкнул его локтем «семинарист». – По-разному живется, как и вам. Сейчас любая служба – собачья. Ты что же, из десантников будешь или как?
– Из каких десантников? – не понял Крамарчук.
– Ну, тех, что на парашютах, каких же еще?
– Да не знает он про них, – ехидно заметил длинный. – Кто тебя за язык тянет?
– Дай поговорить с человеком, – отмахнулся «семинарист».
– Крикни тем троим, пусть идут к селу, – добавил Крамарчук. – А сами садитесь. Это лучше, чем лежать. Земля нынче сырая.
Они сели спиной к Крамарчуку. Закурили. Но кричать своим длинный так и не стал. Понимал, что пока те трое не ушли, стрелять в них партизан не будет. Если, конечно, и они будут вести себя смирно.
– Так сколько было десантников? Где их выбросили? Ну?!
– Черт их знает, – ответил «семинарист». – Мы только слыхали, что выбросили. И что вроде бы парашют нашли. Больше ничего не знаем. Немцы про это не очень-то болтают. Мы же – люди маленькие.
– Вы не люди, вы полицаи.
– Есть власть, должна быть и полиция. Будто тебе это непонятно? – вмешался длинный. – Припечет – тоже придешь, попросишься.
– А может, и не попросится, – неожиданно заметил «семинарист». – Что-то до сих пор не припекало.
– Тогда ты к ним просись.
– О парашютистах я, допустим, ничего не слышал, – вмешался Крамарчук. – Но о Беркуте кое-что знаю. Где он сейчас? Что гутарят?
– Это о каком Беркуте? Который в немецкой офицерской форме разгуливал по Подольску? – уточнил «семинарист». – Так того вроде бы на тот свет спровадили. Все об этом говорят. Вчера немцы снова леса прочесывали. Пусто.
– А тот немец-связист, что полицая повесил? – возразил длинный.
– Да немец его и повесил. Думаешь, нас с тобой они любят больше, чем партизан? Как только победят, так всех и перевешают. За верную службу. Да идите, идите к селу! – крикнул он, когда те трое опять позвали их. – Покурим и догоним! Слышь, ты нас отпустишь? Будь человеком.
– Может, и отпущу, – неохотно пообещал Крамарчук, видя, что те трое все-таки не уходят, а теперь уже все усаживаются на склоне оврага.
– Пальнешь, опять лес прочесывать будут, – пригрозил длинный. – Да и хлопцы наши вон.
– Плевал я на ваши прочесывания. Ты, «семинарист», подтолкни сюда ваши пушки. Подтолкни, подтолкни...
Рыжеволосый одну за другой перебросил винтовки к ногам Кра-марчука и вновь отвернулся. Сержант быстро разрядил их, потом приказал снять и бросить за куст патронташи.
– Как только отойду, возьмете свои пушки и, не оглядываясь, пойдете к своим, – приказал Крамарчук. – Пискните – не уйдем, пока не уложим всех пятерых. Я здесь не один.
– Что, и краля твоя стреляет? – искренне удивился «семинарист».
– Еще лучше, чем я. А теперь, если хотите жить, коротко: что там за история с немцем-связистом? Уж очень она меня заинтересовала.
47
Склоны гор освещались резковатым оранжево-песочным светом – возбуждающе тревожным, предвещающим то ли песчаную бурю, то ли огненный смерч. Зрелище, которое открывалось сейчас
Власову, почему-то показалось ему давно знакомым. Когда-то он уже видел и этот закат – с бледновато-багряным, словно бы раскаленным в горне солнцем, лучи которого едва пробивались сквозь крону рощи; и невесть откуда появившиеся крытые повозки, словно бы пришедшие из прошлого века; и эту, похожую на башню замка скалу...
– Что вам чудится в этом пейзаже, генерал? – Прежде чем раздеться, Хейди задернула плотную штору да к тому же заставила Власова отвернуться. Но он не удержался, слегка отодвинул плотную коричневатую ткань и засмотрелся на открывшийся ему горный пейзаж, забыв на какое-то время о том, где он, о съедаемой страстью и нетерпением к женщине.
– Пытаюсь вспомнить, где и когда видел его.
– Уверены, что видели? – сомкнула Хейди руки у него на плече, припав оголенным телом к шершавому сукну мундира. – Именно этот?
– Не этот, конечно. Однако, поди же, не могу отделаться от мысли, что уже однажды...
– Разве что в прошлой жизни. Почему бы не предположить, что в вас вселилась душа древнегерманского воина, что, собственно, определило вашу судьбу. Пейзажи, которые кажутся вам знакомыми, это воспоминания, сон души.
– Вполне возможно, хотя по поводу именно этого пейзажа у меня иные соображения.
Хейди уже постепенно привыкала к тому, что очень часто Власов отвечал резко и общался с ней преимущественно короткими отрывистыми фразами. Вызвано это было, очевидно, не столько языковыми затруднениями, сколько привычным тяготением к армейской лапидарности. Впрочем, ее муж был убийственно велеречив, многословен и по любому пустяку пускался в длинные рассуждения.
«Ты не истинный военный, – бросала она ему в лицо, желая унизить. – В тебе нет офицерской жилки. Нет уверенности в себе, стремления повелевать».
Его, офицера СС, это действительно оскорбляло. Но как же на самом деле Хейди была признательна ему за неумение повелевать!
– У нас в городке есть одна полуведьма, большая специалистка по части переселения душ. Если желаете, генерал...
– Кажется, это было не так уж давно – когда моя душа принадлежала совершенно иному человеку И никакого колдовского «переселения» не понадобилось.
– Иногда это случается в течение одной жизни, – вынуждена была согласиться Биленберг.
Они вдвоем опустили штору и, погрузившись во мрак, слились в поцелуе, неумелом, замешанном на стыде и приглушенном возрастом обоих.
– По-моему, мы с вами попросту забыли, как по-настоящему впадают в грех, – молвила Хейди в оправдание Андрею. – И дело здесь не столько в наших годах – мы еще достаточно молоды. Ведь не в возрасте же, правда ведь? – вновь потянулась к нему губами, одновременно расстегивая его китель.
– Но и не в войне, – генералу не хотелось, чтобы что-либо из происходящего здесь списывалось на то, на что очень многие списывают теперь все свои сугубо тыловые грехи. Он старался быть справедливым – насколько это вообще возможно – даже по отношению к войне.
В последнее время Власов вообще старался быть как можно справедливее. Насколько это, опять же, мыслимо, пока ты мечешься посреди самой лютой из войн. Причиной тому – неугасающее чувство вины перед своей 2-й ударной армией, полегшей в болотистых лесах под Волховом, Любанью и Мясным Бором. Она еще взывала к нему десятками тысяч душ, справедливо требуя от своего командующего или отвести от нее позор поражения, или присоединиться к своим солдатам. Власов знал, что советская пропаганда, а вслед за ней и злая солдатская молва обвиняют его в том, что он предал армию, подвел ее под удар германцев, сдал гитлеровцам; бросил жалкие остатки разметанных по болотистым островкам Волховского фронта полков на произвол судьбы...
Но как он мог оправдать себя и свою 2-ю ударную перед всем миром? Кто способен был восстановить справедливость в отношении этой армии и ее командующего? И разве дело только в самой сути войны, а не в порядочности тех, кто сотворяет эту грязную и не менее страшную, чем болотные трясины под Мясным Бором и Спасской Полистью, молву? Почему молчит бывший тогда командующим фронтом генерал Мерецков? Почему молчит Жуков? Впрочем, кто снизойдет до справедливости, когда речь идет о командующем-предателе? Даже если он требует этой – справедливости не ради себя – ради погибших солдат.
– Вы все еще очень далеко от меня, генерал, – едва слышно проговорила Хейди. Но в голосе ее не было упрека. Она редко опускалась до встреч с молодыми офицерами, лечившимися в «Горной долине». Но так уж получалось, что оказывалась в объятиях почти всех генералов СС, которые считали вечерние визиты к «санатор-фюреру», как ее здесь именовали, такой же традицией, как и визиты к коменданту городка. И она уже привыкла к тому, что многие из них с огромным трудом «возвращались» со своих фронтов и полевых ставок.
– Ты права, Хейди, – впервые обратился к ней по имени и на «ты». Женщина заметила это и потерлась щекой о его плечо, словно он одарил ее невесть каким комплиментом. – Чем более цивильной становится моя жизнь, тем труднее оправдывать все то, чем жил и что содеял там, на Восточном.
– Но ведь вы были настоящим воином, генерал Андрэ. Уж кому-кому, а капитану Штрик-Штрикфельдту я имею право верить. Он не стал бы говорить об этом, если бы...
– Что он знает, твой капитан? – погладил ее по щеке Власов, явственно ощущая, как предательски дрожат его пальцы. – Для этого нужно погубить целую армию и прослыть предателем.
– Борьба не только на фронте, но и в политике. И трудно сказать, где ее начало, а где завершение. Так что вы должны быть готовы к любым политическим превратностям, коль уж избрали сей путь.
– Вы настроены куда более решительнее меня.
– Поэтому хочу знать о вас все, Андрэ, – чувственно улыбнулась она, приподнимаясь на носках и с трудом дотягиваясь губами до его губ. – Вы должны доверять мне.
Власов взял ее на руки, подержал так на весу, вновь ощущая себя молодым и сильным, и понес к широкой низкой кровати, которой суждено было стать их брачным ложе.
Сегодня он как бы заново осознал, что ему всего лишь сорок четыре и что это все еще возраст любви и тайных свиданий, а не только генеральских погон. И что никакие фронтовые грехи, равно как и заслуги, не лишают мужчину его возраста права предаваться любви за сотни километров от фронта, посреди чужой, некогда «вражеской» для него земли, с женщиной, которая еще недавно была женой эсэсовского офицера.
Оказавшись с Хейди в постели, Андрей вдруг почувствовал себя так, словно никогда до этого не был с женщиной. Да и сама она вела себя так, будто он первый ее мужчина – настолько обостренным было ощущение девственности ее тела. Столь страстной казалась реакция на каждое его движение. Таким яростным представало стремление Хейди почувствовать себя по-настоящему обладаемой.
Разве там, в болотах под Волховом, и потом, сидя в брошенной хозяином крестьянской избе в деревушке Туховечи[21]21
В одной из крестьянских изб этой деревушки Власова обнаружили капитан немецкой разведки 38-го корпуса фон Шверденер и переводчик Клаус Пельхау, специально занимавшиеся поисками командующего 2-й ударной армии. Увидев в окно, что немцы оставили мотоцикл и направились к избе, генерал вышел к ним со словами: «Не стреляйте. Я – Власов!»
[Закрыть] , мог он предположить, что страдные пути пленника приведут его в один из самых фешенебельных курортов войск СС в Баварии? И что именно здесь он познает женщину, о которой – только о ней – возможно, мечтал всю свою жизнь? И пусть простят его все те солдаты, чьи кости дотлевают сейчас по лесным оврагам и болотным топям бывшего Волховского фронта. Ощутить что-либо подобное им уже не дано. Даже если все они давно попали в рай. Ибо рай, если он существует, создан для духа. Они же, земные, грешные, привыкли ценить райскую блажь собственного тела.
– Это было изумительно, – с восхищением признался он, когда, обессиленный, затих, все еще погребая конвульсивно вздрагивающее тело женщины под своими огромными, хотя и далеко не атлетического склада телесами.
– Признаться, я очень старалась, Андрэ. Слишком уж хотелось понравиться.
– Вы и так понравились мне. Задолго до постели.
– До постели – это не то. Важно, чтобы в постели, тогда это надолго. Все остальное принадлежит грезам молодости.
– В таком случае следует признать, что у меня это начиналось именно с грез молодости, – он лег рядом с ней – огромный и сильный, чувствуя, что способен отстоять свое право на эту женщину.
Губы Хейди были слегка солоноваты от пота. Шея излучала пряный букет всех тех духов, которые она впитала в себя за последние четыре года войны. Власов знал свою странную слабость: с какой бы приятной ему женщиной ни проводил он время, сразу же после разгула плоти начинал ощущать такое охлаждение к ней, что временами оно граничило с отвращением. Но в этот раз все выглядело по-иному. В этот раз – все совершенно по-иному, вот в чем дело.
– Простите, Андрэ, мое любопытство, но... должна ли я верить тому, что образование свое вы начинали не в кадетском корпусе, а в духовной семинарии? – Власов давно понял, что главное в их сегодняшней встрече Хейди видит не в любовных забавах, а в основательном знакомстве. Он уже давно заметил, что интерес фрау Биленберг к нему выходит далеко за пределы чисто женского любопытства.
«Но ведь не работает же она по заданию разведки!» – почти взмолился генерал. Слишком уж ему не хотелось, чтобы все обернулось банальным составлением досье.
– Точнее было бы сказать, что оно начиналось с духовного училища. А уж затем продолжилось в духовной семинарии[22]22
Исторический факт: Власов познавал основы теологии сначала в духовном училище, а затем в нижненовгородской духовной семинарии. После революции он какое-то время учился на агрономических курсах.
[Закрыть] . Но окончить его, к счастью, не удалось – революция.
– Не могу вообразить вас в роли священника, генерал. Такой исход вашей судьбы представляется мне чистым безумием.
– Теперь, после того как я окончил офицерскую школу, стрелково-тактические курсы и курсы преподавателей Школы командного состава, эта затея моего старшего брата – добиться, чтобы я стал священником – тоже кажется мне безумной. Но учтите, что я был тринадцатым ребенком в семье, и даже то, что я дошел до семинарии, следует воспринимать как подвиг.
– Матерь божья! – тяжело, по-матерински, вздохнула Хейди. – Тринадцатым. Хотела бы я видеть эту женщину. Впрочем, я догадывалась, что вы далеко не аристократического происхождения. Аристократов у вас перестреляли.
– Вас это огорчает? Что не аристократического?
– Огорчало бы, если бы не знала, что рядом со мной генерал-лейтенант, командующий Русской Освободительной Армией. Наполеон тоже ведь к избранным не принадлежал. Вначале. Как и фюрер. Все зависит от того, как вы поведете себя дальше. Но учтите, – без всякой игривости предупредила Биленберг, – я рассчитываю, что в конце концов к власти в России придет правительство генерала Власова.
От неожиданности генерал опешил. Он ожидал услышать от Хейди все что угодно, только не это. Даже Штрик-Штрикфельдт – и тот не решался замахиваться на будущее столь решительным образом.
– Рассчитываете вы лично? – смущенно уточнил Власов. – Или же кто-то настраивает вас подобным образом?
– Никто и ничто не способно заставить женщину видеть в своем мужчине кумира, если она сама не увидит в нем... кумира. Кажется, мне это удалось.
– Не знаю, следует ли мне радоваться этому.
– Вряд ли. Быть моим кумиром вам будет непросто. Слишком уж ко многому обязывает. Однако не поддавайтесь влиянию тех людей, которые попытаются отстранить вас от политики и погрузить в мир беспечного бюргерского бытия. Бюргеров здесь и без вас хватает. Что же касается вашей звезды, то она должна взойти далеко отсюда, на Востоке. У вас появился такой же шанс, какой в свое время появился у Гитлера. Он его, как видите, не упустил, господин командующий все еще несуществующей Русской Освободительной Армией.
– Согласен, несуществующей, но моей вины в этом нет, – попытался было объяснить ситуацию Власов.
– Есть, есть, – резко перебила его Хейди. – И ваша – тоже. Во многих случаях вы проявляете странную нерешительность. Робко подступаетесь к высшим чиновникам Третьего рейха... Я неправа?
– С вашим утверждением, Хейди, так же трудно не согласиться, как и согласиться.
– Лучше согласиться. Так будет справедливее. – Ничего, кое-какие связи у меня все же остались. Многого не обещаю, но все же...
Когда Власов оделся, чтобы идти к себе, в генеральский люкс, Хейди скептически осмотрела его странное одеяние: явно негенеральский мундир цвета хаки, с пуговицами невоенного образца и без каких-либо знаков различия. Правда, штанины были вспаханы широкими красными лампасами, однако они делали комдива похожим на швейцара. Да на фуражке странная, негерманская, однако же и некрасноармейская кокарда, расцвеченная белой, синей и красной полосочками.