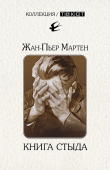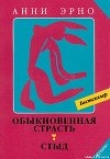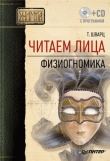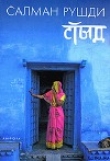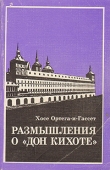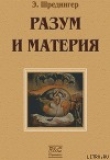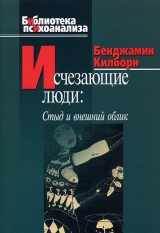
Текст книги "Исчезающие люди. Стыд и внешний облик"
Автор книги: Бенджамин Килборн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Когда я не вижу вас, то лучше вас выдумываю: анализ Сюзен
Работая аналитиком, я снова и снова поражаюсь тому, сколь героически мои пациенты добиваются восстановления чего-то существенного в себе посредством аналитического процесса, и как важно понимать, что каждому из них нужно восстановить из меня и с моей помощью. Я осознал эти попытки, стремясь понять, как мои пациенты видят меня, как они воображают меня, и как, в их воображении, я вижу (и воображаю) их. У многих пациентов попытки добиться узнаваемости, если не анализировать их с учетом динамики стыда, могут оказаться столь же разрушительными, как сердцебиение, вышедшее из-под контроля.
Однажды, по прошествии нескольких лет анализа, глядя, как Сюзен заходит в мой кабинет, я заметил, что она на меня не смотрит. Преодолевая стыд за то, что я так долго не замечал нечто столь фундаментальное, я указал ей, что она еще ни разу на меня не взглянула. Зная, что она склонна к испепеляющей критике, я приготовился к бурному отпору. Но против моих ожиданий взрыва не последовало – вообще никакого заметного отклика. Она небрежно ответила, как будто это была самая очевидная истина в мире, что избегает моего взгляда, чтобы «лучше меня выдумывать». Пока я оставался ненастоящим, она не должна была бороться с тем представлением, что в моих глазах выглядит не так, как в своих собственных[138]138
Сюзен стыдилась меня, поскольку я на нее не смотрел, стыдилась своего желания, чтобы на нее смотрели, злилась на меня за то, что я ничего не заметил, злилась на себя за то, что нуждалась в моем взгляде, и так далее.
[Закрыть]. Когда я поинтересовался, почему она на меня не смотрит, она сказала: «Если б я по-настоящему смотрела на Вас, то могла бы обнаружить, что Вы один из настоящих “едоков картофеля”, как на картине Ван Гога… Что Вы слишком настоящий… Что для Вас все такое, как оно есть. Мне трудно это принять».
Сюзен было трудно воображать себя в моих глазах, и она пыталась игнорировать все, что считала неловким или неудобным в моем видении ее. Если она красила ногти лаком другого цвета, то начинала сеанс, предупреждая: «Ничего не говорите о цвете моих ногтей». Комментируя свои попытки пройти прослушивание на роль в пьесе, она отметила:
«Когда я читала текст, я не играла. Если бы я играла роль, что задействует те мои части, которые Вы не видели (и никто другой тоже не видел), и если бы я играла эту роль плохо, это могло бы значить, что я не то, что о себе думаю. Я увязла, я никому не нужна. Я застряла между двух миров, и на самом деле не хочу обнаружить, что никому не нужна».
Как и Странная Дама, Чиа, Сюзен удерживает ощущения неузнаваемости и заброшенности на отдалении, играя свою роль хорошо и судя о себе по реакциям других. (Как они думают, «хорошо» ли она играет?) Как показала последующая аналитическая работа, Сюзен боялась, что не сможет переделать себя в моих глазах. Осознав, насколько неловко я себя чувствую, я начал понимать тот гнев, страх и надежду, которые символизировал ее отведенный взгляд. Рене Шпиц (Spitz, 1957) заметил, что младенец способен демонстрировать свой выбор движениями головы, т. е. тем, на что он смотрит (или не смотрит вообще). Капаррота (Caparrota, 1989) предположил, что в тех случаях, когда матери трудно справляться с взглядом младенца (даже в возрасте четырнадцати месяцев), уклонение от взгляда со стороны младенца можно считать защитой от тревоги уничтожения. Эта тревога запускается тем, что младенец смотрит на мать в ожидании отклика, но не находит его. Младенец не может понять отсутствие отклика матери, и это переживается как наиболее примитивная тревога уничтожения.
Вы хотите, чтобы я была кем-то другим
Будучи столь неуверенной в том, кем она выглядит в моих глазах (насколько хорошо она играет «роль»), Сюзен постоянно выражала желание исчезнуть, скрыться под камнем. Хотя такое желание как будто могло решить проблему неправильного восприятия ее другими, оно также обостряло ее глубокую неизменную изоляцию и страх перед покинутостью. Иногда она спрашивала себя, если она начнет голодать и похудеет слишком значительно, заметят ли это ее родители. Нужно ли ей полностью исчезнуть, чтобы они заметили, что не все в порядке? Знаком ее ощущения того, насколько хрупка между нами связь, был сон, в котором нечто отцепилось и скрылось из виду.
«Мой автомеханик везет меня к моей машине в своей машине, черной и очень большой, “Олдсмобиль Катлес”, возможно, 1976-го года. Я вижу, что моя машина забуксовала. Моя сестра хочет, чтобы я обменяла ее на другую. Говорит, у нее есть “первоклассная лошадка”. Та машина, которую она видела, была синего цвета, но казалась мягкой на ощупь. Потом она увидела свою “новую” машину, желтого цвета. К ней была прицеплена небольшая повозка, в которой сидела маленькая черная девочка. Каким-то образом повозка отцепилась, свернула в переулок, уходящий влево, и скрылась из виду».
В этом сновидении примечательны несколько тем: машины (способность пациентки вступать в отношения и вращаться среди людей), забуксовавшей машины (беспомощность пациентки) и, наконец, маленькой девочки, одиноко сидящей в отцепившейся повозке, которая исчезает в уходящем влево переулке.
По мере продвижения анализа осознание Сюзен неспособности проговаривать свои чувства усилило страхи исчезновения. Вновь и вновь она видела сны, в которых ее голос ослабевал. Постепенно, разговаривая о своих плюшевых мишках, типичных переходных объектах (двое мишек спали вместе с ней по ночам), она начала выражать себя более настойчиво.
«Мой плюшевый мишка никогда не разговаривал, когда я была маленькой. Он только сейчас начинает разговаривать. Я могу говорить за него. Никогда не понимала детей, у которых были воображаемые друзья или такие вот вещи. Думаю, в детстве у меня почти не было воображения. Мне всегда говорили, что я должна взрослеть. Когда мне было семнадцать, я чувствовала себя на сорок. Я всегда думала, что моей матери на самом деле хотелось, чтобы я была кем-то другим, но она никогда мне об этом не говорила. Я обычно спрашивала ее, не хочет ли она обменять меня с доплатой. А Вы хотите, чтобы я была кем-то другим? Мой парень хочет… Когда я была ребенком, мне все время хотелось, чтобы кто-то узнал, как мне грустно, и зашел в мою комнату, чтобы поговорить со мной. Никто не заходил. Когда я стала “трудной”, мать начала заходить ко мне, чтобы я поменьше вопила. Тогда я почувствовала вину за то, что она вынуждена заходить».
Ощущение моего желания, чтобы она была кем-то другим (или желания ее парня) – важная тема в переносе: в упомянутом сновидении ее машина оказывается забуксовавшей и подлежит обмену на другую. Но теперь пациентка становится способной выражать болезненность своей изоляции, грусти, покинутости и стыда («Мне хотелось, чтобы кто-то узнал, как мне грустно».).
«Прятки», исчезновение и игра с катушкой
Когда я начал осознавать существование целого мира смыслов в том, что Сюзен на меня не смотрит, я стал лучше понимать ее борьбу с исчезновением/заброшенностью/изоляцией. Говоря о ее страхах перед разлукой на выходные, я заметил, что дети пытаются справиться со страхами заброшенности матерью, играя в «прятки». К моему изумлению, Сюзен категорически заявила, что никогда так не играла. Она играла в «прятки», добиваясь не появления игрушки или матери, но собственного исчезновения.
Здесь позвольте мне вкратце рассмотреть обсуждение Фрейдом динамики «пряток». Оно содержится в знаменитом фрагменте работы «По ту сторону принципа удовольствия», посвященном привычным играм восемнадцатимесячного мальчика, которого Фрейд имел возможность наблюдать. У этого парнишки была неудобная привычка «забрасывать все маленькие предметы, которые ему попадали, далеко от себя в угол комнаты, под кровать и т. п., так что разыскивание и собирание его игрушек представляло немалую работу»[139]139
Freud (1920, p. 14).
[Закрыть]. Когда ребенок бросал предмет, он «произносил с выражением заинтересованности и удовлетворения громкое и продолжительное о-о-о-о!»
Далее Фрейд отмечает:
«ребенок все свои игрушки употреблял только для того, чтобы играть ими, отбрасывая их прочь. /…/ У ребенка была деревянная катушка, которая была обвита ниткой. Ему никогда не приходило в голову, например, тащить ее за собой по полу, т. е. пытаться играть с ней как с тележкой, но он бросал ее с большой ловкостью, держа за нитку, за сетку своей кроватки, так что катушка исчезала за ней, и произносил при этом свое многозначительное о-о-о-о! вытаскивал затем катушку за нитку /…/ и встречал ее появление радостным «тут» (Da). Это была законченная игра, исчезновение и появление, из которых по большей части можно было наблюдать только первый акт, который сам по себе повторялся без устали в качестве игры, хотя большее удовольствие, безусловно, связывалось со вторым актом»[140]140
Ibid., p. 15.
[Закрыть].
Фрейд сосредоточивается на попытке ребенка посредством игры справиться со страхом утраты объекта, который, как он утверждает в работе «Торможения, симптом и страх», является прототипом тревоги. На его взгляд, эта игра означает «большое культурное достижение» ребенка, отказ от удовлетворения влечений, «сказавшийся в том, что ребенок не сопротивлялся больше уходу матери». Согласно Фрейду, игра превращает пассивную ситуацию – в которой ребенок не способен помешать матери уходить – в активную[141]141
Но если это так, как нам понимать утверждение Фрейда, что игра представляет собой культурное достижение (отказ)? В чем заключается отказ от удовлетворения влечений, если ребенок и так беспомощен? И в чем заключается удовольствие (ослабление напряжения) – либо в таком отказе, либо в изменении ситуации (если игра является выражением покинутости), когда ребенок оставляет объект, символизирующий его мать?
[Закрыть]; удовольствие от выбрасывания объекта выражает гнев ребенка на мать за то, что она уходит. Этот жест имеет «значение упрямого непослушания: “Да, иди прочь, ты мне не нужна, я сам тебя отсылаю”». Дети играют в потерю и нахождение катушек для того, чтобы совладать с травмой утраты объекта (матери). Контролируя катушку, полагает Фрейд, они фантазируют, что контролируют мать, а контролируя таким образом мать – фантазируют, что контролируют собственную ярость[142]142
В общем и целом все, писавшие о «прятках», следовали Фрейду в том, что подчеркивали совладание, а не стыд, ярость и эдипальное поражение. Федерн (Federn, 1952) полагал, что «прятки», бросание и отыскивание объектов составляют часть нормального развития, и если здесь отсутствует решительность и удовольствие, это указывает на нездоровое и неустойчивое развитие Эго. В том же ключе Шпиц (Spitz, 1957) подчеркивал функции «пряток» в идентификации, делая акцент на преобладании идентификации как психологического процесса на втором году жизни. Эриксон (Erikson, 1950) обсуждает удерживание и отпускание как две модальности идентификации и развития Эго, следуя тем же общим направлениям, что и остальные авторы, писавшие на эту тему. Винникотт (Winnicott, 1958), с обычным своим талантом к отчетливым, творческим формулировкам, датирует игру с выбрасыванием предметов («прятки»?) промежутком между семью и девятью месяцами, связывая ее с готовностью к отлучению от груди, – это более конкретный способ сказать, что такие «игры» (если их так можно назвать) представляют собой попытки сепарации, отделения. Несомненно, утрата груди может запускать реакции стыда и ярость из-за неспособности контролировать то, в чем нуждаешься. Согласно Винникотту, «прятки» определяют «переходное пространство», «возникающее в том периоде развития, когда происходит формирование переходного объекта; это мост между автократической деятельностью и выражением истинных объектных отношений» (1953, p. 267).
[Закрыть].
Но тогда как Фрейд подчеркивает попытку ребенка совладать посредством игры со страхом утраты объекта, для Сюзен ситуация совершенно иная: она играет, добиваясь собственного исчезновения. Тогда можно предположить, что существует два вполне противоположных способа играть с катушкой. Первый (на котором сосредоточивается Фрейд) касается совладания и отдельности, а также терпимости к утрате. Второй (на котором сосредоточивается Сюзен) касается сокрушительного поражения, столкновения с невозможным в своей тяжести неравенством (эдипальный стыд) и исчезновения[143]143
Сюзен должна была добиться своего исчезновения, а не играть с «утраченным» объектом, будь то ее мать, игрушки, плюшевые мишки, ее аналитик или любой другой переходный объект. И в ее игре не было «появления заново». Когда Фрейд обсуждает также и исчезновение, он делает это в контексте совладения, а не стыда или эдипального поражения. Далее Фрейд пишет:
«Когда однажды мать отсутствовала несколько часов, она была по своем возвращении встречена известием “Беби о-о-о”, которое вначале осталось непонятым. Скоро обнаружилось, что ребенок во время этого долгого одиночества нашел для себя средство исчезать самому. Он открыл свое изображение в стоячем зеркале, не доходившем до полу, так что, приседая на корточки, он добивался, чтобы изображение в зеркале уходило “прочь” (1920, p. 15).
«Ушло прочь» только тогда игра, когда возможно «не ушло» или возвращение (не утрата); в противном случае «прочь» зловеще, фатально, серьезно и слишком реально. В этом случае сама возможность игры, похоже, зависит от того, насколько здоровыми являются объектные отношения. Также в данном тексте Фрейд упоминает нарциссическую рану. «Утрата любви и неудача оставляют за собой долговременное повреждение самоуважения в качестве нарциссического рубца» (p. 20).
[Закрыть].
Я невидима, я не вижу себя
Странный парадокс: когда человек не может представить, каким его видят, он должен оставаться невидимым. Через несколько месяцев после описанных выше бесед у Сюзен появилась язва на сетчатке, в результате чего она вынуждена была отказаться от контактных линз и надевать очки. Очки, как она считала, придавали ей вид слепой; линзы, толстые как «бутылочные донца», привлекали внимание окружающих к ее плохому зрению. Она настолько стеснялась, что не приходила ко мне неделю, а затем первый же сеанс начала словами, всхлипывая: «Я невидима. Я не вижу себя. Я не могу смотреть на себя в зеркало. Я вообще ничего не вижу, если не уткнусь носом. Я не знаю, кто я»[144]144
В работе о символике глаза Ференци (Ferenczi, 1913) упоминает несколько похожих пациентов: одного с миопией, способствовавшей острому чувству стыда, который в его сознании приписывался близорукости, что Ференци соотносил с садомазохизмом; и другого пациента, у которого в пубертате возник ужас перед своим отражением в зеркале. Ференци соотносил эту динамику со смещением от гениталий, но я не думаю, что эта гипотеза необходима, чтобы оценить такую динамику. Действительно, иногда сосредоточение на сексуальных значениях, например, близорукости, может обеспечивать покров вины, что делает динамику стыда недосягаемой для анализа и позволяет как аналитику, так и анализируемому уклоняться от боли описываемого переживания. Для Сюзен, я полагаю, было важно полностью выразить, насколько невыносимой, по ее ощущениям, была боль неспособности видеть себя «с лицом».
[Закрыть]. Обычно сдержанная и замкнутая, на этих сеансах Сюзен открыла шлюзы.
«Моя внешность – это все, что у меня есть. Но я ничего не могу предпринять, чтобы выглядеть хорошо. Я буду лишь выглядеть жалкой, поскольку я могу выглядеть только обычным человеком, который пытается выглядеть чем-то большим, чем то, на что он способен… Моя внешность – это все, что у меня было, а теперь у меня и этого нет. Другие не замечают меня, потому что я не запоминаюсь. Но я не могу выходить в люди и оставаться невидимкой. Люди смотрят сквозь меня, потому что я никто, ничто… Я ничего не могу поделать. Я даже не вижу себя.
Если бы я могла что-то поделать и посмотреть на кого-то, когда говорю, если бы я могла выйти в люди и почувствовать, что кто-то меня видит, тогда бы я что-то смогла. Теперь я знаю, люди думают, что я просто еще одно ничтожество, производящее шум. Я не могу говорить с людьми так, чтобы они меня замечали. Я не чувствую себя личностью. Я не могу получить того, что мне нужно от людей. Они говорят, что я хорошо выгляжу. Хорошо для ничтожества, для невидимки. Когда я общаюсь с людьми, я не могу выразить то, что обычно выражала мимикой, потому что у меня нет лица. Раньше я могла смотреть на человека, когда с ним говорила. А если они не обращали внимания, им приходилось сделать усилие, чтобы меня игнорировать. Это было не просто. А теперь, когда я выгляжу как ничтожество, я не могу общаться с людьми, как раньше. То, что они видят – не я. Они не видят меня так, как я хочу, чтобы меня видели, потому что меня нет.»
А когда я сопоставил ее высказывания с чувствами относительно меня в переносе, она пренебрежительно от меня отмахнулась.
«Зачастую я не смотрю на Вас. Полагаю, если бы я смотрела на Вас, мне пришлось бы допустить, что Вы меня видите. Если Вы меня видите, тогда, боюсь, Вы видите, как я прячусь. Но поскольку Вы и близко не так восприимчивы, как мне хотелось бы, все это, вероятно, совершенно не важно.
Теперь у меня нет всех этих мелочей, которые я собирала отовсюду, чтобы представляться интересной личностью. Это как нападение похитителей. Они приходят и берут ваше тело. Они действуют, как будто они и есть вы, но они – это не вы. На самом деле я расстроена, но не знаю об этом, поскольку кто-то захватил мое тело. Оно выглядит, как я, и говорит, как я, но меня здесь нет».
Подобно Сэму, Сюзен фантазировала об исчезновении; подобно ему, она страдала от интенсивного эдипального стыда (который включал в себя стыд доэдипальный) и соперничества с родителем своего пола. И снова-таки, подобно Сэму, она не могла бессознательно вообразить, что ей есть место в душах ее родителей. Описывая Одиссея, Готфрид Келлер говорит о том, как стыдно ни кому и ни чему не принадлежать, скрываться и быть вынужденным скитаться[145]145
Фрейд цитирует ссылку Келлера на «Одиссею» Гомера в «Толковании сновидений» (1900–1901, р. 246). Ощущение Сюзен, что она «застряла между двух миров», напоминает ту тему двойничества, двойников и двойного отображения, которую в 1850-х годах Арнольд описывал как «Блужданье между двух миров, из коих мертв один / А у другого нету сил родиться».
[Закрыть].
«Если вы скитаетесь в чужой стороне, далеко от дома и от всего, что вам дорого, если вы многое видели и слышали, познали печаль и заботу, если вы обездолены и всеми покинуты, тогда, без сомнения, вы однажды увидите во сне, что подходите к своему дому; вы увидите, как он сияет и блистает яркими красками, и самые милые, дорогие и любимые очертания двинутся вам навстречу. Затем внезапно вы осознаете, что стоите в лохмотьях, оборванный и грязный. Вас охватит безымянный стыд и ужас, вы попытаетесь найти укрытие и спрятаться, и вы проснетесь в холодном поту. Таков, сколько люди существуют на Земле, сон несчастного скитальца».
«Видение», «наблюдение извне» и частное пространство
«Женщина-невидимка»[146]146
Krausz (1994, р. 59–72).
[Закрыть] была уверена, что у нее нет лица, и фантазировала, что на ее голову надет бумажный пакет. Ее динамика подобна динамике Сюзен; они обе хотели наказать родителей за то, что те их не видели[147]147
Краус считает, что Фрейд преувеличивал значимость вербальных воспоминаний и пренебрегал силой визуального, хотя и признавал, что визуальное мышление, будучи ближе к бессознательному, возникает в развитии раньше, чем мышление символическое. Краус полагает, что ее пациентка использовала разницу между визуальной и вербальной памятью в защитных целях. Пациентка Краус «скрывала свою развивающуюся частную самость в визуальном мире, что позволяло ей оставаться «невидимой» в вербальном мире, который она должна была разделять с другими» (p. 63).
[Закрыть]. Обе пациентки испытывали тайное желание, чтобы их обнаружили. Обеих можно отнести к проклятию современной анонимности. Недавно в Нью-Йорке нашли труп молодой женщины. Никто не знал, что она пропала; никто не знал ее; никто не пришел за ее телом. Как отмечал один автор,
Все формы «не-видения» скрывают боль и конфликт, свойственные самосознанию при испытании стыда, которое и само, из-за стыда, должно оставаться незамеченным и неувиденным. В своей недавней статье Милан Кундера[149]149
New York Review of Books (September 21, 1995).
«Старая революционная утопия, то ли фашистская, то ли коммунистическая: жизнь без тайн, где общественная жизнь и жизнь частная – одно и то же. Сюрреалистическая мечта, столь любезная Андре Бретону: стеклянный дом, дом без занавесей, где человек живет на виду у всего мира. Ах, красота прозрачности. Единственная успешная реализация этой мечты: общество, которое полностью отслеживается государством. /…/
Когда я прибыл во Францию из Чехословакии, нашпигованной микрофонами, на обложке журнала я увидел большое фото Жака Бреля, скрывающего свое лицо от фотографа, который выследил его перед больницей, где тот проходил лечение от рака – уже на последней стадии. И внезапно я почувствовал, что столкнулся с тем же злом, которое заставило меня бежать из моей страны; мне показалось, что трансляция бесед Прохазка и съемка умирающего певца, прячущего свое лицо, относятся к одному миру: я сказал себе, что если обычаем и правилом становится раскрытие частной жизни другого человека, мы вступаем в такое время, когда высшей ставкой оказывается выживание или исчезновение индивидуума».
[Закрыть] привлекает внимание к тревоге видимости и феномену стыда:
«Я смотрю в окно через дорогу. Наступает вечер, зажигается свет. В комнату входит человек. Он шагает взад и вперед, опустив голову, и время от времени проводит рукой по волосам. Вдруг он понимает, что горит свет, и поэтому его видно. Он резко задергивает штору. Но он же не печатает там фальшивые деньги; ему нечего скрывать, кроме себя самого, как он ходит по комнате, как он неряшливо одет, как он поглаживает свои волосы. Его благополучие зависит от свободы от наблюдения».
И в духе этой книги он продолжает:
«Стыд – одно из ключевых понятий Новой Эры… Одна из базовых ситуаций при переходе к взрослости, один из главных конфликтов с родителями – это требование ящика для писем и записных книжек, требование ящика с замком; мы вступаем во взрослость через бунт стыда (курсив мой. – Б. К.)».
Воображать то, на что мы смотрим, воображать себя смотрящими, и что на нас смотрят, пока мы смотрим – все это, похоже, существенно важно для нашего ощущения того, кто мы есть, и для некоторой основополагающей уверенности в непрерывности нашей жизни. Тревоги Сюзен, что у нее нет лица, что ее не узнают, потому что она сама ничего не видит, дают яркий пример мощи и убийственной силы динамики эдипального стыда. Она не играла в «прочь», чтобы совладать с потерей матери, в этой игре она фантазировала, что исчезает сама. Когда из-за страха перед воображаемым мы истолковываем свою жизнь в терминах видимостей, мы без нужды сужаем охват нашей жизни и тем самым подвергаем свои идентичности риску.
Глава 6
Что видит камера. Трагедия современных героев и «правила игры»
Я буду постоянно выискивать музыкальное в идее, ситуации и так далее, извлекая самую ее сущность, и когда я добьюсь, чтобы мой читатель стал столь восприимчивым музыкально, что он будет якобы слышать музыку, на самом деле не слыша ничего, тогда я выполню свою задачу. Тогда я замолчу, тогда я скажу читателю, как самому себе: слушай.
Сёрен Кьеркегор
В произведениях Луиджи Пиранделло напряженность между различными взглядами на человека – и его зависимость от того, насколько приемлемы и узнаваемы его образы в глазах других – приводит к мучительным попыткам спрятаться и контролировать способы восприятия тебя. Эта напряженность также лежит в основе фильма Жана Ренуара «Правила игры», название которого, вполне возможно, перенято у пьесы, что пытаются поставить «шесть персонажей» Пиранделло. У Ренуара – так же, как и у Пиранделло, – все, что переживается как полностью «внутреннее», выражено быть не может; персонажи познают друг друга только во «внешнем», от которого каждый из них зависит столь фундаментально. Раскрываться может лишь доля каждого персонажа в контроле за тем, как его или ее видят другие, и это позволяет нам отчасти чувствовать (и воображать), что происходит внутри внешнего. Это впечатление технически передается специальными объективами, которые Ренуар использовал, чтобы на протяжении всего фильма держать в фокусе перспективу. Это были «особые объективы, очень светосильные, но дающие значительную перспективу, так что мы могли почти все время держать в фокусе задний план»[150]150
1 Bergan (1955, p. 203).
[Закрыть].
Главным образом сюжет фильма связан с карьерой летчика Андре Жюрё, чей статус героя вступает в неразрешимый конфликт с его любовью к Кристин де Ле Шеснай, немецкой аристократке, жене французского маркиза де Ле Шеснай, в чьем замке (ля Колиньер) и разворачивается по преимуществу действие фильма. Широкая известность и общественная значимость победы Жюрё, пересекшего Атлантику подобно Линдбергу[151]151
Чарльз Огастес Линдберг (1902–1974), американский авиатор, в 1927 г. впервые осуществивший беспосадочный одиночный перелет через Атлантику. – Примеч. пер.
[Закрыть], чрезвычайно расходится с уязвимостью частного человека, чувствующего, что без любви Кристин он – никто. С того времени, как в начале фильма его самолет коснулся посадочной полосы и толпа встречающих взревела в восторге, Жюрё готов без малейших сожалений отказаться от своей только что обретенной славы и международной известности ради любви Кристин.
Посредником, устраивающим встречу Жюрё и Кристин, становится бездельник-сибарит Октав (которого играет сам Ренуар). У Октава нет ни профессии, ни существенного наследства, и потому он целиком зависит от Ле Шесная и его друзей-аристократов. Под натиском Жюрё Октав соглашается убедить Ле Шесная пригласить Жюрё на выходные в компанию своих друзей (где будет и Кристин), которые собираются пировать, охотиться и развлекаться в его замке.
Однако выходит не так, как задумано, поскольку лишенный аристократизма Жюрё оказывается слишком серьезным, чтобы Ле Шеснай мог его игнорировать; обычная аристократическая защита Ле Шесная, высокомерное безразличие, просто не действует в отношении Жюрё, который хочет невозможного – получить от ле Шесная разрешение ухаживать за Кристин. Любопытный поворот сюжета приводит к тому, что измена настигает сразу двоих: Ле Шесная, хозяина замка, и простолюдина Шумахера, его рьяного охранника и егеря; удачливым соперником Ле Шесная становится Октав, а Шумахера – Марсо. Но если Ле Шеснай пытается игнорировать сложившуюся ситуацию, то Шумахер, паля из своего ружья во все стороны, гонится за Марсо и Лизеттой, своей женой, а гости разбегаются в поисках укрытия.
Итак, внешне фильм изображает столкновение миров: мира Жюрё, человека, сделавшего себя самостоятельно; мира Ле Шесная и его гостей-аристократов; и мира Марсо, Шумахера и обычных людей. Как говорит незабываемый и величественно тучный повар одной особенно капризной гостье, велевшей ему не солить ее блюда: «Я могу согласиться с правильной диетой, но не с прихотью», – и продолжает щедро посыпать все солью. Ренуар очерчивает расхождение между видением и идеалом себя, с одной стороны (истории, которые рассказывают о себе персонажи друг другу), и реалиями повседневной жизни и положения в обществе, с другой. Кульминацией фильма становится эпизод, названный «Вальпургиевой ночью», когда бушевание хаоса и страстей разбивает иллюзии видимости, а в конце все расставляется по своим местам – как детские игрушки, которые убирают в коробку перед сном.
Фильм начинается с кадров, демонстрирующих толпу, собравшуюся приветствовать народного героя, Андре Жюрё. Движущаяся человеческая масса толкает и вытесняет камеру. Одна репортерша пытается взять у Жюрё интервью, ожидая рассказа о нелегкой борьбе за победу, о колебаниях или страхе – «интересного людям» повествования, передающего впечатления от полета. Но не фиксирует ничего, кроме смятения, вызванного отсутствием встречающей его Кристин.
С самого начала нет никакого или почти никакого соответствия между общественными фантазиями о героизме и поведением нашего героя. Жюрё спускается с небес героем, но на земле оказывается вопиюще не готовым справляться с происходящим вокруг него. Он не испытывает ни малейшего желания признавать «правила игры» и играть по этим правилам. Он смог бы устоять и быть принятым в мире Ле Колиньер, только если бы сыграл свою роль героя и вдохновителя фантазий. Этого он, конечно, сделать не может, поскольку не способен узнать себя в фантазиях о нем других. Как раздраженно огрызается на него Октав (Ренуар): «Вместо того чтобы скромно следовать роли национального героя, ты выказываешь свое волнение, потому что не увидел Кристин». Позднее Октав отмечает, что трагедия Жюрё – это трагедия всех современных героев: «он способен пересечь Атлантику, но не может даже Елисейские Поля перейти иначе как по тротуару»[152]152
«Il est capable de traverser l’Atlantiqu, mais n’est pas foutu de traverser les Champs Elysees hors des clous».
[Закрыть]. На земле Жюрё так туп и прямолинеен, что оказывается самым заурядным, неромантичным и скучным из всех гостей, неспособным на малейший всплеск воображения. Когда, наконец, Жюрё предоставляется шанс сбежать с Кристин, он настаивает на том, чтобы сообщить об этом Ле Шеснаю, ее мужу.