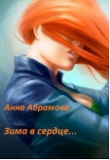Текст книги "Стихотворения"
Автор книги: Белла Ахмадулина
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
О, можно было инструмент расстроить,
но твоего созвучия со мной
нельзя было нарушить и расторгнуть.
В ту осень так горели маяки,
так недалеко звезды пролегали,
бульварами шагали моряки,
и девушки в косынках пробегали.
Все то же там паденье звезд и зной,
все так же побережье неизменно.
Лишь выпали из музыки одной
две ноты, взятые одновременно.
Апрель
Вот девочки – им хочется любви.
Вот мальчики – им хочется в походы.
В апреле изменения погоды
объединяют всех людей с людьми.
О новый месяц, новый государь,
так ищешь ты к себе расположенья,
так ты бываешь щедр на одолженья,
к амнистиям склоняя календарь.
Да, выручишь ты реки из оков,
приблизишь ты любое отдаленье,
безумному даруешь просветленье
и исцелишь недуги стариков.
Лишь мне твоей пощады не дано.
Нет алчности просить тебя об этом.
Ты спрашиваешь – медлю я с ответом
и свет гашу, и в комнате темно.
Нежность
Так ощутима эта нежность,
вещественных полна примет.
И нежность обретает внешность
и воплощается в предмет.
Старинной вазою зеленой
вдруг станет на краю стола,
и ты склонишься удивленный
над чистым омутом стекла.
Встревожится квартира ваша,
и будут все поражены.
– Откуда появилась ваза?
ты строго спросишь у жены.
– И антиквар какую плату
спросил?
О, не кори жену
то просто я смеюсь и плачу
и в отдалении живу.
И слезы мои так стеклянны,
так их паденья тяжелы,
они звенят, как бы стаканы,
разбитые средь тишины.
За то, что мне тебя не видно,
а видно – так на полчаса,
я безобидно и невинно
свершаю эти чудеса.
Вдруг облаком тебя покроет,
как в горных высях повелось.
Ты закричишь: – Мне нет покою!
Откуда облако взялось?
Но суеверно, как крестьянин,
не бойся, "чур" не говори
те нежности моей кристаллы
осели на плечи твои.
Я так немудрено и нежно
наколдовала в стороне,
и вот образовалось нечто,
напоминая обо мне.
Но по привычке добрых бестий,
опять играя в эту власть,
я сохраню тебя от бедствий
и тем себя утешу всласть.
Прощай! И занимайся делом!
Забудется игра моя.
Но сказки твоим малым детям
останутся после меня.
Несмеяна
Так и сижу – царевна Несмеяна,
ем яблоки, и яблоки горчат.
– Царевна, отвори нам! Нас немало!
под окнами прохожие кричат.
Они глядят глазами голубыми
и в горницу являются гурьбой,
здороваются, кланяются, имя
"Царевич" говорят наперебой.
Стоят и похваляются богатством,
проходят, златом-серебром звеня.
Но вам своим богатством и бахвальством,
царевичи, не рассмешить меня.
Как ум моих царевичей напрягся,
стараясь ради красного словца!
Но и сама слыву я не напрасно
глупей глупца, мудрее мудреца.
Кричат они: – Какой верна присяге,.
царевна, ты – в суровости своей?
Я говорю: – Царевичи, присядьте.
Царевичи, постойте у дверей.
Зачем кафтаны новые надели
и шапки примеряли к головам?
На той неделе, о, на той неделе
смеялась я, как не смеяться вам.
Входил он в эти низкие хоромы,
сам из татар, гулявших по Руси,
и я кричала: "Здравствуй, мой хороший!
Вина отведай, хлебом закуси".
– А кто он был? Богат он или беден?
В какой он проживает стороне?
Смеялась я: – Богат он или беден,
румян иль бледен – не припомнить мне..
Никто не покарает, не измерит
вины его. Не вышло ни черта.
И все же он, гуляка и изменник,
не вам чета. Нет. Он не вам чета.
* * *
В тот месяц май, в тот месяц мой
во мне была такая легкость,
и, расстилаясь над землей,
влекла меня погоды летность.
Я так щедра была, щедра
в счастливом предвкушенье пенья,
и с легкомыслием щегла
я окунала в воздух перья.
Но, слава богу, стал мой взор
и проницательней, и строже,
н каждый вздох и каждый взлет
обходится мне все дороже.
И я причастна к тайнам дня.
Открыты мне его явленья.
Вокруг оглядываюсь я
с усмешкой старого еврея.
Я вижу, как грачи галдят,
над черным снегом нависая,
как скучно женщины глядят,
склонившиеся над вязаньем.
И где-то, в дудочку дудя,
не соблюдая клумб и грядок,
чужое бегает дитя
и нарушает их порядок.
* * *
Не уделяй мне много времени,
вопросов мне не задавай.
Глазами добрыми и верными
руки моей не задевай.
Не проходи весной по лужицам,
по следу следа моего.
Я знаю – снова не получится
из этой встречи ничего.
Ты думаешь, что я из гордости
хожу, с тобою не дружу?
Я не из гордости – из горести
так прямо голову держу.
Сентябрь
Юрию Нагибину
I
Что за погода нынче на дворе?
А впрочем, нет мне до погоды дела
и в январе живу, как в сентябре,
настойчиво и оголтело.
Сентябрь, не отводи твое крыло,
твое крыло оранжевого цвета.
Отсрочь твое последнее число
и подари мне промедленье это.
Повремени и не клонись ко сну.
Охваченный желанием даренья,
как и тогда, транжирь свою казну,
побалуй все растущие деревья.
Что делалось! Как напряглась трава,
чтоб зеленеть с такою полнотою,
и дерево, как медная труба,
сияло и играло над землею.
На палисадники, набитые битком,
все тратилась и тратилась природа,
и георгин показывал бутон,
и замирал, и ожидал прироста.
Испуганных художников толпа
на цвет земли смотрела воровато,
толпилась, вытирала пот со лба,
кричала, что она не виновата:
она не затевала кутерьму,
и эти краски красные пролиты
не ей – и в доказательство тому
казала свои бедные палитры.
Нет, вы не виноваты. Все равно
обречены менять окраску ветви.
Но все это, что желто и красно,
что зелено,– пусть здравствует вовеки.
Как пачкались, как били по глазам,
как нарушались прежние расцветки.
И в этом упоении базар
все понижал на яблоки расценки.
II
И мы увиделись. Ты вышел из дверей.
Все кончилось. Все начиналось снова.
До этого не начислялось дней,
как накануне рождества Христова.
И мы увиделись. И в двери мы вошли.
И дома не было за этими дверями.
Мы встретились, как старые вожди,
с закинутыми головами
от гордости, от знанья, что к чему,
от недоверия и напряженья.
По твоему челу, по моему челу
мелькнуло это темное движенье.
Мы встретились, как дети поутру,
с закинутыми головами
от нежности, готовности к добру
и робости перед словами.
Сентябрь, сентябрь, во всем твоя вина,
ты действовал так слепо и неверно.
Свобода равнодушья, ты одна
будь проклята и будь благословенна.
Счастливы подзащитные твои
в пределах крепости, поставленной тобою,
неуязвимые для боли и любви,
как мстительно они следят за мною.
И мы увиделись. Справлял свои пиры
сентябрь, не проявляя недоверья.
Но, оценив значительность игры,
отпрянули все люди и деревья.
III
Прозрели мои руки. А глаза
как руки, стали действенны и жадны.
Обильные возникли голоса
в моей гортани, высохшей от жажды
по новым звукам. Эту суть свою
впервые я осознаю на воле.
Вот так стоишь ты. Так и я стою
звучащая, открытая для боли.
Сентябрь добавил нашим волосам
оранжевый оттенок увяданья.
Он жить учил нас, как живет он сам,
напрягшись для последнего свиданья...
IV
Темнеет наше отдаленье,
нарушенное, позади.
Как щедро это одаренье
меня тобой! Но погоди
любимых так не привечают.
О нежности перерасход!
Он все пределы превышает.
К чему он дальше приведет?
Так жемчугами осыпают,
и не спасает нас навес,
так – музыкою осеняют,
так – дождик падает с небес.
Так ты протягиваешь руки
навстречу моему лицу,
и в этом – запахи и звуки,
как будто вечером в лесу.
Так – головой в траву ложатся,
так – держат руки на груди
и в небо смотрят. Так – лишаются
любимого. Но погоди
сентябрь ответит за растрату
и волею календаря
еще изведает расплату
за то, что крал у октября.
И мы причастны к этой краже.
Сентябрь, все кончено? Листы
уж падают? Но мы-то – краше,
но мы надежнее, чем ты.
Да, мы немалый шанс имеем
не проиграть. И говорю:
– Любимый, будь высокомерен
и холоден к календарю.
Наш праздник им не обозначен.
Вне расписания его
мы вместе празднуем и плачем
на гребне пира своего.
Все им предписанные будни
как воскресения летят,
и музыка играет в бубны,
и карты бубнами лежат.
Зато как Новый год был жалок.
Разлука, будни и беда
плясали там. Был воздух жарок,
а лед был груб. Но и тогда
там елки не было. Там было
иное дерево. Оно
сияло и звалось рябина,
как в сентябре и быть должно.
V
Сентябрь-чудак и выживать мастак.
Быть может, он не разминется с нами,
пока не будет так, не будет так,
что мы его покинем сами.
И станет он покинутый тобой,
и осень обнажит свои прорехи,
и мальчики и девочки гурьбой
появятся, чтоб собирать орехи.
Вот щелкают и потрошат кусты,
репейники приклеивают к платью
и говорят: – А что же плачешь ты?
Что плачу я? Что плачу?
Наладится такая тишина,
как под водой, как под морской водою.
И надо жить. У жизни есть одна
привычка – жить, что б ни было с тобою.
Изображать счастливую чету,
и отдышаться в этой жизни мирной,
и преступить заветную черту
блаженной тупости. Но ты, мой милый,
ты на себя не принимай труда
печалиться. Среди зимы и лета,
в другие месяцы – нам никогда
не испытать оранжевого цвета.
Отпразднуем последнюю беду.
Рябиновые доломаем ветки.
Клянусь тебе двенадцать раз в году:
я в сентябре. И буду там вовеки.
Декабрь
Мы соблюдаем правила зимы.
Играем мы, не уступая смеху,
и, придавая очертанья снегу,
приподнимаем белый снег с земли.
И, будто бы предчувствуя беду,
прохожие толпятся у забора,
снедает их тяжелая, забота:
а что с тобой имеем мы в виду.
Мы бабу лепим, только и всего.
О, это торжество и удивленье,
когда и высота и удлиненье
зависят от движенья твоего.
Ты говоришь:-Смотри, как я леплю.
Действительно, как хорошо ты лепишь
и форму от бесформенности лечишь.
Я говорю: – Смотри, как я люблю.
Снег уточняет все свои черты
и слушается нашего приказа.
И вдруг я замечаю, как прекрасно
лицо, что к снегу обращаешь ты.
Проходим мы по белому двору,
мимо прохожих, с выраженьем дерзким.
С лицом таким же пристальным и детским,
любимый мой, всегда играй в игру.
Поддайся его долгому труду,
о моего любимого работа!
Даруй ему удачливость ребенка,
рисующего домик и трубу.
* * *
– Мы расстаемся – и одновременно
овладевает миром перемена,
и страсть к измене так в нем велика,
что берегами брезгает река,
охладевают к небу облака,
кивает правой левая рука
и ей надменно говорит: – Пока!
Апрель уже не предвещает мая,
да, мая не видать вам никогда,
и распадается Иван-да-Марья.
О, желтого и синего вражда!
Свои растенья вытравляет лето,
долготы отстранились от широт,
и белого не существует цвета
остались семь его цветных сирот.
Природа подвергается разрухе,
отливы превращаются в прибой,
и молкнут звуки – по вине разлуки
меня с тобой.
Мотороллер
Завиден мне полет твоих колес,
о мотороллер розового цвета!
Слежу за ним, не унимая слез,
что льют без повода в начале лета.
И девочке, припавшей к седоку
с ликующей и гибельной улыбкой,
кажусь я приникающей к листку,
согбенной и медлительной улиткой.
Прощай! Твой путь лежит поверх меня
и меркнет там, в зеленых отдаленьях.
Две радуги, два неба, два огня,
бесстыдница, горят в твоих коленях.
И тело твое светится сквозъ плащ,
как стебель тонкий сквозь стекло и воду.
Вдруг из меня какой-то странный плач
выпархивает, пискнув, на свободу.
Так слабенький твой голосок поет,
и песенки мотив так прост и вечен.
Но, видишь ли, веселый твой полет
недвижностью моей уравновешен.
Затем твои качели высоки
и не опасно головокруженье,
что по другую сторону доски
я делаю обратное движенье.
Пока ко мне нисходит тишина,
твой шум летит в лужайках отдаленных.
Пока моя походка тяжела,
подъемлешь ты два крылышка зеленых.
Так проносись!– покуда я стою.
Так лепечи!– покуда я немею.
Всю легкость поднебесную твою
я искупаю тяжестью своею.
Газированная вода
Вот к будке с газированной водой,
всех автоматов баловень надменный,
таинственный ребенок современный
подходит, как к игрушке заводной.
Затем, самонадеянный фантаст,
монету влажную он опускает в щелку,
и, нежным брызгам подставляя щеку,
стаканом ловит розовый фонтан.
О, мне б его уверенность на миг
и фамильярность с тайною простою!
Но нет, я этой милости не стою,
пускай прольется мимо рук моих.
А мальчуган, причастный чудесам,
несет в ладони семь стеклянных граней,
и отблеск их летит на красный гравий
и больно ударяет по глазам.
Робея, я сама вхожу в игру
и поддаюсь с блаженным чувством риска
соблазну металлического диска,
и замираю, и стакан беру.
Воспрянув из серебряных оков,
родится омут сладкий и соленый,
неведомым дыханьем населенный
и свежей толчеею пузырьков.
Все радуги, возникшие из них,
пронзают небо в сладости короткой,
и вот уже, разнеженный щекоткой,
семь вкусов спектра пробует язык.
И автомата темная душа
взирает с добротою старомодной,
словно крестьянка, что рукой холодной
даст путнику напиться из ковша.
Тоска по Лермонотову
О Грузия, лишь по твоей вине,
когда зима грязна и белоснежна,
печаль моя печальна не вполне,
не до конца надежда безнадежна.
Одну тебя я счастливо люблю,
я лишь твое лицо не лицемерно.
Рука твоя на голову мою
ложится благосклонно и целебно.
Мне не застать врасплох твоей любви.
Открытыми объятия ты держишь.
Все говоры, все шепоты твои
мне на ухо нашепчешь и утешишь.
Но в этот день не так я молода,
чтоб выбирать меж севером и югом.
Свершилась поздней осени беда,
былой уют украсив неуютом.
Лишь черный зонт в моих руках гремит.
Живой и мрачной силой он напрягся.
То, что тебя покинуть норовит,
пускай покинет, что держать напрасно.
Я отпускаю зонт и не смотрю,
как будет он использовать свободу.
Я медленно иду по октябрю,
сквозь воду и холодную погоду.
В чужом дому, не знаю почему,
я бег моих колен остановила.
Вы пробовали жить в чужом дому?
Там хорошо. И вот как это было.
Был подвиг одиночества свершен.
и я могла уйти. Но так случилось,
что в этом доме, в ванной, жил сверчок.
поскрипывал, оказывал мне милость.
Моя душа тогда была слаба
и потому – с доверьем и тоскою
тот слабый скрип, той песенки слова
я полюбила слабою душою.
Привыкла вскоре добрая семья,
что так, друг друга не опровергая,
два пустяка природы – он и я
живут тихонько, песенки слагая.
Итак – я здесь. Мы по ночам не спим,
я запою – он отвечать умеет.
Ну, хорошо. А где же снам моим,
где им-то жить? Где их бездомность реет?
Они все там же, там, где я была,
где высочайший юноша вселенной
меж туч и солнца, меж добра и зла
стоял вверху горы уединенной.
О, там, под покровительством горы,
как в медленном недоуменье танца,
течения Арагвы и Куры
ни встретиться не могут, ни расстаться.
Внизу так чист, так мрачен Мцхетский храм.
Души его воинственна молитва.
В ней гром мечей, и лошадиный храп,
и вечная за эту землю битва.
Где он стоял? Вот здесь, где монастырь
еще живет всей свежестью размаха,
где малый камень с легкостью вместил
великую тоску того монаха.
Что, мальчик мой, великий человек?
Что сделал ты, чтобы воскреснуть болью
в моем мозгу и чернотой меж век,
все плачущей над маленьким тобою?
И в этой, богом замкнутой судьбе,
в своей нижайшей муке превосходства,
хотя б сверчок любимому, тебе,
сверчок играл средь твоего сиротства?
Стой на горе! Не уходи туда,
где-только-то!– через четыре года
сомкнется над тобою навсегда
пустая, совершенная свобода!
Стой на горе! Я по твоим следам
найду тебя под солнцем, возле Мцхета.
Возьму себе всем зреньем, не отдам,
и ты спасен уже, и вечно это.
Стой на горе! Но чем к тебе добрей
чужой земли таинственная новость,
тем яростней соблазн земли твоей,
нужней ее сладчайшая суровость.
Стихотворение, написанное во время бессонницы в Тбилиси
Мне – пляшущей под мцхетскою луной,
мне – плачущей любою мышцей в теле,
мне – ставшей тенью, слабою длиной,
не умещенной в храм Свети-Цховели,
мне – обнаженной ниткой, серебра
продернутой в твою иглу, Тбилиси,
мне – жившей под звездою, до утра,
озябшей до крови в твоей теплице,
мне – не умевшей засыпать в ночах,
безумьем растлевающей знакомых,
имеющей зрачок коня в очах,
отпрянувшей от снов, как от загонов,
мне – в час зари поющей на мосту:
"Прости нам, утро, прегрешенья наши.
Обугленных желудков нищету
позолоти своим подарком, хаши",
мне – скачущей наискосок и вспять
в бессоннице, в ее дурной потехе,
о господи, как мне хотелось спать
в глубокой, словно колыбель, постели.
Спать – засыпая. Просыпаясь – спать.
Спать – медленно, как пригублять напиток.
О, спать и сон посасывать, как сласть,
пролив слюною сладости избыток.
Проснуться поздно, глаз не открывать,
чтоб дальше искушать себя секретом
погоды, осеняющей кровать
пока еще не принятым приветом.
Мозг слеп, словно остывшая звезда.
Пульс тих, как сок в непробужденном древе.
И – снова спать! Спать долго. Спать всегда.
Спать замкнуто, как в материнском чреве.
Прощание
А напоследок я скажу:
прощай, любить не обязуйся.
С ума схожу. Иль восхожу
к высокой степени безумства.
Как ты любил? Ты пригубил
погибели. Не в этом дело.
Как ты любил? Ты погубил,
но погубил так неумело.
Жестокость промаха... О, нет
тебе прощенья. Живо тело,
и бродит, видит белый свет,
но тело мое опустело.
Работу малую висок
еще вершит. Но пали руки,
и стайкою, наискосок,
уходят запахи и звуки.
* * *
По улице моей который год
звучат шаги – мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден.
Запущены моих друзей дела,
нет в их домах ни музыки, ни пенья,
и лишь, как прежде, девочки Дега
голубенькие оправляют перья.
Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх
вас, беззащитных, среди этой ночи.
К предательству таинственная страсть,
друзья мои, туманит ваши очи.
О одиночество, как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,
как холодно ты замыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным.
Так призови меня и награди!
Твой баловень, обласканный тобою,
утешусь, прислонясь к твоей груди,
умоюсь твоей стужей голубою.
Дай стать на цыпочки в твоем лесу,
на том конце замедленного жеста
найти листву, и поднести к лицу,
и ощутить сиротство, как блаженство.
Даруй мне тишь твоих библиотек,
твоих концертов строгие мотивы,
и – мудрая – я позабуду тех,
кто умерли или доселе живы.
И я познаю мудрость и печаль,
свой тайный смысл доверят мне предметы.
Природа, прислонясь к моим плечам,
объявит свои детские секреты.
И вот тогда – из слез, из темноты,
из бедного невежества былого
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова.
Мои товарищи
1
– Пока!– товарищи прощаются со мной.
– Пока!– я говорю.– Не забывайте!
Я говорю: – Почаще здесь бывайте!
пока товарищи прощаются со мной.
Мои товарищи по лестнице идут,
и подымаются их голоса обратно.
Им надо долго ехать-де Арбата,
до набережной, где их дома ждут.
Я здесь живу. И памятны давно
мне все приметы этой обстановки.
Мои товарищи стоят на остановке,
и долго я смотрю на них в окно.
Им летний дождик брызжет на плащи,
и что-то занимается другое.
Закрыв окно, я говорю: – О горе,
входи сюда, бесчинствуй и пляши!
Мои товарищи уехали домой,
они сидели здесь и говорили,
еще восходит над столом дымок
это мои товарищи курили.
Но вот приходит человек иной.
Лицо его покойно и довольно.
И я смотрю и говорю: – Довольно!
Мои товарищи так хороши собой!
Он улыбается: – Я уважаю их.
Но вряд ли им удастся отличиться.
– О, им еще удастся отличиться
от всех постылых подвигов твоих.
Удачам все завидуют твоим
и это тоже важное искусство,
и все-таки другое есть Искусство,
мои товарищи, оно открыто им.
И снова я прощаюсь: – Ну, всего
хорошего, во всем тебе удачи!
Моим товарищам не надобно удачи!
Мои товарищи добьются своего!
2
Андрею Вознесенскому
Когда моих товарищей корят,
я понимаю слов закономерность,
но нежности моей закаменелость
мешает слушать мне, как их корят.
Я горестно упрекам этим внемлю,
я головой киваю: слаб Андрей!
Он держится за рифму, как Антей
держался за спасительную землю.
За ним я знаю недостаток злой:
кощунственно венчать "гараж" с "геранью",
и все-таки о том судить Гераклу,
поднявшему Антея над землей.
Оторопев, он свой автопортрет
сравнил с аэропортом,– это глупость.
Гораздо больше в нем азарт и гулкость
напоминают мне автопробег.
И я его корю: зачем ты лих?
Зачем ты воздух детским лбом таранишь?
Все это так. Но все ж он мой товарищ.
А я люблю товарищей моих.
Люблю смотреть, как, прыгнув из дверей,
выходит мальчик с резвостью жонглера.
По правилам московского жаргона
люблю ему сказать: "Привет, Андрей!"
Люблю, что слова чистого глоток,
как у скворца, поигрывает в горле.
Люблю и тот, неведомый и горький,
серебряный какой-то холодок.
И что-то в нем, хвали или кори,
есть от пророка, есть от скомороха,
и мир ему – горяч, как сковородка,
сжигающая руки до крови.
Все остальное ждет нас впереди.
Да будем мы к своим друзьям пристрастны!
Да будем думать, что они прекрасны!
Терять их страшно, бог не приведи!
Маленькие самолёты
Ах, мало мне другой заботы,
обременяющей чело,
мне маленькие самолеты
все снятся, не пойму с чего.
Им все равно, как сниться мне:
то, как птенцы, с моей ладони
они зерно берут, то в доме
живут, словно сверчки в стене.
Иль тычутся в меня они
носами глупыми: рыбешка
так ходит возле ног ребенка,
щекочет и смешит ступни.
Порой вкруг моего огня
они толкаются и слепнут,
читать мне не дают, и лепет
их крыльев трогает меня.
Еще придумали: детьми
ко мне пришли, и со слезами,
едва с моих колен слезали,
кричали: "На руки возьми!"
Прогонишь – снова тут как тут:
из темноты, из блеска ваксы.
кося белком, как будто таксы,
тела их долгие плывут.
Что ж, он навек дарован мне
сон жалостный, сон современный,
и в нем – ручной, несоразмерный
тот самолетик в глубине?
И все же, отрезвев от сна,
иду я на аэродромы
следить огромные те громы,
озвучившие времена.
Когда в преддверье высоты
всесильный действует пропеллер,
я думаю – ты все проверил,
мой маленький? Не вырос ты.
Ты здесь огромным серебром
всех обманул – на самом деле
ты крошка, ты дитя, ты еле
заметен там, на голубом.
И вот мерцаем мы с тобой
на разных полюсах пространства.
Наверно боязно расстаться
тебе со мной – такой большой?
Но там, куда ты вознесен,
во тьме всех позывных мелодий,
пускай мой добрый, странный сон
хранит тебя, о самолетик!
Магнитофон
В той комнате под чердаком,
в той нищенской, в той суверенной,
где старомодным чудаком
задор владеет современный,
где вкруг нечистого стола,
среди беды претенциозной,
капроновые два крыла
проносит ангел грациозный,
в той комнате, в тиши ночной,
во глубине магнитофона,
уже не защищенный мной,
мой голос плачет отвлеченно.
Я знаю – там, пока я сплю,
жестокий медиум колдует
и душу слабую мою
то жжет, как свечку, то задует.
И гоголевской Катериной
в зеленом облаке окна
танцует голосок старинный
для развлеченья колдуна.
Он так испуганно и кротко
является чужим очам,
как будто девочка-сиротка,
запроданная циркачам.
Мой голос, близкий мне досель,
воспитанный моей гортанью,
лукавящий на каждом "эль",
невнятно склонный к заиканью,
возникший некогда во мне,
моим губам еще родимый,
вспорхнув, остался в стороне,
как будто вздох необратимый.
Одет бесплотной наготой,
изведавший ее приятность,
уж он вкусил свободы той
бесстыдство и невероятность.
И в эту ночь там, из угла,
старик к нему взывает снова,
в застиранные два крыла
целуя ангела ручного.
Над их объятием дурным
магнитофон во тьме хлопочет,
мой бедный голос пятки им
прозрачным пальчиком щекочет.
Пока я сплю – злорадству их
он кажет нежные изъяны
картавости – и снов моих
нецеломудренны туманы.
Сон
О опрометчивость моя!
Как видеть сны мои решаюсь?
Так дорого платить за шалость
заснуть? Но засыпаю я.
И снится мне, что свеж и скуп
сентябрьский воздух. Все знакомо:
осенняя пригожесть дома,
вкус яблок, не сходящий с губ.
Но незнакомый садовод
разделывает сад знакомый
и говорит, что он законный
владелец. И войти зовет.
Войти? Как можно? Столько раз
я знала здесь печаль и гордость,
и нежную шагов нетвердость,
и нежную незрячесть глаз.
Уж минуло так много дней,
а нежность-облаком вчерашним,
а нежность – обмороком влажным
меня омыла у дверей.
Но садоводова жена
меня приветствует жеманно.
Я говорю: – Как здесь туманно...
И я здесь некогда жила.
Я здесь жила-лет сто назад.
– Лет сто? Вы шутите?
– Да нет же!
Шутить теперь? Когда так нежно
столетием прошлым пахнет сад?
Сто лет прошло, а все свежи
в ладонях нежности – к родимой
коре деревьев, запах дымный
в саду все тот же.
– Не скажи!
промолвил садовод в ответ.
Затем спросил: – Под паутиной,
со старомодной челкой длинной,
не ваш ли в чердаке портрет?
Ваш сильно изменился взгляд
с тех давних пор, когда в кручине,
не помню, по какой причине,
вы умерли-лет сто назад.
– Возможно, но – жить так давно,
лишь тенью в чердаке остаться,
и все затем, чтоб не расстаться
с той нежностью? Вот что смешно.
Заклинание
Не плачьте обо мне – я проживу
счастливой нищей, доброй каторжанкой,
озябшею на севере южанкой,
чахоточной да злой петербуржанкой
на малярийном юге проживу.
Не плачьте обо мне – я проживу
той хромоножкой, вышедшей на паперть,
тем пьяницей,
проникнувшим на скатерть,
и этим, что малюет божью матерь,
убогим богомазом проживу.
Не плачьте обо мне – я проживу
той грамоте наученной девчонкой,
которая в грядущести нечеткой
мои стихи, моей рыжея челкой,
как дура будет знать. Я проживу.
Не плачьте обо мне – я проживу
сестры помилосердней милосердной,
в военной бесшабашности предсмертной,
да под звездой Марининой пресветлой
уж как-нибудь, а все ж я проживу.
* * *
Однажды, покачнувшись на краю
всего, что есть, я ощутила в теле
присутствие непоправимой тени,
куда-то прочь теснившей жизнь мою.
Никто не знал, лишь белая тетрадь
заметила, что я задула свечи,
зажженные для сотворенья речи,
без них я не желала умирать.
Так мучилась! Так близко подошла
к скончанью мук! Не молвила ни слова.
А это просто возраста иного
искала неокрепшая душа.
Я стала жить и долго прожилу
Но с той поры я мукою земною
зову лишь то, что не воспето мною,
все прочее – блаженством я зову.
Слово
"Претерпевая медленную юность,
впадаю я то в дерзость, то в угрюмость,
пишу стихи, мне говорят: порви!
А вы так просто говорите слово,
вас любит ямб, и жизнь к вам благосклонна",
так написал мне мальчик из Перми.
В чужих потемках выключатель шаря,
хозяевам вслепую спать мешая,
о воздух спотыкаясь, как о пень,
стыдясь своей громоздкой неудачи,
над каждой книгой обмирая в плаче,
я вспомнила про мальчика и Пермь.
И впрямь – в Перми живет ребенок странный,
владеющий высокой и пространной,
невнятной речью, и, когда горит
огонь созвездий, принятых над Пермью,
озябшим горлом, не способным к пенью,
ребенок этот слово говорит.
Как говорит ребенок! Неужели
во мне иль в ком-то, в неживом ущелье
гортани, погруженной в темноту,
была такая чистота проема,
чтоб уместить во всей красе объема
всезнающего слова полноту?
О нет, во мне – то всхлип, то хрип, и снова
насущный шум, занявший место слова
там, в легких, где теснятся дым и тень,
и шее не хватает мощи бычьей,
чтобы дыханья суетный обычай
вершить было не трудно и не лень.
Звук немоты, железный и корявый,
терзает горло ссадиной кровавой,
заговорю – и обагрю платок.
В безмолвие, как в землю, погребенной,
мне странно знать,
что есть в Перми ребенок,
который слово выговорить мог.
Немота
Кто же был так силен и умен?
Кто мой голос из горла увел?
Не умеет заплакать о нем
рана черная в горле моем.
Сколь достойны хвалы и любви,
март, простые деянья твои,
но мертвы моих слов соловьи,
и теперь их сады – словари.
– О, воспой!– умоляют уста
снегопада, обрыва, куста.
Я кричу, но, как пар изо рта,
округлилась у губ немота.
Вдохновенье – чрезмерный, сплошной
вдох мгновенья душою немой,
не спасет ее выдох иной,
кроме слова, что сказано мной.
Задыхаюсь, и дохну, и лгу,
что еще не останусь в долгу
пред красою деревьев в снегу,
о которой сказать не могу.
Облегчить переполненный пульс
как угодно, нечаянно, пусть!
И во все, что воспеть тороплюсь,
воплощусь навсегда, наизусть.
А за то, что была так нема,
и любила всех слов имена,
и устала вдруг, как умерла,
сами, сами воспойте меня.
Другое
Что сделалось? Зачем я не могу,
уж целый год не знаю, не умею
слагать стихи и только немоту
тяжелую в моих губах имею?
Вы скажете – но вот уже строфа,
четыре строчки в ней, она готова.
Я не о том. Во мне уже стара
привычка ставить слово после слова.
Порядок этот ведает рука.
Я не о том. Как это прежде было?
Когда происходило – не строка
другое что-то. Только что?– Забыла.
Да, то, другое, разве знало страх,
когда шалило голосом так смело,
само, как смех, смеялось на устах
и плакало, как плач, если хотело?
Вступление в простуду
Прост путь к свободе, к ясности ума
достаточно, чтобы озябли ноги.
Осенние прогулки вдоль дороги
располагают к этому весьма.
Грипп в октябре-всевидящ, как господь.
Как ангелы на крыльях стрекозиных,
слетают насморки с небес предзимних
и нашу околдовывают плоть.
Вот ты проходишь меж дерев и стен,
сам для себя неведомый и странный,
пока еще банальности туманной
костей твоих не обличил рентген.
Еще ты скучен, и здоров, и груб,
но вот тебе с улыбкой добродушной
простуда шлет свой поцелуй воздушный,
и медленно он достигает губ.
Отныне болен ты. Ты не должник
ни дружб твоих, ни праздничных процессий.
Благоговейно подтверждает Цельсий
твой сан особый средь людей иных.
Ты слышишь, как щекочет, как течет
лад мышкой ртуть, она замрет – и тотчас
овределит серебряная точность,
какой тебе оказывать почет.
И аспирина тягостный глоток
дарит тебе непринужденность духа,
благие преимущества недуга
и смелости недобрый холодок.
Воскресный день
О, как люблю я пребыванье рук
в блаженстве той свободы пустяковой,
когда былой уже закончен труд
и – лень и сладко труд затеять новый.
Как труд былой томил меня своим
небыстрым ходом! Но – за проволочку
теперь сполна я расквиталась с ним,
пощечиной в него влепивши точку.
Меня прощает долгожданный сон.
Целует в лоб младенческая легкость.
Свободен – легкомысленный висок.
Свободен – спящий на подушке локоть.
Смотри, природа,– розов и мордаст,
так кротко спит твой бешеный сангвиник,
всем утомленьем вклеившись в матрац,
как зуб в десну, как дерево в суглинок.
О, спать да спать, терпеть счастливый гнет
неведенья рассудком безрассудным.
Но день воскресный уж баклуши бьет
то детским плачем, то звонком посудным.
Напялив одичавший неуют
чужой плечам, остывшей за ночь кофты,
хозяйки, чтоб хозяйничать, встают,
и пробуждает ноздри запах кофе.
Пора вставать! Бесстрастен и суров,
холодный душ уже развесил розги.
Я прыгаю с постели, как в сугроб
из бани, из субтропиков – в морозы.
Под гильотину ледяной струи
с плеч голова покорно полетела.
О умывальник, как люты твои
чудовища – вода и полотенце.
Прекрасен день декабрьской теплоты,
когда туманы воздух утолщают
и зрелых капель чистые плоды
бесплодье зимних веток утешают.
Ну что ж, земля, сегодня-отдых мой,
ликую я – твой добрый обыватель,
вдыхатель твоей влажности густой,
твоих сосулек теплых обрыватель.
Дай созерцать твой белый свет и в нем
не обнаружить малого пробела,
который я, в усердии моем,
восполнить бы желала и умела.
Играя в смех, в иные времена,
нога дедок любовно расколола.
Могуществом кофейного зерна
язык так пьян, так жаждет разговора.