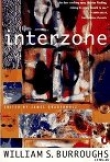Текст книги "Бит Отель: Гинзберг, Берроуз и Корсо в Париже, 1957–1963"
Автор книги: Барри Майлз
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Когда болезнь Наоми зашла слишком далеко, ее отправили сначала в частную клинику в Нью-Джерси, потом в крупную государственную клинику для душевнобольных в Нью-Йорке, где ей проводили инсулиновую терапию, а в конце концов сделали лоботомию[29]29
Лоботомия – удаление лобных долей мозга, ответственных за самоосознание и за принятие решений. Разрушение лобных долей приводит к тому же эффекту. Была распространена в США до конца 1970-х как метод лечения шизофрении.
[Закрыть]. В «Кадише» Гинзберг рассказал всю эту душераздирающую историю во всех подробностях. Наоми и Луис развелись, так что, когда надо было принимать решение о лоботомии, эта болезненная миссия досталась Аллену, его старшего брата тогда не было. Наоми умерла в 1955 г. в госбольнице Пилгрим на Лонг-Айленде в Нью-Йорке. Когда Аллен последний раз приходил к ней, она его не узнала.
Несколько месяцев Аллен вынашивал идею написать поэму, посвященную матери. Ее смерть вскоре после того, как он написал «Вопль», который тоже в своем роде может считаться адресованным ей, потрясла его настолько, что, конечно же, тема для следующей работы у него была. Один из его парижских дневников открывается названием «Посвящается маме», в нем исписаны многие страницы, но все это так и не стало окончательной версией поэмы: «…Я больше не могу прижаться к животу моей матери, потому что она в могиле, она – пустота, я скучаю по тому, что когда-то было живой трепещущей плотью, а превратилось в пустоту».
Эти строки стали прообразом необычно длинных строчек, из которых и составлен «Кадиш», в других набросках поэмы строчки были короче, их Аллен послал Керуаку:
Мама, что я мог сделать, чтобы спасти тебя?
Должен ли погасить солнце?
Должен ли был я не звать полицию
Должен был ли я стать твоим любовником
Должен был ли я взять твои руки и гулять с ними в парке в полночь в течение 60 лет?
Я – поэт, я потушу солнце.
Сумасшествие матери стало трагедией всей жизни Гинзберга, оно определяло и руководило его идеями и намерениями. Благодаря этому он, несомненно, стал немного фаталистом, осознал, что ничто не постоянно в этом мире. Возможно, это, как и идеализм его левых родителей, привело к тому, что Аллен никогда не был материалистом: например, он жадно читал, но всегда давал книги «почитать» и никогда не хранил первые издания – книги надо читать, а не собирать. Ему не были интересны ни мода, ни еда, ни тонкие вина, ни антиквариат, ни дизайн мебели, ни все буржуазные удовольствия. Его влекло сумасшествие и острота чувств, способность самовыражения. Когда ему приходило несколько писем, он сначала откладывал в сторону письма друзей и читал десятистраничное послание, грязно написанное на линованной бумаге, от совершенно незнакомого человека.
Аллен постоянно видел рядом больную мать, и это привело к тому, что он очень терпимо относился к любым проявлением антисоциального поведения и сумасшествия, он крайне редко замечал ненормальное поведение, если уж, конечно, это был не совсем вопиющий случай. Он испытывал сочувствие к душевнобольным; к пьяным, что-то бормочущим себе под нос на Бовери; к пожилой даме, которая что-то громко рассказывает сама себе; к людям, которые слышат голоса; униженным и бездомным, его тянуло к ним. Познакомившись в колледже в начале 1940-х с Джеком Керуаком и Уильямом Берроузом, он открыл для себя мир богемы, наркотиков и мелких воришек. Тогда же он сдружился с мелким воришкой и сутенером-геем Гербертом Ханке, он вел себя настолько гнусно, что полицейские на Таймс-Сквер звали его Пресмыкающимся и иногда с отвращением вышвыривали его с площади. Ханке было все равно, бомж перед ним или нет: он крал у всех, даже у друзей. Ханке поселился у Аллена, украл его вещи, а в конце концов в 1947 г. Аллена арестовали за хранение краденого товара. И Аллен девять месяцев провел в Колумбийском психиатрическом институте, а Герберт сел в тюрьму. Ханке было суждено провести в общей сложности восемь лет жизни в тюрьме, но он стал своеобразной легендой битников и, поощряемый Алленом, написал ряд небольших рассказов, они вышли как его автобиография и назывались «Виновен во всем».
Аллен и сам слышал голоса. Как-то в полдень, когда он глядел из окна своей квартирки, расположенной на последнем этаже, на крыши Гарлема (тогда он еще был студентом), он вдруг услышал голос Уильяма Блейка, из глубины веков он читал Аллену свои стихи. Несколько дней после этого он с повышенной отчетливостью видел, как людям отчаянно нужна любовь, видел их горести и печали, разбитые надежды и мечты. И он почувствовал такое глубокое сочувствие и сострадание к человечеству, что даже испугался, что, как и мать, сходит с ума. Много лет он вспоминал об этом видении, может быть, это было просто следствием нервного перенапряжения, но после этого его стали еще сильнее интересовать люди, стоящие за чертой, душевнобольные, преступники, отверженные. Для него наркоманы и воры были святыми – «ангелоподобные хипстеры» – они стали главными действующими лицами «Вопля» и многих других стихотворений. Тот образ жизни, что вел Аллен, ставил его самого за гранью нормального общества: он был гомосексуалистом, употреблял героин и марихуану, для властей он олицетворял угрозу американскому образу жизни. Для Аллена Гинзберга образ жизни битников не был чем-то напускным, для него это был единственно возможный образ жизни, единственное, в чем был хоть какой-то смысл.
Глава 3. Изгнанники
Общеизвестно, что смена обстановки влияет даже на хорошо образованных людей. Когда молодые англичане и американцы первый раз оказывались в Париже, они вели себя так, как им бы и в жизни в голову не пришло вести дома. Надо признать, что так вели себя и молодые леди. Так было всегда.
Олдос Хаксли. Лукавый Пилат
Билл Берроуз по-прежнему жил в Танжере и часто писал Аллену, как правило, два раза в неделю. Он все добавлял и добавлял новые главы и параграфы к книге, и она уже была не похожа на ту первую рукопись, что Аллен отдал Морису Жиродиасу по приезде в Париж. Билл слал Аллену копии всех добавлений и новые материалы, так что тот мог постепенно пополнять рукопись Жиродиаса – обреченная задача. В середине ноября Аллен отдал последний вариант рукописи Билла, теперь она называлась «Голый ланч», Мейсону Хоффенбергу, «советнику» «Олимпия Пресс», который только что выступил соавтором Терри Сазерна в «Кэнди», вышедшей у Жиродиаса. Стиль Берроуза изумил Хоффенберга, и он объявил его книгу «лучшей из лучших», которые он когда-либо читал. Он заверил Аллена, что «Олимпия Пресс» напечатает книгу по его рекомендации, и Аллен вздохнул с облегчением, полагая, что в конце концов книга все-таки выйдет в свет. Но, просмотрев книгу во второй раз, Жиродиас снова отказался ее печатать, объяснив это тем, что в ней не было секса, несмотря на все заявления Сазерна, что название дано в соответствии с американским обычаем, похожим на французский cinq à sept[30]30
Un cinq à sept – прием между пятью и семью часами (фр.).
[Закрыть] – в это время французы ходят к любовницам. Жиродиасу не нравилось и упоминание наркотиков, раньше «Олимпия» с этим не сталкивалась.
Двадцать четвертого ноября 1957 г. Питер написал свое первое стихотворение, которое так и озаглавил – «Первое стихотворение». При публикации сохранили чудаковатую манеру подачи информации, тем самым сохранив шарм: «Я ищу тапки под кроватью» или «Я пью вино с закрытыми глазами». Питер писал так, как говорил, Уильям Карлос Уильямс сказал о работе Орловски: «В ней нет ничего английского, сплошной американизм». 27 декабря он написал «Второе стихотворение», в основном там рассказывалось об их комнате в Бит Отеле: «Что же такого праведного я могу сделать со своей комнатой? Может, выкрасить ее в розовый, а может, присобачить лестницу к кровати, чтоб слезать на пол, или принять ванну в постели? …Наступает время, когда всем надо будет писать только в раковину, – мне же здесь можно даже выкрасить окно в черный, если захочется». Аллен говорил про эти стихи, что они «без сомнения, выполнены в его типичном сюрреалистическом стиле, эти стихи, построенные кольцом, отличаются достоверностью. Без сомнения, это поэзия завтрашнего дня». Европа вдохновила Питера. Первый раз он попробовал написать что-то в Каннах, когда они весной ехали к Алану Ансену. Он написал витиеватое сочинение, озаглавленное «нелинованный альбом для вырезок», оно вышло в карманном сборнике поэзии City Lights «Стихи чистых анусов и песни веселых овощей».
Питер был счастлив – в отеле было полным-полно молоденьких женщин. Они познакомились с двумя девчонками-продавщицами и понравились им. Питер писал Джеку Керуаку: «Аллен с Грегори возбудились при виде двух француженок, все четверо забрались в одну кровать, Грегори собирался трахать Н. Ох, какой секс был тем вечером!» Хотя как раз его-то в этот раз и не было. Грегори вернулся с дозой, а через несколько дней Питер рассказал в письме, что за то время, что «Аллен с Грегори пытались трахаться, причем довольно вяло, потому что находились под влиянием наркотика», он прочитал 120 страниц «Дневника вора» Жана Жене. Они проболтали всю ночь, а потом, когда девчонки ушли на работу, Аллен, Грегори и Питер отправились туда, где, как думал Грегори, теперь жил Жене, однако они его там не нашли.
Вспоминая о девчонках 25 лет спустя, Аллен сказал: «Они были первыми настоящими француженками, с кем мы познакомились… Я приглянулся одной из них, Франсуазе. Я не представлял себе последствий и не принял это всерьез. Я не понял, что это было настоящим. У меня большая проблема: я не понимаю настоящих чувств. Я думал, что любой, кто влюбится в меня, – сумасшедший. Я же гей и живу с Питером, и если кто-то на меня западает, то это просто какое-то недоразумение и мезальянс. Я не понимал, как понимаю теперь, что с ее стороны это было больше, чем просто увлечение. Наверное, я сделал ей очень больно, оставаясь таким замкнутым. Она была очень молода. Мне тогда было тридцать».
Аллен написал своему старинному приятелю Люсьену Кару, в письме он использовал некоторые сокращения («С» – секс, «Ч» – чай (то есть марихуана, план): «К нам приходит много народу, и, как правило, даже есть выбор занятных девчушек, которых можно трахнуть, они к нам забегают ближе к ужину, С, Ч, героин, короче, что угодно. Я проводил время с двумя француженками-продавщицами, Питер снимал девчонок на улице». Питер в одиночку ходил в другие бордели, они находились где-то в миле от отеля на набережной Сен-Бернар, проститутки собирались рядом с Винным портом и обслуживали мужчин, держа в руках большие бочонки с вином. Они казались старше, чем были на самом деле: рабочие девчонки, которые пили самое дешевое vin ordinaire, обувались в ботинки из черной кожи на высоких каблуках, нейлоновые колготки и юбки до середины икры, а на головах у них были стильные прически.
Одним из тех, кто бывал в комнате 25, был переводчик, англичанин Саймон Уотсон-Тейлор. Он состоял членом Колледжа патафизики, основанного группой французских литераторов в память об Альфреде Жарри, переводил на английский французский авангард и сюрреалистов. Уотсон-Тейлор где-то раздобыл их адрес, и ему захотелось познакомиться с кем-нибудь, кто смог бы объяснить ему, что же такое «Разбитое поколение». Когда он пришел, Аллен и Питер были оба сильно простужены, лежали и кашляли, вокруг валялись многочисленные бумажные салфетки. Он вошел в комнату и расхохотался, увидев, в каком они были состоянии. Уотсон-Тейлор оказался очень дружелюбным типом и угостил их хорошим ужином. Он был знаком с Марселем Дюшаном и другими сюрреалистами и мог посоветовать Аллену большое количество книг и авторов.
Наступил ноябрь, на улице стало холодно. Улицу Жи-ле-Кер с обеих сторон загораживали дома, но вот с реки дул пронизывающий ветер. Чтобы сходить в маленький tabac, который находился на набережной Августинцев рядом со старой мастерской Пикассо, надо было повернуть за угол и ощутить на своем лице дыхание ледяного ветра. Как правило, Аллен просыпался в полдень и частенько весь день гулял в одиночестве по мостовым, глядя, как по булыжникам стучит дождь, наблюдая за холодным солнечным светом на серых стенах, разглядывая статуи и мемориалы, воздвигнутые в честь умерших художников, государственных деятелей и национальных героев. Он забирался на butte[31]31
Butte – останец. С учетом парижских реалий это слово обозначает холм. Париж расположен в долине, окруженной пологими возвышенностями, в этой яме находится несколько холмов-останцов, по-парижски – «бютт». Одни из них совсем незаметны, другие требуют ощутимых усилий, когда взбираешься по их склонам. Самый известный, конечно, бютт Монмартр. Парижане очень гордятся своими возвышенностями. Таковых пять, и называют они их не холмами, а buttes. Это женская форма слова but, «цель», а еще «бютт» на парижском наречии – женская грудь. О происхождении названия Монмартр до сих пор спорят. Одни утверждают, что оно идет от латинского слова martirus, «мученик», другие настаивают, что там было языческое святилище бога Марса. Чаще всего на Монмартр забираются по улице Святого Дионисия (rue St. Denis). «Зловредные римляне» отрубили ему голову на острове Сите, после чего святой, взяв ее под мышку, отправился на север по этой самой улице. Склон здесь довольно крутой. А каково было святому Дионисию? Тогда ведь ни фуникулера, ни знаменитой лестницы не было. Неудивительно, что на верхушке бютт Монмартр он решил передохнуть, и положил голову на землю. На месте, куда пролилось несколько капель крови, потом построили тортообразный собор Сакре-Кер. Святой Дионисий, отдохнув, пошел дальше, еще 20 километров на север, в городок Сен-Дени, где и упокоился.
[Закрыть] Монмартр, чтобы полазить между полуразвалившимися студиями на улице Равиньян, поглядеть на «Bateau-Lavoir»[32]32
Bateau-Lavoir – «лодка-прачечная». В 1899 г. некоему месье Тьонвилю пришло в голову разделить принадлежавшую ему фабрику пианино на мастерские, которые можно было бы сдавать художникам. Ветхое здание стояло на крутом откосе холма, так что с улицы Гаро (rue Garreau) оно казалось пятиэтажным курятником, а с нынешней площади Эмиль-Гудо, где был расположен вход, – одноэтажной хибарой. В Бато-Лавуаре не было ни газа, ни электричества – только один кран с водой на все пять этажей. В лабиринт дешевых клетушек с печками-буржуйками заселилась целая колония писателей и художников, в том числе Брак, ван Донген, Грис, Дерен, Вламинк, Модильяни. Поэт Макс Жакоб прозвал это здание «плавучей прачечной» (Bateau-Lavoir): оно напоминало ему одну из старых барж, на которых стирали тогда белье, да и полы здесь скрипели, как снасти корабля.
[Закрыть], место, которое Макс Жакоб называл плавучей пристанью, перед Второй мировой здесь жили Пикассо, Хуан Грис, Кеес ван Донген и их приятели-поэты.
Аллен часто гулял вдоль по набережным, с интересом роясь в старых книгах и картинках, продающихся на набережных под платанами. Он нашел все запрещенные в Соединенных Штатах книги Генри Миллера и Жене, выпущенные «Олимпией Пресс». Аллен не знал, что поэт Гийом Аполлинер писал порнографию, и был приятно удивлен, обнаружив его книги под названиями «Приключения молодого Рейкхелла» и «Дебош государя». Прочитав, Аллен отправлял их по одной своим родителям в Патерсон. После развода с Наоми его отец женился во второй раз, и Аллен писал своей мачехе Эдит: «Если они тебя не шокируют, будет классно, если ты прочтешь их, но не жги их, потому что они дорогие и редки в США».
Вдохновленный книгами, Аллен перечитал стихи Аполлинера, и в конце ноября они с Питером отправились на кладбище Пер-Лашез в поисках его могилы. Кладбище Пер-Лашез, созданное в 1804 г., – это большой прекрасный сад, скопление мавзолеев и надгробий, выполненных в самых разных стилях, здесь много старых деревьев и петляющих тропинок; здесь нашли последний приют Сара Бернар, Оскар Уайльд, Оноре де Бальзак, Жерар де Нерваль, Теодор Жерико, Фредерик Шопен, Колетт и Марсель Пруст, обрели покой тысячи людей, как известных, так и неизвестных. Взявшись за руки, Аллен и Питер шли по указателям мимо заснеженных деревьев и причудливых надгробий, пока не дошли до могилы Аполлинера. На менгире, иначе – вертикальной плите, тонком куске грубого гранита, было выгравировано его полное имя – Вильгельм Аполлинарий Костровицкий – и два стихотворения. В банке из-под варенья стояли маргаритки, а на могильной плите лежали дешевые керамические розочки.
Аллен пристроился на корнях дерева, растущего рядом с могилой, и закурил сигарету, наблюдая за тем, как по рукаву его вельветового пиджака ползет муравей, в кармане у него лежали «Alcools» Аполлинера. Он положил на плиту «Вопль», чтобы Аполлинер прочитал ее на небесах. На этом же участке находилась могила поэта Анри де Ренье, одного из основателей символизма, а на соседнем – Пруста. Через какое-то время Аллен с Питером обошли оставшуюся часть кладбища.
Поход Аллена и Питера на кладбище Пер-Лашез привел к тому, что на Жи-ле-Кер родилась идея обычной для Бит Отеля шалости. Художник Хоуи собирался возвращаться в Штаты в начале декабря и, наслушавшись рассказов Аллена о кладбище, в ночь перед отъездом напился и решил захватить с собой в качестве сувенира могильную плиту Бодлера. В окрестностях отеля он собрал помощников, попал туда и Аллен, все они забились в одно такси и отправились на кладбище Монпарнас на бульвар Распай, там Хоуи перелез через стену и растворился в темноте. Остальные его подождали немного на улице, а затем отправились ждать к кафе Select на бульвар Монпарнас. В конце концов Хоуи появился и заявил, что стена слишком высокая и могильная плита, которую он так и не нашел, все равно чересчур тяжелая.
Из-за холода они меньше гуляли по городу, разглядывая его памятные места. Грегори купил масляных красок и кистей и принялся рисовать абстрактные картинки на бумажных обоях в отеле. Он приобрел альбом и нарисовал штриховкой несколько легких юмористических картинок. Питер тоже обзавелся цветными карандашами и принялся рисовать странных красных ангелочков, сидящих на красных деревьях. Аллен не пытался рисовать, потому что был очень застенчив, хотя в его дневниках иногда встречаются очень интересные зарисовки ручкой. Они придумали себе экскурсию, которую можно было совершить и не попасться ветру: 7 декабря Аллен, Питер и Грегори весь день лазили по подземельям Парижа, забравшись туда с площади Данфера-Рошро. Под сводами проходов, словно дрова для растопки очага зимой, лежали человеческие кости и черепа, их перенесли сюда в 1780-х, так как кладбище Лез-Аль было практически переполнено. Питер описал потом, что они видели, Роберту Ла Виню так: «Мрачная пугающая влажность и чуть сладковатый запах от миллионов берцовых костей и черепов, аккуратно сложенных вдоль стен туннеля. В небольшом пространстве только смерть. Когда я гулял там, мне казалось, что я тоже мертв, – Грегори спер берцовую кость, и сейчас она лежит рядом с портретом Рембо на стене».
Себе и Питеру, а иногда и Грегори, если тот оказывался поблизости, Аллен часто готовил ужин в комнате, вечерами они читали и писали, а иногда совершали вылазки. Аллен ходил в музей Гиме[33]33
Guimet-Musée National des Arts Asiatiques – один из крупнейших музеев азиатского искусства в мире, появившийся на свет благодаря желанию богатого лионского коллекционера и промышленника Эмиля Гиме, намеревавшегося представить своим соотечественникам образцы религиозного искусства стран Азии и Востока; с самого начала хранил в неоклассическом здании на авеню Иена в Париже богатое личное собрание своего создателя, которое в основном иллюстрировало религиозную иконографию. Это направление после смерти Гиме было постепенно изменено, и музей, относившийся с 1927 г. к Дирекции музеев Франции, стал представлять искусство стран Азии, которое в то время открывала для себя Европа. Перенос богатой коллекции кхмерского искусства из Музея Индокитая на Трокадеро, закрытого в 1935 г., а также собрания азиатского искусства из Лувра в 1945 г. окончательно утвердил призвание музея.
[Закрыть] на Place d’léna, где разглядывал индийские миниатюры и тибетские танки[34]34
Танка (иначе мидзикаута – «короткая песня») – основная форма японской феодальной лирической поэзии, принадлежавшая к так называемой «вака» (песни Ямато – древнее название японцев). Не имеет рифм. Техника этой формы поэзии основана на сочетании пяти– и семисложных стихов с двумя семисложными заключительными стихами: «Окуяма-ни / момодзи фумивакэ / наку-сака-ни / коэ коку тока дзо / оки-ва канасики» – «В глубине в горах / топчет красный клена лист / стонущий олень / слышу плач его… во мне / вся осенняя печаль». Составленное по этой форме стихотворение может содержать до 50 или 100 строчек, и в этом случае оно называется «нагаута» – длинная поэма, однако большинство японских танка состоит из пяти строк по схеме – 5-7-5-7-7, что в общей сложности составляет 31 слог.
[Закрыть], он несколько раз писал об этих походах в своих дневниках: «В глубинах Музея Гиме стоит Камень судьбы[35]35
Камень судьбы – священная реликвия Шотландии, на нем в течение многих веков короновались шотландские короли и, вероятно, короли Далриады, древнего королевства Шотландии. Камень судьбы называют также Подушкой Иакова, Скунским камнем или Коронационным камнем.
[Закрыть], подобный крылатой богине победы». Несколько раз они ходили на китайский балет, а когда у них были деньги, то отправлялись в любимое кафе Грегори «Бонапарт» на улицу Сен-Жермен, излюбленное место встреч со все возрастающим числом знакомых. В квартире над кафе жил Жан-Поль Сартр, но странно, однако, что битники никогда не интересовались экзистенциализмом и не читали этих произведений. «Я полагал и полагаю, что экзистенциализм это, скорее, тренировка мозгов, а не реальная жизнь. Они проповедуют стихию, противопоставление пустоте, но они принадлежат этому миру. И только по политическим соображениям в силу огромной агрессии и ненависти они иногда воспаряют ввысь», – писал Гинзберг. Аллен, даже несмотря на интерес к политике, открыто говорил, что разделяет специфические взгляды Керуака на жизнь, и часто заявлял, что это-то и есть официальное мнение «Разбитого поколения». Керуак проповедовал теорию полного невмешательства, или, как это назвал Аллен, «покорный отказ от жизни, жизнь образами». Керуак пошел дальше, он сочувствовал американским ультраправым и часто выступал в поддержку сенатора Маккарти. Он рассматривал экзистенциализм как коммунистический заговор. Письмо Керуака 1963 г. начиналось так: «Через годы люди вспомнят только овец, Камю желал бы превратить всю литературу в чистую пропаганду, со всеми этими его разговорами о “взглядах”… А я только моряк в отставке, я не слежу за политикой, я даже ни разу не ходил на выборы». Для Гинзберга, не обладавшего академическим складом ума, экзистенциализм был слишком европейским, слишком мудрым. И даже через много лет, когда Гинзберг уже будет преподавать поэзию в бруклинском колледже, он так и не прочтет ни одной хрестоматии по литературе, ни разу не вступит в спор, касающийся анализа и разбора текста, что в то время было очень распространено по всей Англии.
Шестнадцатого ноября проведать Аллена и Питера в Париж на три недели приехал Алан Ансен. Они отвели его в кафе «La Royal» – место встреч гомосексуалов на Сен-Жермен-де-Пре. Позднее это кафе опишет в своем стихотворении «Зеленые балеты»[36]36
«Зеленые балеты» – может быть, имеется в виду строчка из произведения Юрия Карловича Олеши: «Весь этот зеленый балет длинноногих танцовщиц, равномерно поднимающихся и опускающихся, точно они соединены невидимым обручем, иногда постукивающим по стеклу абажура».
[Закрыть] Гарольд Нес: «Шлепаешь по улице Сен-Мишель вдоль туалетов по направлению к Флеру… Холодные порывы ветра задувают в лицо смельчаков, которые сидят на улице. На другой стороне улицы у кафе “La Royal” – юные проститутки. Стройные, как спички, шлюхи. Старые утомленные шлюхи. Округлые прически, каждый крашеный волосок на своем месте, за любую прелесть надо платить. Не очень-то здорово, врубаешься? Чувствуешь себя старым распутником. Теперь ты уже не в молодежной тусовке».
Ансену больше нравилось на улице Ушет, что была напротив площади Сен-Мишель, молодежь любила зависать в находящихся в подвалах джазовых клубах и барах, таких как «У Попова» и «Caveau de la Huchette». Аллен с Питером водили Ансена в свой любимый бар на улице Ушет: там по углам стояли широкоплечие юноши с бородками а-ля д’Артаньян, сбежавшие с уроков в школе, и их молоденькие подруги, ни первые, ни вторые не могли наскрести 40 франков (10 центов) на стакан красного вина.
Он проникся симпатией к Грегори, ему понравились его работы, и он сказал, что тот может приезжать к нему в Венецию, как только захочет. Но тогда Грегори был не нужен покровитель, потому что он встретил в Лувре богатую мексиканскую девушку, и она в какой-то степени облегчила его материальные затруднения. У нее была даже машина, и она обещала отвезти их всех в Шартр. Грегори действительно хорошо писал, и Аллен с восторгом описывал Лоуренсу Ферлингетти, как тот работает, упоминая и о его бедности: «…При всей его бедности удивительно, как он, живя впроголодь, умоляя, воя, канюча, пишет восхитительные стихи… У Грегори сейчас “золотой век”, такой же, как в Мехико, может быть, даже и еще ярче, трезвый, мрачный и серьезный гений просыпается каждое утро и печатает две-три страницы стихов, написанных ночью, он балансирует на грани между реальностью и сумасшествием, кажется, он движется вперед…»
И, хотя Ферлингетти еще раньше согласился издать «Бензин», они с Грегори решили поменять в нем стихотворения местами, решив, что отбор стихотворений был произведен не совсем верно. Аллену теперь многое в книге не нравилось, несмотря даже на то бодрое вступление, что он написал в Амстердаме. Он говорил Ферлингетти: «Я рад, что тебе понравились новые стихи Грегори, “Башня Койт” похожа на что-то действительно стоящее, вроде “Папоротникового холма”. Я был разочарован, наконец увидев его корректуру, потому что и в самом деле считаю, что он – один из великих поэтов США, но он не включил его в сборник. Мне нравятся его короткие стихи, но мне кажется, что его гений раскрывается в длинных непонятных словоизвержениях, в потоках фраз: он ведет слишком беспокойную жизнь и не может спокойно сесть и подумать и верно составить книгу – в ней должно быть больше длинных поэм. В Амстердаме я не понимал, что туда просочилось очень много ерунды вроде “Америки” и коротких бессмысленных стихов… Но теперь все почти близко к совершенству – странно, но он лучше всего пишет, когда серьезен, то есть когда он не играется в маленького Грегори и его куколок. Я рад, что мы решили заново составить книгу и снова отложили ее выпуск, чтобы включить туда “Башню Койт”». Ферлингетти сделал какие-то выводы и в самом деле отложил книгу, чтобы включить в нее новые стихи Грегори, хотя по-прежнему не желал видеть там «Власть».
Работы Грегори стали более непринужденными, он меньше переписывал и редактировал, но по-прежнему не разделял взглядов Керуака, который выступал за полную самопроизвольность. Джек утверждал, что писать можно только абсолютно спонтанно – что никогда и ничего потом не нужно менять, даже пунктуацию. Джек писал стихи рядами, их количество определяла только скорость их печати на машинке. Грегори считал, что поэт должен быть ремесленником, знающим, как можно составить стихотворение. Остальные с этим были не согласны, и это часто становилось причиной споров о поэзии между Грегори и остальными.
Раздосадованной критикой его работы Джеком, Грегори в ответном письме сам раскритиковал работы Джека, призывая его почитать Шелли: «Когда я читаю твои стихи, я тотчас понимаю, что они были написаны левой пяткой, короче, если бы красота прошла перед моими окнами, то я бы хотел, чтобы она шла медленно-медленно, а не так, как пролетает пуля, граната или теннисный мячик, чтобы понять, в самом ли деле это красота. Ну почему же она не замедлила шаг? Мне кажется, что те, кто никогда прежде не видел красоту, должны быть довольны и этим кратким мигом, но я, как и ты, видевший ее, предпочитаю длительное ее изучение – следовательно, ты пишешь не для меня, ты пишешь для всех остальных, и, конечно же, это твой стиль, и это хорошо, и поэтому мне больше нравится твоя проза, чем твои стихи, потому что твои стихи – практически чепуха… летящий теннисный мячик». А в конце он написал: «Ты человек, который пишет книгу стихов за час, можешь написать 24 книги за один день… Но, прости меня, Джек, поэзия – это Ода Западному ветру»[37]37
Здесь Грегори имеет в виду стихотворение Шелли «Западный ветер»:
Дикий Западный ветер, ты, дыхание осени,Гонишь мертвые призраки – желтые, красныеЛистья бледные, черные, в жаре чахоточном —Опаленное тленом несметное воинство.Ты везешь в колеснице на зимнее лежбищеСемена – там лежать им во мраке и холоде,Заключенным в могилах – без тени движенияДо лазурно весенней сестры твоей голоса.Над дремотной землею она закричит, захлопочет —Не чета тебе, дикий, дыхание Запада,И выводит на воздух стада свежелопнувших почек —И поит их живыми оттенками цвета и запаха.(Пер. Якова Фельдмана)
[Закрыть].
Наступил День благодарения, отец Аллена прислал ему 15 долларов, на эти деньги они купили на праздник индейку. Горы корреспонденции погребли под собой Аллена, и он жаловался, что ему не хватает времени работать над собственными стихами – и так будет всю оставшуюся жизнь. Кое-кто из друзей засыпал его письмами, и Аллен чувствовал себя виноватым – к середине ноября он уже должен был написать Роберту Ла Виню шесть писем. Письма приходили от Майкла Макклюра, Филипа Уолена, Лоуренса Ферлингетти, его семьи, Нила Кэссиди, Рона Лувинсона и Джека Керуака, к тому же вдобавок к письмам практически ото всех он получал отнюдь не тоненькие рукописи. Он получал письма от молодых бизнесменов, прочитавших о нем в Life, один из них поздравлял его с тем, что он свободен, что он больше не участвует в этой крысиной возне, и сожалел, что тот «потерял свою душу». Аллен писал отцу: «Я много времени провожу, а можно сказать, что и трачу впустую на написание ответов на странные письма, на все, начиная от лицемерных обращений ко мне как к Христу до писем от юных поэтов на туалетной бумаге».
Последнее относилось к Лерою Джонсу из Виллиджа, который проникся «Воплем» и подумывал о том, чтобы начать издавать литературный журнал Yugen. В своей автобиографии Джонс писал: «Я хотел, чтобы он думал, что я такой же странный человек, каким странным человеком он был для меня сам, и написал ему на Жи-ле-Кер, 9 письмо на туалетной бумаге, в котором спрашивал, а существует ли он на самом деле. Ответное письмо он тоже написал на туалетной бумаге, но она была более жесткой, на ней было удобнее писать. Он совершенно честно сказал мне, что устал быть Алленом Гинзбергом (тогда его скандальная известность только начала расти). После подписи и своего имени он нарисовал цепочку разных существ и животных, у каждого над головой сиял нимб – это была какая-то странная, но веселая процессия».
Аллен отправил Лерою четыре коротких стихотворения и предложил ему написать Филипу Уолену, Гэри Снайдеру, Корсо, Берроузу и Керуаку. Уолен тотчас же переслал ему свою работу, и Аллен написал о журнале в одном из своих многочисленных писем. Джонс писал: «Он был поэтическим двигателем этой эпохи, он был тем, кем был Эзра Паунд в 1920-х, связывающий людей друг с другом, пытающийся добиться публикации для многих авторов». Он описывал письма Гинзберга как «краткие обзоры по современной американской поэзии».
Аллен очень хотел, чтобы Джонс опубликовал стихи Керуака, потому что Ферлингетти только что отказался от его «Книги блюзов» для City Lights. В начале ноября Аллен получил несколько стихотворений от Рэя Брэмзера, реформатора из Бордонтауна, и они так ему понравились, что он сразу же отправил их Джонсу. Совершенно внезапно Лерой оказался в центре маленького издательства творчества битников, а его журнал Yugen, который он издавал вместе со своей подругой Хетти Коуэн, стал одним из самых влиятельных журналов «Разбитого поколения».
Как только Джонс начал публиковать работы битников в своем журнале, Аллен стал предлагать ему и другой материал, который, по его мнению, тот должен был напечатать. Джонс писал: «Еще Гинзберг познакомил меня с Сан-Францисской школой (старой и новой, некоторые члены которой были известны как битники), с Нью-Йоркской школой (Фрэнком О’Харой, Кеннетом Кошем, Джоном Эшберри, Джеймсом Шайлером) и тьмой молодых людей. Были и поэты повзрослее, к примеру, Чарльз Олсен или Роберт Дункан и законодатели мод, к примеру, Роберт Крили и многие другие. И, конечно же, с Берроузом и Керуаком, с Джоном Вьенерсом, Роном Лувинсоном, Полом Блэкбеном, Денизой Левертофф, Ферлингетти, Джеком Спайсером…» Аллен со всеми держал связь, знакомил их друг с другом, знакомил с издателями, посылал и получал стихи.
В декабре Аллен написал первую часть «На могиле Аполлинера», этому произведению было суждено стать одним из его самых известных сочинений. Как и многие другие произведения Гинзберга, поэма носит общий характер, в ней утверждаются всеобщие истины и специально даются точные даты, к примеру, упоминается визит президента Эйзенхауэра в Париж на конференцию НАТО. Айк[38]38
Айк – сокращение от имени 34-го президента Соединенных Штатов – Дуайт Дэвид Эйзенхауэр (Eisenhower, Dwight David) (1890–1969).
[Закрыть] улетел 19 декабря, и Аллен написал: «Так пусть же летит самолет в синем небе над Орли в зимний день, и Эйзенхауэр возвращается домой на кладбищенский двор Америки». И хотя в то время Гинзберг понимал, что не занимается поэзией вплотную, потому что слишком много времени отнимало общение с людьми и написание писем, позднее он понял, что во время жизни в Париже проделана большая работа. Расположившись в Бит Отеле, он самоустранился от бесконечной информации, которую ему навязывало телевидение, и полностью погрузился в изучение ежедневной жизни у себя на родине. У Парижа была своя жизнь, но это была совершенно другая страна и большая часть писем оставалась непрочитанной, потому что он недостаточно хорошо знал язык и не понимал того, на что ссылались писавшие.
Несмотря на то, что он был оторван от непосредственного влияния американской культуры, Аллен чувствовал, что его работа находится в русле литературной традиции, что, несмотря на то что он абсолютно сознательно пытался отойти от условностей, эти же условности влияют на него на подсознательном уровне: взгляды родителей и американская система ценностей. Он бы, без сомнения, согласился, что его прошлый опыт руководствовался тем, что Уолтер Бенджамин называл «злоупотреблением талантливым человеком во имя… принципа “творчества”, когда поэт полагается только на собственную систему мышления – замкнутую и герметичную». Это была экосистема, тесно переплетенная с употреблением большого количества наркотиков, истоки которой уходили в джаз и авангард, и корни плотно вросли в традицию богемы.
На то Рождество в Париж приехал Томас Паркинсон. Он преподавал английский в Беркли и в 1940-х гг. входил в кружок анархистов Кеннета Рексрота в Бэя Эреа. Аллен познакомился с ним, когда год жил в Сан-Франциско. Паркинсон получил премию Гуггенхайма, и вместе с женой Ариэль они переехали в Лондон – там ему было удобнее писать для Йейтса и Паунда. Аллен написал ему в Лондон и пригласил в гости. Когда пара прибыла в Бит Отель, Аллен показал им первую часть «Кадиша», по воспоминаниям Паркинсона, написана она была красными чернилами, чтобы «было похоже, что на страницу пролилась кровь, его кровь и кровь его матери».
Аллен и Грегори ходили с Паркинсоном по Парижу, последнему особенно понравился Музей Гюстава Моро. Паркинсон пригласил Аллена к себе в Хемстед, еще он пригласил его поучаствовать в чтении стихов на третьем канале BBC. Аллен хотел бы поехать, но Керуак все еще не вернул ему 225 долларов. Он писал Луису: «Может быть, я приеду в феврале, если Джек пришлет деньги. Он говорит о них (деньгах) в каждом письме, сначала он говорил, что заплатит на Рождество, потом – в январе, когда получит гонорар, теперь он говорит, что гонорар не пришлют раньше февраля, и я жду этого, положив зубы на полку». А Аллену уже досаждал владелец местной бакалейной лавки по поводу небольшого счета за молоко и яйца.