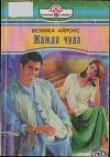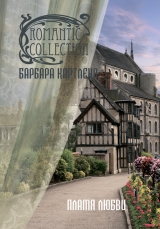
Текст книги "Пламя любви"
Автор книги: Барбара Картленд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава пятая
Покинув берег озера, Мона направилась в деревню тропинкой, ведущей мимо заднего церковного двора.
Дойдя до приступки у ограды, она присела и окинула взглядом расстилавшийся перед ней пейзаж. Обширные пастбища плавно спускались к реке Уз, а та, разлившись, залила пойменные луга и превратила их в гладкие озера, в которых отражалось серо-голубое небо и бледные солнечные лучи.
«Какая тишина и покой во всем! – думала Мона. – Быть может, и я здесь обрету мир?»
Она поднялась; в этот миг порыв мартовского ветра взъерошил ее густые кудри, в беспорядке бросил их на лоб – и мужчине, идущему в этот миг по аллее от церкви, она показалась воплощением самой Весны, вечно юной и прекрасной.
Услышав шаги, она обернулась в его сторону, а затем быстрым шагом пошла к нему навстречу.
– Здравствуйте, викарий! – поздоровалась она, протягивая ему руку.
– Я слышал, что вы вернулись, – ответил он, – и как раз собирался заглянуть в Аббатство сегодня после обеда, надеясь, что одним из первых скажу вам: «Добро пожаловать!»
– Благодарю вас, – ответила Мона. – Как поживаете? И как жил наш Литтл-Коббл без меня?
– У нас здесь все по-прежнему, – ответил он, но невольно улыбнулся – и при этой улыбке в чертах его унылого, изборожденного ранними морщинами лица мелькнуло и исчезло что-то мальчишеское.
А ведь еще не так уж давно Стенли Гантер был настоящим красавцем: высокий и стройный, с точеным лицом, широкими плечами и спортивной фигурой.
В Оксфорде он пользовался всеобщей любовью, и многие преподаватели говорили, что он далеко пойдет. Однако он совершил роковую ошибку: на втором году службы в должности младшего священника женился на дочери своего викария.
Мейвис Гантер была из тех женщин, каких в былые времена, не обинуясь, отправляли на костер. Но в наш просвещенный век в ведьм уже никто не верит – и, может быть, напрасно.
Мрачная, злобная, вечно всем недовольная, единственное удовольствие находила она в том, чтобы властвовать над окружающими и отравлять им жизнь.
Молодой и симпатичный помощник отца привлек Мейвис, и она решила: он должен стать ее мужем. А дальше со всей целеустремленностью и решимостью сильного характера повела дело так, что избежать женитьбы ему оказалось просто невозможно.
Стенли Гантер никогда не мог вспомнить, как же они с Мейвис оказались помолвлены. Делал ли он предложение? Вряд ли: должно быть, она сама все сказала за него. Ведь Мейвис контролировала каждое его действие, каждое движение и почти что каждое слово.
Итак, она заполучила мужчину, которого хотела. Но, не удовлетворившись тем, что он согласен исполнять все обязанности супруга и, быть может, даже готов постепенно к ней привязаться, решила заставить его себя полюбить.
Увы, Мейвис даже отдаленно не представляла себе, что такое любовь и где ее искать – ведь ей самой это чувство было неведомо. Своими усилиями она лишь задушила в муже первые робкие ростки нежности.
Будучи проницательна, она поняла, что произошло, – и принялась мстить мужу за свою неудачу, мстить изощренно и жестоко.
Через год после брака Мейвис разродилась мертвым ребенком. Она долго болела, и врачи объявили, что детей у нее больше не будет. Тогда-то она и начала бичевать своего мужа за недостаток любви, которой так жаждала – и которая, как считала она, полагалась ей по праву.
Она объявила: по ее твердому убеждению, в глазах Церкви брак необходим лишь для произведения на свет детей. Ей Бог в этом благословении отказал, значит, они с мужем должны вместе трудиться на благо Церкви, должны жить вместе, как муж и жена, однако отказаться от физической близости, от единения тел.
Навязать безбрачие здоровому мужчине двадцати пяти лет от роду – поистине чудовищная жестокость. А ведь Стенли Гантер был силен, крепок телом, самой природой создан для того, чтобы стать хорошим мужем и отцом, чтобы прожить жизнь в любви и семейном счастье!
Безупречно порядочный и мягкий по характеру, он не мог ни навязывать себя жене, ни обойтись с ней так, как она того заслуживала. Он подчинился ее решению – и медленно, исподволь, ненормальность их семейной жизни начала сказываться на нем.
Что-то как бы иссохло и умерло в молодом священнике; все чаще те, кто обращался к нему в трудную минуту, не встречали в нем ни сочувствия, ни даже понимания.
Проповеди его сделались монотонны и тусклы, плечи согнулись, словно под невидимым бременем. Задолго до срока он превратился в старика – безразличного ко всему, бредущего по жизни как автомат, почти отгородившегося от людей и едва ли сознающего, чего он себя лишает. От Стенли Гантера, каким он был когда-то, осталась лишь бледная тень.
Ничто его не интересовало, все вокруг казалось серым и нудным – плоским, как равнины, среди которых он живет, неизменным, как поля и неспешные воды мутной реки.
Только одна цель, один рубеж остался у него в жизни – смерть. А между смертью и днем сегодняшним тянулись серые дни, серые часы, в которых ему составляли компанию лишь его собственные серые мысли.
Но сейчас, глядя Моне в лицо, он вдруг почувствовал: что-то в нем всколыхнулось.
Он всегда считал, что красивее женщины не встречал, но сейчас ее нежное овальное личико освещалось какой-то новой, одухотворенной красотой, словно прелестные черты его стали прозрачными и сквозь них просвечивало неугасимое, бьющее ключом пламя жизни.
– Как я рад, что вы вернулись!
Эти простые слова он произнес так, как иззябший путник протягивает руки к огню.
– Спасибо за добрые слова, – ответила Мона. – Я сомневалась, что меня здесь встретят радостно.
– Почему же? – ответил он. – Без вас здесь было тоскливо. Некоторые очень скучали – например, ваша матушка: она считала дни до вашего возвращения.
– Бедная мамочка! Пожалуйста, не упрекайте меня, – мне и так перед ней стыдно. Няня мне уже высказала все, что думает по этому поводу, – вы, должно быть, представляете, что это значит.
– Еще бы! – рассмеялся Стенли Гантер. – Рядом с вашей няней я всегда чувствую себя маленьким мальчиком. На прошлой неделе она пришла ко мне сообщить, что на могилах на кладбище лежат давно увядшие цветы, – и казалось, вот-вот поставит меня в угол за то, что я не позаботился их убрать!
– Милая няня! Мне кажется, все мы для нее дети. Вообще, нянюшки, по-моему, это такая особая порода женщин – ни Бога, ни человека не боятся. Хорошо им живется, наверное!
– А вы… неужели вы кого-то боитесь? – спросил Стенли Гантер.
– Разумеется! – живо ответила Мона. – Боюсь множества людей – и, должна признаться, особенно женщин.
«А из них особенно – вашу жену», – подумала она, но вслух этого, конечно, добавлять не стала.
– Куда вы идете? – спросила она.
– Да вот… гм… иду в Коббл-Парк спросить майора Меррила, нельзя ли устроить у него в поместье вечеринку для девушек из Земледельческих дружин [6]6
Земледельческие дружины – в Великобритании женские добровольные дружины, заменявшие мужчин в сельском хозяйстве во время Второй мировой войны.
[Закрыть]?
На самом деле ничего подобного Стенли Гантер делать не собирался. Верно, временами ему приходило в голову, что «земледельческих дружинниц» в округе много, жизнь у них нелегкая и монотонная, и, может быть, стоило бы организовать для них что-нибудь этакое… но вялость и безразличие ко всему мешали додумать эту мысль до конца.
Да и не все ли равно, будет он что-то делать или нет? Даже когда он ничего не делает, все идет своим чередом.
Но сейчас он вдруг ощутил прилив энергии и интереса к жизни. Почему бы в самом деле не сделать то, что он давно собирался, но все откладывал на потом?
Эти новые чувства вызвала в нем Мона. Теперь он вспомнил: она всегда обладала этим странным свойством – умела заряжать энергией и побуждать к деятельности его самого, а быть может, и других.
Она ничего не требовала, даже не предлагала, но каждый мужчина, оказавшись с ней рядом, загорался страстным желанием жить и жаждой свершений.
– Вечеринку? Отличная мысль! – воскликнула Мона. – Обязательно приду – не забудьте меня пригласить! Хочу посмотреть на Майкла в окружении прекрасных дам!
– Многие из них работают на его землях, – ответил Стенли Гантер. – Мы рады, что он вернулся, хоть мне и известно, что он тоскует по армии.
– Он сильно хромает.
– Да, и боюсь, что хромота останется на всю жизнь, – ответил викарий. – Но он совершил настоящий подвиг, и я рад, что правительство оценило его по заслугам.
– О чем это вы? – поинтересовалась Мона.
– А разве вам не говорили? Он получил орден «За выдающиеся заслуги».
– Нет, я ничего об этом не слышала. А что он сделал?
– Уже раненный, прополз почти четверть мили к брошенному пулемету и с помощью лишь одного сержанта – того потом убили – сдерживал вражеские силы почти двадцать минут, пока не подоспело подкрепление и позиция не была спасена.
– Как это похоже на Майкла! – заметила Мона. – Он никогда не сдается. Кажется, ничто не способно его сломить.
– Гм… не знаю, никогда об этом не думал, – проговорил Стенли Гантер. – Впрочем, я вообще не большой знаток характеров и часто не понимаю людей, даже хорошо знакомых.
– Быть может, для некоторых из нас это и к лучшему, – с улыбкой ответила Мона; однако от викария не укрылось, что взгляд ее омрачился.
«Неужто и она боится людей?» – подумалось ему.
Как и все прочие, он привык думать, что Мона идет по жизни смеясь, словно актриса на сцене, не слушая ни аплодисментов, ни свиста зрителей.
Но сейчас он вдруг ощутил, что совсем ее не понимает. Хотел сказать ей что-то утешительное, ободряющее – и не мог найти слов.
«Ну и болван же я! – сердито думал он. – За ее внешней беззаботностью что-то кроется – быть может, какая-то трагедия, – а я ничего не могу понять!»
Удушающее чувство своей ничтожности нахлынуло на священника. Что он за пастырь душ, если самые обыкновенные люди из маленького деревенского прихода остаются для него тайной за семью печатями! Сжав кулаки, Стенли Гантер мысленно поклялся себе это исправить.
«Я не позволю всему этому взять надо мной верх!» – говорил он себе и в глубине души знал, что неопределенное «все это» следовало бы заменить местоимением в женском роде.
Он судорожно искал слова – и наконец нашел, хоть и не те, которые хотелось бы услышать Моне:
– Я часто вспоминаю вашу свадьбу. Это был прекрасный праздник для всей деревни.
– Правда? – ответила Мона, и горькая улыбка тронула ее губы.
Ничего там не было «прекрасного», и Стенли Гантер кривил душой. Свадьба Моны была шумной, роскошной – и фальшивой от начала до конца.
Поначалу они с Недом хотели пожениться тихо, без огласки. Точнее, этого хотела она, а Нед согласился с тем, что после всей газетной шумихи, связанной с ее именем, лучше всего будет обвенчаться в деревенской церкви, в присутствии лишь ее матери и шафера.
Вот только Нед ничего не умел делать тихо.
Разумеется, он проболтался! Все рассказал нескольким друзьям и пригласил их на свадьбу.
С самого утра на деревенской улочке один за другим припарковывались шикарные автомобили. А когда Мона, в простеньком, второпях купленном атласном платье и старинной фате, в которой венчались ее бабушка и прабабушка, вошла в церковь, там уже яблоку было негде упасть.
Были здесь, разумеется, и деревенские; но кроме них – друзья Неда, такие же бесшабашные юные аристократы, спортсмены, жокеи, случайные знакомые со скачек, из баров и ночных клубов и разряженные женщины с букетами орхидей.
Нед был богат и денег не считал, так что все наперебой спешили доказать ему свою дружбу и сделаться для его молодой супруги такими же незаменимыми, как и для самого Неда в его холостяцкие деньки.
А уж для репортеров эта свадьба стала просто манной небесной:
ЯЗЫЧЕСКАЯ БОГИНЯ ТАЙКОМ ВЕНЧАЕТСЯ С БОГАТЫМ БАРОНЕТОМ!
Глупое прозвище приклеилось к ней и теперь повторялось под ее фотографиями на каждой газетной странице:
Леди Карсдейл, чья прелесть языческой богини задает новые стандарты современной красоты… Леди Карсдейл, более известная как Языческая Богиня… Античная красота в современных нарядах – леди Карсдейл в…
Как же она устала от всего этого!
Но бежать было некуда, да еще и Нед, вовсе о том не думая, постоянно подливал масла в огонь:
Сэр Эдвард и леди Карсдейл совершили вынужденную посадку на частном самолете… Сэр Эдвард и леди Карсдейл организуют автопробег на вершину Сноудона… Яхта Неда Карсдейла терпит крушение в заливе Монте-Карло! Языческая Богиня чудом избежала гибели!
Авантюрам Неда не было конца – и из каждого его приключения, удачей ли оно заканчивалось или неудачей, выходила отличная газетная новость. А Нед любил появляться на первых страницах газет – или, по крайней мере, любил хвастаться своими подвигами репортерам.
Когда ему звонили и просили комментариев, он обыкновенно отвечал:
– Заезжайте ко мне, старина, – выпьем рюмочку, и я вам все расскажу!
Среди журналистов даже ходила шутка: если тебе не хватает абзаца для светской хроники, смело звони Карсдейлам!
«Какой была свадьба, такой же стала и семейная жизнь», – думала Мона.
Ей помнилось, что Стенли Гантер нервничал. Рука его дрожала, когда он соединял ее руку с рукой Неда. Но сама она оставалась спокойной.
Да и что теперь могло бы ее расстроить? Все ее чувства погасли, исчезло все – остались только безразличие и отстраненность, словно она смотрела на мир сквозь толстое стекло.
Свадьба Лайонела была назначена через неделю. Что ж, хотя бы в этом она его опередила.
Он первым услышит о ее свадьбе, первым представит ее в объятиях Неда Карсдейла – а потом уж настанет ее черед думать о нем в объятиях Энн Уэлвин.
В газетах, вместе с объявлением о его помолвке, она нашла фотографии этой Энн. Мона внимательно их изучила. Милое, но заурядное лицо, глуповатая улыбка, открытый взгляд.
«Идеальная жена дипломата, – думала Мона. – Никогда не уронит честь мужа. Лучше всего она будет выглядеть лет в пятьдесят, когда малость округлится и поднаберется уверенности в себе».
«Надеюсь, Лайонел доволен! – с внезапной яростью мысленно добавила она. – Доволен, что женится на простушке, которая будет ему в рот смотреть!..»
Но сможет ли она целовать его так, как Мона? Будет ли он рядом с ней задыхаться от волнения и терять дар речи? Сможет ли она воспламенить его так, что он, забыв, о чем только что говорил, будет тянуться к ее губам… к нежному изгибу шеи… к щеке, на которую падает кружевная тень ресниц?
Одну фотографию Энн она вырезала из «Татлера» и сожгла в камине. Но это не помогло.
Пустота и какое-то внутреннее онемение, ощущение себя куклой на кукольной свадьбе – все это осталось с ней.
Однако ни свинцовая тяжесть на сердце, ни оцепенение души не сказались на сиянии ее красоты: подходя к алтарю и уверенно соединяя свою руку с рукой Неда, Мона была прекрасна как никогда.
И Стенли Гантеру, и многим другим, собравшимся в церкви, она казалась сказочной красавицей.
Лицо ее окаймляла старинная, чуть пожелтевшая от времени кружевная фата, складки платья вторили мягким изгибам тела.
Она держала обычный букетик лилий; но в руках у Моны даже эти простые цветы – символ девической чистоты – превращались во что-то экзотическое и завораживающее.
Когда служба закончилась, загремел марш Мендельсона в исполнении миссис Гантер (играла она, надо сказать, из рук вон плохо) и процессия двинулась прочь из церкви, Мона заметила, что мать и еще несколько деревенских жительниц смахивают слезы с глаз.
Ей это показалось глупой сентиментальностью; она не понимала, что это слезы восхищения красотой молодой пары.
Оба они, на взгляд простодушных зрителей, словно вышли из сказки. Золотоволосый юный принц, с бесстрашной улыбкой взирающий в будущее, и рядом с ним – принцесса, прекрасная, как сама мечта… Разумеется, теперь они должны «жить долго и счастливо»!
Что ж, Нед был счастлив. Он любил Мону – по-своему, как умел; а семейную жизнь воспринимал как новое приключение – и наслаждался каждым его мгновением.
Именно так он старался жить, каждый свой шаг превращая в театральное представление с самим собой в главной роли.
Он пожимал руки жителям Литтл-Коббла, говорил каждому именно то, что полагается слышать от жениха. Поцеловал няню и сообщил миссис Вейл, что считает себя счастливейшим из смертных.
Щедрой рукой выставил несколько ящиков шампанского, привезенного из Лондона, чтобы вся деревня веселилась и пила за его здоровье.
Словом, думала Мона, свадьба получилась на редкость успешная – по стандартам сценического шоу.
А потом они вдвоем сели в машину Неда; гости осыпали их рисом и лепестками роз, а на багажник повесили с полдюжины подков и старых ботинок.
Автомобиль взревел и рванулся с места. Когда они отъехали от деревни, Мона попросила Неда остановиться и снять с багажника свидетельства их недавней свадьбы, но тот лишь рассмеялся в ответ.
– Вот еще! – ответил он. – Милая, я не собираюсь скрывать, что мы с тобой муж и жена. Я этим горжусь!
Они прибыли на аэродром, оттуда улетели в Париж – и в Париже встретили не только целое собрание друзей Неда, но и вторую – еще больше, чем в Литтл-Коббле, – толпу журналистов и фоторепортеров.
«Что за комедия!» – думала Мона.
Но Нед был доволен, и все вокруг считали их идеальной парой.
Она старалась не вспоминать, что в Париже они остановились в «Рице», всего в нескольких улицах от английского посольства, где жил Лайонел.
«Скучает ли он по Энн?» – спрашивала она себя.
Пишет ли ей такие же письма, какие часто случалось в прошлом получать ей, – записочки из нескольких слов, написанные вечером, уже в постели, полные любви и нежности?
Мона, любимая моя, что за нудный день! Но солнце, играющее на волнах Сены, напомнило мне о тебе – о том, как сияют твои глаза, когда я приезжаю нежданно. Целую прядь твоих волос, солнце мое, и надеюсь через несколько недель поцеловать тебя в губы.
Много, много таких записок получила она – свидетельств любви столь глубокой, столь всепоглощающей, что ее и не выразишь словами.
И вот она в Париже! Как мечтала она сюда попасть! Мечта сбылась… но принесла ей только муку.
Она выглянула в окно. Силуэты темных крыш мягко вырисовывались на фоне неба, не черного по-ночному, а скорее сияющего мягким синим светом. Луны не было – лишь робко блестели несколько звезд. Снизу доносился отдаленный уличный шум и клаксоны такси.
Париж! Как хотела она здесь побывать!
Желание ее сбылось – но и красота, и веселье этого чудного города обернулись кошмаром, ибо любимого ее не было с ней рядом.
«Горек мед медового месяца», – подумалось Моне.
Но тут же она тряхнула головой и громко рассмеялась, не желая поддаваться судьбе.
В этот миг в спальню вошел Нед. Его молодая жена стояла у окна, запрокинув голову, смеясь, словно юная вакханка; порыв ветра, подхватив ее шифоновую ночную рубашку, ясно обрисовал контуры тела.
Он сжал ее в объятиях, повторяя снова и снова:
– Какая же ты у меня красавица! Какая красавица!
И не понял, почему она застонала, словно от боли, при этих словах, напомнивших ей Лайонела и его первый поцелуй.
Глава шестая
Миссис Гантер у себя в гостиной сортировала вязаные шарфы и носки цвета хаки, а сама нет-нет да и поглядывала сквозь занавеску плотного ноттингемского кружева на улицу, не желая упустить ничего из того, что там происходит.
Вот Уэйд, садовник из «Башен», бочком проскальзывает в дверь «Короны и Якоря». А вот юный Томми Ньюэлл, выбежав из дверей школы, на ходу обменивается тумаками с еще одним мальчишкой из церковного хора. В будущее воскресенье миссис Гантер непременно поговорит с обоими об их поведении.
Бдительно следя за уличной жизнью, миссис Гантер не забывала измерять шарфы, проверяя, положенной ли они длины. Один шарф оказался дюйма на два короче – и тонкие губы ее изогнулись в усмешке удовлетворения.
Этот шарф связала миссис Эббот, маленькая, как воробышек, тихая и робкая женщина, живущая в одиночестве на краю деревни. Завтра вечером, когда Вязальный клуб соберется в Аббатстве, миссис Гантер обязательно укажет ей на ошибку.
Тут она заранее мысленно проговорила свою речь:
«Миссис Эббот, боюсь, на сей раз вы проявили невнимательность и неаккуратность. Ваш шарф на целых два дюйма короче, чем нужно! Быть может, вам кажется, что это незначительная мелочь, но не бывает мелочей, когда мы трудимся на благо фронта, на благо отважных сыновей Англии, которые сражаются за нас! Если они там начнут допускать такие же «незначительные ошибки», как мы здесь, – подумайте, что с нами со всеми будет?»
Миссис Эббот, разумеется, покраснеет до ушей и будет готова провалиться сквозь землю. И правильно. Да, она плохо видит, но разве это оправдание?
Миссис Гантер не сомневалась, что послана на землю именно для того, чтобы обличать чужие пороки и указывать другим на их место.
«Никто не знает, – думала она, – что я ежедневно, ежечасно приношу себя в жертву! Ни минуты покоя, ни минуты жизни для себя – все для других!»
Взять хотя бы Стенли. Такого бестолкового, безответственного лентяя еще поискать! Страшно подумать, что стало бы с ним самим и со всем приходом, не будь ее рядом! Но, к счастью, она всегда рядом – всегда готова его подтолкнуть, подсказать, подстегнуть его память и настоять на том, чтобы он выполнял свой долг.
Или Уинни, их новая служанка. Никчемная девчонка – распустеха, неумеха, ничего не может сделать как следует да еще и склонна дерзить!
«Скоро придется ее уволить, – сказала себе миссис Гантер. – Все они рано или поздно начинают дерзить, и приходится с ними расставаться».
Перевязывая шарфы шнурком, она снова выглянула в окно – и увидела там миссис Хаулетт, докторскую жену, катящую куда-то на вечном своем велосипеде.
Миссис Гантер поджала тонкие губы, а глаза ее за стеклами очков превратились в две узенькие щелочки.
Ох уж эта Дороти Хаулетт! Смотреть на нее противно!
Подумать только: эта серая моль имела наглость возглавить Общество помощи фронту в Литтл-Коббле! Как она посмела? Ну ничего, ей это даром не прошло!
Миссис Гантер едва не расхохоталась, с удовлетворением вспоминая, как сумела напакостить сопернице.
Она открыла параллельную организацию – Вязальный клуб. И уже несколько дней спустя многие из тех, кто из симпатии к Дороти или из благодарности ее мужу стали членами ОПФ, начали стыдливо спрашивать, нельзя ли им вступить и в клуб к миссис Гантер.
Неудивительно: ведь у жены священника немало способов испортить жизнь прихожанам, и очень скоро люди поняли, что с ней лучше не ссориться. Может, миссис Хаулетт у нас и добренькая, а вот миссис Гантер – совсем нет!
Миссис Хаулетт на своем велосипеде исчезла из виду, и Мейвис Гантер хотела уже отвернуться от окна, как вдруг заметила, что в самом конце улицы, у церковных ворот, появился ее муж, а рядом с ним кто-то еще.
Она почти прижалась к оконному стеклу, напряженно вглядываясь через очки. Да это же… Мона Карсдейл!
Давно уже ходили слухи, что она возвращается в родные края. И вот, пожалуйста, – Мона Карсдейл во всей красе, весело болтает о чем-то со Стенли, словно никуда и не уезжала!
А ведь ее не было с лишком четыре года! Чтобы так долго не появляться в родных местах, нужны серьезные причины, и Мейвис Гантер непременно разузнает какие.
Ее муж открыл ворота, ведущие на церковный двор. Должно быть, хочет показать Моне мемориальную доску в память о том юном безбожнике, за которого она так необдуманно вышла замуж.
Право, странно, что она не приехала из Парижа даже на открытие памятника.
Миссис Вейл, конечно, изобретала разные причины того, почему дочь не может приехать домой. Звучало убедительно, что и говорить, – многие верили. Но миссис Гантер не из тех, кто легко верит на слово.
Достаточно взглянуть на Мону Карсдейл – и сразу поймешь: у нее обязательно должны быть какие-то грязные тайны! Чего еще ждать от женщины, которая в восемнадцать лет оказалась замешана в скандальной истории.
Миссис Гантер об этом не забыла, нет, – и сделала все для того, чтобы и никто другой в округе об этом не забыл.
Только подумайте: шлялась ночью по злачным местам в компании каких-то наркоманов! Наверняка и сама балуется наркотиками.
Правда, на вид совсем непохожа на наркоманку – но ведь, говорят, настоящего наркомана с виду ни за что не отличишь! А если не наркотики – что ж, значит, есть в ее жизни какие-то другие пороки, поинтереснее.
Стенли и Мона уже подошли к порогу церкви. Миссис Гантер вывернула шею и приклеилась носом к оконному стеклу.
Но тут же отпрянула, издав сердитый возглас: мальчишка, помощник булочника, высунулся из боковой двери своей лавки и наверняка заметил, как она торчит у окна.
Этот мальчишка, Джонни Уикс, никогда ей не нравился: вечно насвистывает за прилавком да и отвечает непочтительно.
В следующий раз, когда пойдет в булочную, она обязательно поговорит с Холфордом. Скажет, что Джонни недостаточно добросовестен в работе и лучше ему нанять кого-нибудь еще – мало ли мальчишек в округе?
Миссис Гантер сложила вязанье в потертую сумку, предназначенную специально для продукции Вязального клуба, и пошла прочь из столовой. Надо вытереть пыль в кабинете, а потом подготовиться к уроку в воскресной школе.
Интересно, долго ли ее муж пробудет в церкви с леди Карсдейл? Что ж, будем надеяться, он сообразит хорошенько расспросить ее о планах на будущее.
Хотелось бы раньше всех прочих узнать, что она намерена делать и как долго собирается пробыть дома!
В церкви Мона долго стояла у беломраморной таблички, врезанной в серую стену у входа в склеп Вейлов.
Табличка в память о Неде была очень простой: на ней сообщалось лишь, что двадцати двух лет от роду баронет Эдвард Карсдейл погиб в результате несчастного случая.
Мона помнила, как потрясены были обе матери – и ее, и его, – когда она наотрез отказалась наносить на надгробие обычную надпись: «Покойся в мире».
Теперь она не понимала, почему так настаивала на своем. Не все ли равно, что написано о мертвом – будь то на могиле или на мемориальной доске?
Но в то время эти слова казались ей оскорблением Неда, злым издевательством над его отвагой и неуемной жаждой жизни.
«Что за чушь! – говорила она. – Нед хотел жить! Никогда он не желал ни мира, ни покоя! Он любил жизнь – для него жизнь была одним бесконечным приключением! Если там, на том свете, Неду еще что-то нужно – ему не нужен ни мир, ни спокойный сон: он и там хочет жить и рисковать собой».
Несмотря на протесты старшего поколения, Мона настояла на своем, и теперь на табличке не было никаких религиозных словес – лишь короткая надпись: «Новое приключение».
Теперь Мона удивлялась тогдашней силе собственных чувств. Прошло семь лет, и образ Неда сильно побледнел в ее памяти. Он напоминал ей смех – легкое, радостное чувство, захватывающее всех вокруг, но быстро проходящее и не оставляющее следа.
Нед Карсдейл сверкнул в ее жизни как метеор – и так же стремительно исчез. И те десять месяцев беспрерывной, лихорадочной погони за острыми ощущениями померкли и почти стерлись из памяти.
Мона вдруг сообразила, что Стенли Гантер ждет от нее одобрения.
– Очень мило, – мягко сказала она. – Мне очень нравится.
– Я так рад! – ответил он. – Боялся, что вы будете разочарованы.
– Нет-нет, я именно этого и хотела, – ответила Мона. – Просто, без претензий. Мне кажется, такими и должны быть мемориальные таблички. Как вам кажется?
– Мне нравится надпись, – сказал он. – Вначале она меня удивила. Не сразу я понял, как глубоки и истинны эти слова, но теперь все чаще ловлю себя на том, что жду смерти как приключения, как побега в новую, более глубокую и яркую жизнь.
Мона не выказала удивления, хотя немало поразилась тому, что человек, призванный проповедовать о Воскресении, ждет смерти как избавления. Однако это отвлекло ее мысли от нее самой и заставило задуматься о Стенли Гантере.
«Бедняга! Для него смерть – это побег! – думала она. – Побег от этой злобной твари – его жены, что, как паучиха, всю деревню опутала сетью своих мелких интриг и сплетен».
Мона взглянула на его усталое, изборожденное ранними морщинами лицо, на широкие плечи, согнутые словно под невидимым грузом.
– Мне кажется, совсем убежать от жизни невозможно, – мягко проговорила она. – Ведь от себя не убежишь. Но чем больше мы приближаемся к Богу, тем ярче становится все в нас и вокруг нас, верно? Наша телесная жизнь порой течет вяло и уныло – но, покинув тело, она чудесно преображается: не затухает, не превращается в сон и вечный покой, а, наоборот, обретает такую живость, полноту, такие краски и звуки, каких мы здесь и вообразить себе не можем!
Мона сама не понимала, почему произнесла эти слова; казалось, они пришли к ней откуда-то извне, и, только заговорив, она осознала их значение.
Стенли Гантер поднял глаза на цветные витражи церковных окон. Солнечный свет, проникая сквозь разноцветное стекло, изливался на ступени алтаря праздничной радугой.
Быть может, такова же и наша жизнь? Свет, нисходящий свыше, преломляется в наших душах и телах, принимает множество цветов и очертаний – и в конечном счете, как пламя свечи, нетленным возвращается назад, к Творцу?
– Так вот в чем наша ошибка! – произнес он тихо, словно про себя. – Мы не живем полной жизнью – так часто мы забываем о том, что жизнь… быть может, жизнь и есть Бог?
Мона не отвечала; вдохновение, охватившее ее несколько секунд назад, ее покинуло, она вновь углубилась в свои неотвязные мысли.
Ей предстояло найти ответ для самой себя – решить собственные проблемы, исцелить свое душевное горе.
Ответы на все вопросы давно известны, думала она; но знать – одно дело, применять к себе – совсем другое.
Отойдя от викария, который все еще рассеянно смотрел в окно, она опустилась на дубовую скамью с высокой спинкой – старинную, с самой постройки церкви, скамью Вейлов – и задумалась.
Уже очень давно она не обращалась с молитвами к Богу. Все эти годы стыд удерживал ее и мешал молиться.
Она знала, что грешит, однако была полна решимости не сворачивать с избранного пути; любовь была ей и извинением, и оправданием.
Но где-то в глубине души Мона никогда не забывала об укорах религии, в которой была воспитана.
«И что же, – думала она, – выходит, теперь я созрела, чтобы вернуться к Богу и просить прощения?»
Библия рисует Бога суровым и неумолимым; но на самом деле, думала Мона, у Него должно быть и добродушие, и чувство юмора. Как бы иначе Он терпел эти невыносимые создания – людей?
Взять хотя бы ее: пока был жив Лайонел – грешила вовсю, забыв и Бога, и Его учение, а теперь, когда искушение у нее отнято, надумала раскаяться и стать праведницей. Смех, да и только! Бедный Бог!
Мона преклонила колени, сложила руки и закрыла глаза – но вместо обычной молитвы обратилась к Богу с одной-единственной просьбой:
– Едва ли ты захочешь сжалиться надо мной, Господи, – и все же прошу: дай мне забыть Лайонела! Позволь не тосковать по нему так, как сейчас!
Даже такая малая просьба казалась ей чрезмерной, почти наглой, – ведь она просила милости у Бога, которым столько лет пренебрегала. Но быть может, думала она, он поймет ее и зачтет ей в заслугу – пусть и крохотную – то, что она признает свои грехи, хоть и не готова в них раскаяться.