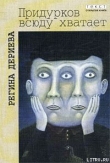Текст книги "Нецелованный странник. Повести и рассказы"
Автор книги: Аякко Стамм
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
VI (Глава заключительная, кое-что объясняющая, читать которую, впрочем, вовсе не обязательно)
– Здравия желаю, господин обер-полицмейстер. Разрешите войти?
– А, это ты, урядник, заходи, заходи. Слышал я, на участке твоём не всё благополучно, беспорядки какие-то. Ну-ка, расскажи поподробнее.
– Никак нет-с, господин обер-полицмейстер, никаких беспорядков-с, всё спокойно и благопристойно.
– Что ж, и пожара никакого не было?
– Так точно-с, пожар был, большой пожар, усадьба князя …ого сгорела. Вся дотла. Пожарные не подоспели, усадьба-то в лесу, далече от города.
– Так что ж она, сама сгорела? Вот так стояла себе и вдруг раз и сгорела, да?
– Никак нет-с, господин обер-полицмейстер, не сама. Поджёг-с.
– И кто же поджигатель? Нашли?
– Так точно, нашли-с. Сами старый князь и подожгли-с.
– Как это? Вот так сам взял и поджёг?
– Так точно-с, сам. Они, видите ли, ваше высокоблагородие, того-с, умом тронулись, вот и…
– Как так? Князь умом тронулся? Да ты что же такое говоришь, подлец?! Небось, пропьянствовали, истинных поджигателей проворонили, а на бедного князя всё свалили. Сам-то князь как, жив?
– Так точно-с, господин обер-полицмейстер, живы их сиятельство, только совсем плохи.
– И где он, что говорит?
– В сумасшедшем доме они, в губернии-с. Только ничего не говорят-с, плачут всё и дочку свою зовут. Надежду. Любят они её шибко.
– И что же она, вертихвостка, небось, бросила старого больного отца и подалась в столицу, в революцию играть? Модно это сейчас у них, молодых.
– Никак нет-с, ваше высокоблагородие, не бросила, не такая она.
– А-а-а, ну тогда хорошо, с отцом, значит?
– Никак нет-с.
– Так где же она?
– Нету её. Померла она.
– Как померла? Вот горе-то. При пожаре что ли?
– Никак нет-с, ещё до пожара. Погибла она. Странно так погибла, вроде раздавлена автомобилем.
– Как это «вроде»? Ты что, не знаешь точно, не ведаешь, каково у тебя на участке творится?!
– Никак нет-с, ваше высокоблагородие, знаю, и протокол даже имею, но….
– Что «но»? Не темни, докладывай чётко!
– Виноват, ваше высокоблагородие! Докладываю. Её обнаружили ранним утром, чуть рассвело, прямо на тракте, вблизи от дома. Характерные повреждения тела и следы на дороге прямо указывают на то, что она была раздавлена автомобилем. Но…
– Опять «но»! Что на этот раз?! Надеюсь, виновника нашли?
– Никак нет-с. Установить ни само авто, ни его владельца не удалось – скрылся в неизвестном направлении. Но это ещё не всё…
– Что ещё?
– Тело дочки князя пропало…
– Как пропало?
– Не могу знать, ваше высокоблагородие. Было, лежало на обочине совсем мёртвое с переломанными ногами и разбитым черепом, потом хватились, бац, а его нету.
– Ну и ужасы ты рассказываешь. Как это нету? Куда же оно подевалось?
– Не могу знать, ваше высокоблагородие.
– А кто может знать?! Может отец, князь то есть тело-то забрали? Справлялись у князя-то?
– Никак нет-с, ваше высокоблагородие. Князь никак не могли-с. Они сами, как узнали про то, от горя и того-с, умом тронулись. А потом в помешательстве взяли, дом-то и подожгли-с. Всё сгорело.
– Да-а. Вот история. Жаль князя. Ты говоришь, его сиятельство любил дочку очень, не обижал, значит, не тиранил.
– Так точно-с, ваше высокоблагородие, не забижали вовсе, души в ней не чаяли, всем прихотям её, всем желаниям потакать изволили, всё, что душе угодно-с. Но она, правду сказать, не балованная была, хорошая девочка, добродушная, отца почитала, слушалась его. Ангел, говорят, а не дочь.
– Так что же тогда случилось? Что понесло её ни свет, ни заря на тракт? И ведь не спится им, молодым.
– Любовь-с, будь она не ладна.
– Любовь? А ну-ка, Иваныч, садись, рассказывай всё по-порядку, всё, что знаешь.
– Чего ж тут рассказывать-то, ещё год тому, задумал князь портрет дочки своей, ну Нади этой, заказать-с. Вызвал из Москвы художника, тот приехал, портрет-то написал, но дочку-то того, обрюхатил, а сам вжиг и смылся, только его и видели-с. Князь хотел, было, искать его через полицию московскую, да дочка упросила. Говорит, любит его, он, дескать, вернётся, сам вернётся. Поначалу всё скрывали, а когда родила дочка-то, сынишку родила, вот, так всё и вскрылось. Слухи пошли, пересуды там всякие. Князь серчал шибко, да и решил-таки отыскать этого художника, а дочке ничего не сказал. Отыскали его в Москве, личность установили, место жительства, нагрянули по адресу, а его и след простыл.
– Сбежал что ли? Схоронился, значит?
– Никак нет-с. Уехал. Сел в авто накануне и уехал.
– Куда? Выяснили направление его движения? Напали на след?
– Так точно-с. Выяснили. Напали.
– Ну и куда он?
– Сюда.
– Как сюда? Так он здесь?
– Никак нет, ваше высокоблагородие. Нет его тут. А был ли, нет ли, не ведомо то. Только вскоре после того дочку-то и нашли-с мёртвой-с на дороге-с. А потом и вообще она пропала, мёртвая-то. Князь умом и тронулся, и дом-то свой запалил.
– Да-а. История. Бедный князь. А с мальчонкой-то как? Где он?
– Да Бог его знает, ваше высокоблагородие, сгорел, должно быть…. Кхе…. Только странно это как-то, тел-то не нашли, ни дочки, ни сынишки её, а больше в доме никого не было-с, всю прислугу князь отослал ещё до пожара.
– Так куда же они делись, не сквозь землю же провалились?
– Да нет, конечно, не провалились, но только не нашли их, всё пепелище по угольку перевернули, как в воду канули-с.
* * *
Старик ушёл в темноту ночи, буквально растворился в ней, растаял, так что последнее «Аякко» прозвучало уже из пустоты. Я стоял поражённый всем увиденным и услышанным за прошедший день и не знал, что делать дальше. «Иди в дом», – сказал старик. А где он этот дом, где его искать? Двадцать пять лет поисков ни к чему не привели, и вот так просто: «Иди в дом».
Я повернулся к машине, которую оставил неподалёку, на обочине дороги, и остолбенел. Передо мной возвышалась чёрная громада чугунных кованых ворот, тех самых, как двадцать пять лет назад. Я дотронулся дрожащей рукой до холодной шершавой поверхности и целый рой воспоминаний, даже не воспоминаний, а удивительно реальных, живых ощущений нахлынули на меня, как будто всё происходило не четверть века назад, а живёт, осуществляется прямо сейчас, в настоящее время, заставляя меня действовать, жить в унисон происходящему. Отворив тяжёлую калитку, я вошёл внутрь и направился по прямой, как стрела аллее парка, прямо к большому старому дому. Дубы-стражи провожали меня, салютуя огромными лапами-ветвями, высокие, стройные юноши-тополя в окружении берёз-невест желали удачи в моих поисках, а Луна, полногрудая владычица ночи красавица Луна, сопровождаемая сонмом преданных пажей-звезд, разбрызгивала свой удивительный, сказочный свет вокруг, так что весь парк, насколько я мог охватить его своим взором, сверкал мистическим серебром. Всё было, как тогда, не хватало только её, моей скрипачки, моей Нади.
Я вошёл в дом и тут же узнал его. Весело играл огонь в большом камине гостиной залы, освещая мягкие, уютные кресла, маленький прикаминный столик с непочатой бутылкой виски и двумя высокими бокалами. Откуда-то сверху доносилась музыка, до слёз знакомая, родная скрипичная мелодия. Поднявшись на второй этаж по знакомой лестнице, я прошёл по длинному коридору в направлении открытой настежь двери, из-за которой струился мягкий свет, и пела скрипка. Еле сдерживаясь от нетерпения, я вошёл в комнату и увидел большой, почти в человеческий рост холст с изображенной на нём прекрасной рыжеволосой девушкой, играющей на скрипке. Она была так прекрасна, а изображение настолько живым и реалистичным, что казалось, будто мелодия льётся прямо с её смычка. А может, всё действительно так и было. Боже мой, я не видел этого портрета двадцать пять лет, а он всё ещё свеж, как будто только что вышел из-под моей кисти. Я прикоснулся к шершавой поверхности холста, провёл рукой по её лицу, волосам, плечам, груди…. Слёзы сами собой лились из глаз, растворяя действительность, преломляя её, делая изображение живым, движущимся, дышащим, реанимируя давние события, воскрешая их….
Выйдя в коридор, я закрыл за собой дверь комнаты, музыка на время стихла. В ней не было больше надобности, она звучала в моём сердце. «Дедушка», – услышал я рядом, – почему ты не спишь?». Я оглянулся и увидел мальчика в ночной сорочке, стоящего босиком посреди длинного коридора. Он обращался ко мне: «Дедушка, ты ждёшь папу? Он сейчас приедет? Я увижу его?». Я взял мальчика на руки, отнёс в его маленькую спаленку и уложил в кроватку: «Нет, сынок, я просто закрыл дверь, чтобы ты не простудился от сквозняка. Спи, мой маленький, папа приедет позже, потом, скоро уже, ты обязательно с ним встретишься». Мальчик повернулся на бок, подсунул ладошку под пухленькую розовую щёчку: «Спокойной ночи, деда, ты разбуди меня, когда он приедет», – и засопел. «Спокойной ночи, сынок, спи, он придёт к тебе во сне… вместе с мамой».
Я зашёл ещё в свою комнату, в ту самую, где останавливался в ту ночь двадцать пять лет назад, но сейчас я не собирался спать. Я приготовил постель моему ночному гостю, который должен скоро приехать. Я уже знал это и ждал его, затем вышел на балкон. Огромная, в полнеба Луна, посеребрившая старый волшебный парк, протянула прямо к высокому обрывистому берегу озера светящуюся ковровую дорожку, по которой поднимались двое: юная рыжеволосая красавица со скрипкой в руке и седой сгорбленный годами ожидания старик. Они смотрели друг на друга молодыми влюблёнными глазами, они были счастливы, они вновь обрели друг друга, пронеся через долгие-долгие годы свою любовь. Я невольно позавидовал старику, он уже нашёл, дождался. Сколько ещё ждать мне?
Эх, Аякко, ты ещё так глуп, несмотря на свои пятьдесят лет и седеющие виски. Ты так и не понял, что нет в жизни ни вчера, ни завтра, есть только сегодня. Только сегодня, сейчас можно быть счастливым, можно любить и быть любимым. Вчера – бесконечные поиски, завтра – утомительные ожидания. Всё ради одного только Сегодня, которое никогда не заканчивается, которое всегда и везде, которое и есть Вечность. Старик это понял, поймёшь и ты. А пока – просторная гостиная зала, мягкие, уютные кресла, согретые нежным теплом камина, непочатая бутылка виски. Наступает Сегодня. Сейчас он приедет и постучит в дверь дома, сейчас ты увидишь его, промокшего, замёрзшего, и всё повторится сызнова. Вот он уже стучит в твою дверь, твой Аякко.
Путь мотылька
Прохожий
Жарким летним днём златоглавая столица государства Российского встречала своего нового архипастыря, только-только избранного и поставленного на опустевший православный престол.
А незадолго до этого, глубокой тёмной ночью, когда дневной зной нещадно палящего летнего солнца уже умерил безраздельное влияние на каменный город, и ночная прохлада сначала робко, но постепенно всё более и более обозначила своё присутствие на улицах и площадях, скверах и переулках столицы; когда дневная суета огромного мегаполиса сменилась ночной суетой, бессмысленной и жадной; когда на месте уснувшей для отдыха от трудов праведных Москвы созидающей, поднялась вдруг из самых тёмных и смердящих подвалов человеческой души Москва гулявая, Москва блудливая, обесценивающая всё ценное и оценивающая по сходной цене всё бесценное…
В общем, самой обычной московской ночью по остывающей булыжной брусчатке главной площади столицы от стен храма Казанской иконы Божьей Матери по направлению к Спасским воротам Кремля шёл прохожий с длинным, выше человеческого роста посохом в деснице и ветхой сумой за плечами.
Часы на Спасской башне пробили один раз, когда он остановился вдруг в самом центре площади, пригладил длинную седую бороду свободной левой рукой, перехватил ею посох из правой, снял с головы старую, поношенную скуфью44
Скуфья, скуфия (от греч. σκύφος, «чаша») – повседневный головной убор православных духовных лиц всех степеней и званий. Представляет собой небольшую круглую чёрную, мягко складывающуюся шапочку; складки надетой скуфьи образуют вокруг головы знамение креста.
[Закрыть] и засунул её за пояс. Наконец, повернувшись лицом к Василию Блаженному, произнёс чуть слышно: «Слава Тебе, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго», – трижды степенно и размашисто перекрестился и поклонился до земли.
– Стареет Москва. Однако, словно доброе вино, с годами только крепчает, – сказал прохожий, возвращая скуфью на прежнее место, и ещё раз приглаживая длинную седую бороду. – Ничто тебе нипочём. Ни звёзды антихристовы не умаляют красоты твоея, ни капище бесовское подле кремлёвской стены, так в велелепоте своей и склонишь главу пред лукавым. Пред татарином поганым да пред немчином латинянским устояла, а светильнику семиглавому, что из твоего же злата выкован, поклонишься, как послушная овца.
– Это кто же поганый? Какая овца? Перед каким таким светильником? А ну-ка предъяви документы, старик, – подошедший бугай в милицейской форме и с «калашниковым» через плечо цепким, как щупальца осьминога взглядом осматривал прохожего. – Прапорщик Малютин, патрульно-постовая служба. Документики предъявите.
Старик будто не слышал слов тех, будто не к нему обращался прапорщик. Он любовался Покровским собором. А ведь и есть чем полюбоваться, ни одна столица мира не имеет в себе подобного чуда. Лёгкое небесное облако, будто царь-птица могучим размахом своего крыла прикрывавшее полную луну, вдруг переместилось в сторону, предоставляя яркому свету беспрепятственно проливаться серебряным дождём на каменные стены и маковки. Неповторимые краски собора заиграли новой свежестью, будто не четыре с лишним столетия уж, а только-только лёгкая рука зодчего нанесла их причудливым, невиданным доселе узором. Внезапный лёгкий порыв ветра дунул с востока, подхватил невесомые страницы древней книги-истории, погнал их, листая в сторону противоположную времени, обращая в бытие небытие, омолаживая древние камни и колор. Симфония красок запела, заиграла над площадью. И не портили, не оттеняли красоты ея ни грязные, смердящие торговые ряды, густо облепившие собой старинную площадь, ни лобное место с окровавленной плахой и страшными орудиями казни вблизи собора, ни ряд виселиц вдоль всего Китай-города, ни почерневшие от дневного палящего солнца головы государевых преступников, отделённые от поруганных тел и водружённые на кольях для осмотрения зевакам да на страх и в назидание будущим мученикам. Даже стаи чёрных ворон, слетевшиеся сюда со всей округи полакомиться мертвечинкой среди ночной прохлады и тишины, не разбавляли своим траурным безцветием яркую палитру красок, а только взрывали ночное безмолвие пронзительным картавым карканьем.
– Эй, старик, ты что оглох? Или я не к тебе обращаюсь? Ты кто таков будешь, откудова и зачем пожаловал?
– Что тебе до меня, служивый? – прохожий ещё раз перекрестился, вернул посох в десницу и только тогда повернулся к вопрошавшему его опричнику. – Не старайся и рвением излишним не растрачивай силы своей – не будет тебе за голову мою награды. Веди к Государю, он ожидает меня.
И, сказав так, продолжил свой путь к Фроловским55
Фроловские ворота – ворота Фроловской башни – самой главной из 20 кремлёвских башен, называемой так до середины XVII века. Над этими воротами со стороны Красной площади с начала XVI века размещался образ Спаса Смоленского, а со стороны Кремля начиная с середины XVII века – образ Спаса Нерукотворного. В 1658 году Царь Алексей Михайлович издал указ переименовать Фроловские ворота в Спасские, а вместе с тем сменила название и башня.
[Закрыть] воротам Кремля.
– Как знать, старик, как знать, – проговорил еле слышно опричник, – может, когда и твоя голова окажется в моих руках, – и последовал за прохожим.
– Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя: Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих: яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши, внегда судити ти…66
Книга Псалмов Давидовых. Пятидесятый псалом.
[Закрыть]
Ночной мотылёк, лёгкая, невесомая бабочка-однодневка, порхая полупрозрачными крыльцами, медленно летела тёмными и холодными коридорами кремлёвского дворца в поисках света и тепла. Следуя всем изгибам и поворотам низких и узких проходов, поднимаясь вверх над крутыми каменными ступенями, безошибочно ориентируясь на распутьях разветвлённых ходов, повинуясь только врождённому инстинкту, позволяющему сквозь толщи холодных каменных стен почувствовать крохотный мерцающий источник тёплого живого света и определить кратчайший путь до него.
– …Се бо в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие, возрадуются кости смиренныя….
Тысячи тысяч поколений таких же мотыльков-однодневок лишь только зайдёт солнце, и плотный мрак окутает землю словно мягкой непроницаемой ватой вездесущими холодными щупальцами ночной прохлады, начинают свой жизненный путь от тьмы к свету. Путь краткий, но трудный и полный подстерегающих отовсюду угроз и опасностей, внезапно обрывающийся с первыми лучами грядущего небесного светила. Наивно кажущаяся бесконечной дистанция длиною в целую жизнь, целью которой был, есть и будет крохотный, едва уловимый в ночном мраке, слабо мерцающий огонёк. К нему тысячи лет еженощно стремятся мириады поколений мотыльков, чтобы, достигнув цели, обозначить приближение грядущего. И исполнив предначертанное, предать себя в жертву нарождающейся жизни, опаляя невесомые крыльца и сгорая дотла в неугасаемом пламени мерцающего огонька Истины. Покуда не настал ещё великий день, и огромное, беспредельное по силе своего сияния светило не уничтожило тьму и не восстановило некогда прерванное ночным мраком, невиданное ни одним ещё мотыльком светлое вечное сегодня.
– …Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом владычним утверди мя….
Слабый, крохотный огонёк, отражаясь от чудотворного образа Спаса Нерукотворного, преломляясь, играя глубокими, насыщенными цветами старинных нетускнеющих красок, искусно составленных и положенных духоведённою рукой древнего мастера, освещал в неравной борьбе отвоёванное у ночного мрака пространство огромной каменной залы кремлёвского дворца. Это тот тёплый свет, чудесно родившийся в Кувуклии77
Куву́клия (греч. Κουβούκλιον – «покой, опочивальня», лат. Cubiculum) – это небольшая (6 х 8 м) купольная часовня желто-розового мрамора в центре Ротонды Храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Она заключает в себе Гроб Господень и придел Ангела. Первая Кувуклия была построена при императоре Константине Великом в 325 335 годах и была полностью разрушена мусульманами в 1009 году. Вторично Кувуклию отстроил в 1042 1048 годах византийский император Константин Мономах, затем в XII веке её обновили крестоносцы. В 1555 году Кувуклию перестроил францисканец Бонифаций Рагузский и она простояла до 1808 года, когда была уничтожена опустошительным пожаром. Существующая Кувуклия восстановлена в 1809 1810 годах по проекту греческого архитектора Николая Комина (Κομιανός, 1770–1821) из Митилини. Впоследствии она пострадала при землетрясении 1927 года и сегодня укреплена снаружи с боков стальными балками и стяжками. Благода́тный ого́нь или Свято́й Свет (греч. Άγιο Φως) – огонь, выносимый из Гроба Господня на специальном богослужении, совершающемся в Великую субботу, накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Вынос Святого Света символизирует выход из Гроба Света Истинного, то есть воскресшего Иисуса Христа. Митрополит Кесарии Каппадокийской Арефа писал в начале X века в послании к эмиру Дамасскому: «Эмир Иерусалима стоит около Святого гроба при запечатанном им же самим входе, а христиане стоят вне храма Святого Воскресения и восклицают „Господи, помилуй“. Тогда внезапно является молния и кандила возжигаются; от этого света берут все обитатели Иерусалима и зажигают огонь».
[Закрыть] по воле и мудрому замыслу Создателя, он самый, привезённый из далёкого-предалёкого Иерусалима много-много лет назад, с тех пор бережно поддерживался и хранился в неугасимой серебряной лампадке. Всё оживало в тёплом, мерцающем свете – и низкий сводчатый потолок, и украшенные старинными росписями холодные стены, и каменные плиты пола, гладко отполированные ступнями многих поколений, в течение нескольких веков населяющих дворец. И не просто оживало, но, казалось, могло рассказать невольному слушателю множество интересных и загадочных историй, приоткрыть завесу многих тайн, единственными существующими ныне свидетелями которых являлись эти камни.
– …Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивыи к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего: возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста мои возвестят хвалу Твою….
На освещённом слабым светом лампадки пятачке пред образом Спаса на коленях стоял человек. Его худая, измождённая постами и бдениями фигура отбрасывала огромную, несоответствующую его размерам тень, оставляя во мраке бОльшую часть залы. И только когда человек клал земные поклоны, тень уменьшалась, становясь маленькой, совсем ничтожной, открывая доступ живому свету к самым дальним уголкам помещения. Но как только фигура вновь поднималась, обращая свой взор к образу Спаса, тень тут же росла, увеличивалась, умножалась и вновь покрывала собой огромное пространство. Человек молился. Его некогда красивое, но высохшее от времени и забот лицо – впалые щёки, выдающиеся, острые скулы и нос, большой, изборождённый морщинами умный лоб, тусклые, мокрые от слёз глаза выражали нечеловеческую муку и скорбь. А губы упрямо твердили:
– …Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит: Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона и да созиждутся стены иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая: тогда возложат на алтарь Твой тельцы.
Губы сомкнулись, голос стих, утонув в непримиримой борьбе света и тени. И только глаза – живые, мокрые от слёз глаза продолжали молитву, жадно впиваясь в образ, пытаясь сквозь густой, непроницаемый для обычного человеческого взгляда слой краски отыскать свет, жизнь, мудрость и любовь. Силясь в неудержимом стремлении охватить необъятное, понять неподвластное никакому разуму, услышать непроизносимое и, отразившись от непробиваемой твердыни мёртвого дерева, вернуться назад через полные слёз глаза в недосягаемые глубины души человеческой горячею живою верою.
– Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго, – прошептали ещё уста. А тело, неподвластное больше воле, но всецело подчинённое только сердечной боли покаяния, крестообразно раскинув руки, пало ниц пред образом на холодные плиты пола, орошая камень горячими, как пламя неугасимого огня, слезами.
Еле слышный шорох неожиданно проник в залу и, облетев на лёгких крыльях всё помещение, неоднократно отразившись от стен и сводчатого потолка, остановился, затих, наконец, в напряжённом сознании молящегося. Он встал, перекрестился на образ ещё раз и, взяв в руку тоненькую свечечку, подошёл к лампадке.
– Ну что, Малюта, пришёл? Входи уж, чего топчешься за портьерой?
Тяжёлая ткань, скрывающая за собой вход в помещение, слегка раздвинулась, и в щель просунулась круглая как бильярдный шар, бородатая, но с обширной лоснящейся лысиной в обрамлении жиденьких всклокоченных волос, сладко улыбающаяся во все зубы голова.
– Не вели казнить, Великий Государь, – произнесла голова, вплывая во внутреннее пространство залы и втаскивая за собой такое же круглое тело. Мягко ступая по каменным плитам пола и беспрерывно поправляя висевшую на поясе внушительных размеров татарскую саблю, тело неуверенно, то делая два больших шага вперёд, будто переступая невидимые лужи, то останавливаясь и переминаясь с ноги на ногу, то отступая назад и неожиданно снова два больших шага вперёд, проследовало вглубь помещения.
– Вели доложить.
– Что у тебя ещё стряслось? Пришиб что ли кого опять ненароком, али изменой коварной снова стращать нас удумал? – человек, называемый Великим Государем, запалил от лампадки свечечку и обернулся к вошедшему.
– Что ты, Царь-батюшка, нешто я злыдень какой, нешто от меня токмо зло одно? Служу твоему величеству аки верный пёс, живота своего не жалеючи, а всё в злодеях числюсь. Али я нехристь какой?
– Так что ж православным тебя величать, Малютушка? Ты почто со всех дворов московских баб-молодух да девок собрал? На что они тебе? Думал, не знаю?
– Дык эта… не всех жа ж… токмо самых, что ни есть наилучших.
– Да? Не всех, говоришь? Ну, это другое дело, это конечно по-христиански, – саркастически молвил Государь и с еле-еле горящей свечечкой в руке, бережно охраняя слабый, едва дышащий огонёк ладонью, осторожно отошёл в сторону от ярко освещённого светом лампадки образа и запалил другую, стоящую поодаль на высоком подсвечнике свечу. Затем, также бережно неся трепещущий огонёчек, отошёл ещё на несколько шагов и запалил третью. – А эти тебе зачем понадобились? Дружину из баб собрать удумал?
– Да что ты, Государь, кака ж с баб дружина? Баба – она и есть баба, она известно дело для чего надобна. Ноне ж Иван Купала, вот я для твоей милости, значить, и расстарался.
Царь молчал, как бы не слушая вошедшего, всецело увлечённый своим занятием. Постепенно один за другим, точно следуя его перемещениям, в тёмном пространстве залы рождались всё новые и новые огоньки, словно ночные светляки, оживляя своим слабым светом мёртвое царство ночи и рассеивая плотную пелену мрака живым, тёплым сиянием. А когда маленьких огоньков стало достаточно много, и всё помещение осветилось пусть неярким, но ровным светом, взору Государя предстали несколько, около десятка, простоволосых, обнажённых женских фигур, стоящих в ряд вдоль дальней стены и дрожащих мелкой болезненной дрожью, не то от ночной прохлады, не то от страха.
Внезапно ударил бубен, разбивая вдребезги едва устоявшуюся тишину ночи, – и строй обнажённых красавиц неуверенно, стесняясь каждого своего движения, тронулся с места. Плавно и синхронно, словно связанные невидимой нитью в одно целое тела проплыли по всему пространству большой залы, в точности повторяя путь светлячков, только-только оживлённых горячим сиянием неугасимого огня лампадки, и сомкнулись, наконец, правильным кольцом вокруг Государя.
– Ой, ты, Пронюшка-Паранья, ты за что любишь Ивана? – зазвучал вдруг неуверенный и слабенький, но чистый девичий голосок. – Я за то люблю Ивана, что головушка кудрява, – постепенно голосок креп, обретая уверенность и силу. И вскоре всё убранство помещения и даже сами стены завибрировали, задрожали в унисон сладкозвучному, удивительной красоты и силы девичьему голосу. – Я за то люблю Ивана, что головушка кудрява, что головушка кудрява, а бородушка кучерява.
С десяток новых, не менее чистых голосов, осмелев, подхватили, образуя стройный и слаженный хор. Тела поплыли в хороводе, сначала медленно и плавно, но постепенно убыстряя темп, украшая свои движения новыми па. Сила чистых девичьих голосов неуклонно росла, постепенно заполняя песней помещения кремлёвского дворца. Темп вырос настолько, что даже внутреннее убранство залы, огни, тени, сам воздух, до предела насыщенный звучанием песни – всё вокруг смешалось, закружилось в сумасшедшем ритме танца. А тела – юные, прекрасные девичьи тела, ещё недавно так трогательно застенчивые и смущённые своей доступностью, поддавшись общему сумасшествию и неистовству животной стихии, выделывали такие откровенные движения, что козлоногий Фавн изумился бы столь богатой изобретательности русских дев и непременно прискакал бы, цокая копытами, из своего болота на этот праздник плоти. Если бы не строгий взгляд, молча взирающий с ярко освещённого пламенем лампадки образа Спаса.
Наконец всё стихло. Утомлённые неистовством танца, обнажённые девичьи фигуры, разметав в стороны длинные густые волосы и приняв разнообразные, неестественные для целомудрия позы, как без чувств лежали на холодном каменном полу, образуя собой правильный круг, в центре которого с крохотным огарочком свечи в руке стоял грозный Царь и Великий Князь всея Великия, Малыя и Белыя России.
Он медленно подошёл к одной – совсем ещё юной девочке, той самой, которая нежным, слабеньким голоском запела первой, и склонившись над ней, осветил её лицо огарком свечи. Та открыла глаза, вздрогнула испуганно и отпрянула назад, инстинктивно сжимая колени, прикрывая юную грудь дрожащими руками.
– Кто ты, дочка? Как звать тебя? – спросил Государь тихим голосом.
– Я? Я… Настенька, – она вся дрожала от страха и трепетала, как мотылёк над пламенем свечи. А глаза, большие зелёные глаза готовы были вот-вот разразиться горючими слезами стыда и отчаяния.
– Не бойся меня, дочка. Скажи, как ты тут оказалась? – повторил Царь свой вопрос.
– Я… Я… Ба-батюшка… велел… за ради твоей, Государь, милости…, – и она разрыдалась, как маленький ребёнок, у которого отняли самое дорогое.
– Успокойся, дитя моё, ничего с тобой не случится, и никто тебя не тронет, – Царь нежно погладил её по голове. – Иди домой. Иди, сердешная.
Он встал во весь свой могучий рост. Так что отбрасываемая им тень рассекла надвое пространство залы и упёрлась заострённой макушкой в неподвижно стоящего у входа человека с круглой, как бильярдный шар головой и с обширной лоснящейся лысиной.
– Идите все. Идите домой, оставьте меня.
Девичьи тела вспорхнули как мотыльки и лёгкой стайкой в мгновение ока вылетели из царских покоев.
– Малютушка, а ты куда? Ты останься, дорогой, ты мне ещё нужен… сучий пёс. А ну, подь сюда, – произнёс Государь вкрадчиво тихим, даже ласковым голосом, не оставляющим опытному царедворцу никаких сомнений в том, что вскоре грянет буря.
Малюта Скуратов мягко ступая по каменным плитам пола и беспрерывно кланяясь, то делая два больших шага вперёд, будто переступая невидимые лужи, то останавливаясь и переминаясь с ноги на ногу, то отступая назад и, неожиданно, снова два больших шага вперёд, проследовал вглубь помещения.
– Поди, поди сюда, голубь мой… поближе… я те скажу кое-что по секрету, – Царь смотрел хитрыми глазами на своего любимца и улыбался простой добродушной улыбкой.
Неожиданно взгляд Царя переменился, улыбка исчезла, а сухая, но сильная рука, вцепившись всей пятернёй в густую бороду опричника, притянула круглую голову фаворита вплотную к сверкающим гневом глазам самодержавного повелителя. – Ах ты сучий потрох… ишь чего удумал… в ад собрался, и меня за собой тащишь!
– Да что ты… что ты, Государь… разе ж я могу… разе ж я посмел бы, – залепетал хитрый, но насмерть перепуганный фаворит. – Они ж сами… сами, Государь… я токмо, чтоб душеньке твоей подсластить… аки раб… низкий раб,… а это сами… сами они…
– Кто сами? Девки сами пришли?! Врёшь, с-с-собака!
– Сами… сами, Государь… ей Богу сами…
– Богом клянёшься, сучий выкормыш?! Язычник поганый! Шкуру живьём спущу!!!
– Не вели казнить, Великий Государь! Не виновный я… а преданный тебе всем животом своим раб. Сами они, Государь, сами… но не девки, конечно… это бояре… бояре, которые в немилости у тебя… они подлые дочерей своих прислали, дабы ублажить тя, батюшка, а через то снова в милость войти… А я что? Я раб… раб твой до гробовой доски.
– Бояре, говоришь? – Царь отпустил бороду и отстранённо посмотрел в сторону. – Значит чуют за собой грех смертный, раз дочерей родных не пожалели и на поругание извергу ненавистному предали, – проговорил он уже спокойно и задумчиво. – Боятся за шкуры свои… боятся изменники.
– Точно так… точно так, Великий Государь… батюшка… А я что? Я ничто… Я раб, пёс верный и преданный тебе всецело всем животом моим…
– Ладно, не скули уж, Малютушка, – голос Царя был снова ласковый и добрый, словно медовая патока. – Иди тоже, ступай себе с Богом, а я вот подремлю малость.
– Человек к тебе, Государь. Говорит, ждёшь ты его, – Малюта снова был всесильным царедворцем, фаворитом грозного Царя, как будто страшная, смертельная в своём буйстве гроза не изрыгала только что громы и молнии над его дублёной, но всё ж тленной шкурой.
– Человек, говоришь? И кто ж таков? – Иоанн уже отошёл от Малюты и снова молился пред образом.
– Так кто ж его ведает? Старик какой-то, прохожий, вроде как чернец. Утверждает, ждёшь ты его.
– Старик? Монах, говоришь? – грозный владыка замер, задумавшись. Постоял какое-то время недвижно… и вдруг, обратившись к образу Спаса, неслышно, одними губами произнёс, – Хвали душе моя Господа: Восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, дондеже есмь88
Книга Псалмов Давидовых. Псалом 145-й
[Закрыть], – затем, поклонившись трижды до земли, отошёл от образа к окну, залитому серебряным светом полной луны, слегка разбавленным несмелым сиянием занимающейся уже зари, и замер.