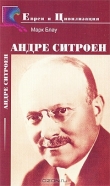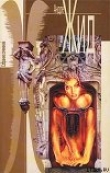Текст книги "Всемирный следопыт, 1927 № 07"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Николай Лебедев
Жанры:
Газеты и журналы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
– Вначале все было против меня, – рассказывает Линдберг. – В ночь с 19 на 20 мая стояла самая неблагоприятная для полета погода. Весь день, не переставая, шел дождь, и Рузвельтовское поле, окутанное густым туманом, походило на тонкое болото. На аэродроме, у большого ангара, в котором находился мой моноплан, собралась толпа человек в пятьсот. Дождь разогнал любопытных. Остались лишь люди, близкие к авиации.
Меня очень тронуло, что перед самым моим отправлением прилетел командор Чарльз Бэрд на своем огромном Фоккере, готовившемся к такому же перелету. С ним прибыл его летчик Акоста и капитан Новилл. Прилетел и Чемберлин, собиравшийся лететь вслед за мной в Европу и, как известно, блестяще побивший мой рекорд на дальность. Они искренне желали мне успеха, но опасались, что я, непременно усну в дороге, не выдержав 34-часового перелета без отдыха.
Никто из них не верил в силу моего противосонного средства. А между тем оно было очень несложно: попросту я совершенно, укрылся от ветра – и только…
Взял я с собой 451 галлон бензина, то-есть на 145 галлонов больше, чем запасался обычно, и 20 галлонов масла. Таким образом, я был вполне обеспечен для полета в радиусе 7.700 км, – конечно, при условии благоприятной погоды. До Парижа мне нужно было сделать 3.600 миль (около 6.300 км). Зато вес моноплана значительно увеличился, что и сказалось в момент отрыва его от земли. Грязь на Рузвельтовском поле сильно мешала разбегу. Впереди находился знаменитый овраг, в который в прошлом году свалился Функ на аэроплане Сикорского, при чем вместе с аппаратом сгорели два авиатора. Здесь же, неподалеку от меня виднелся памятник этим летчикам, погибшим при попытке перелететь через Атлантику. Он имеет вид пропеллера с согнутой лопастью. Правда, это на меня не производило сильного впечатления, но все же мысль об участи аппарата Сикорского и погибших товарищей упорно не выходила из головы. А тут еще мой моноплан не бежал, а буквально «ерзал» по вязкому аэродрому.
Приходилось менять направление и напрягать все усилия, чтобы оторвать его от земли.
«Дух Сан-Луи» уже перешел «линию безопасности». Несмотря на темноту, я ясно различал видневшиеся впереди деревья. Повидимому, приходилось возвращаться назад и снова повторить разбег.
Вдруг моноплан сделал прыжок… затем снова отделился от земли, пролетел немного– и опять его колеса начали бороздить вязкую грязь, но уже только слегка касаясь земли. Положение становилось опасным. Но еще усилие – и «Дух Сан-Луи» начал плавно подниматься в воздух и забирать высоту. Я взглянул на хронометр. Было 7 ч. 55 м. утра…
Над океаном.
Туман только местами держался на побережья и постепенно рассеивался. Об этом я был предупрежден до начала полета.
Мой моноплан отличался особым качеством – быстро забирать высоту. Это впоследствии оказало мне большую службу в пути. Очутившись за пределами Нью-Йорка, я уменьшил на четверть скорость оборотов мотора, и таким темпом он работал у меня за все время полета. Только три раза я увеличивал его скорость, когда был вынужден быстро забирать высоту.
Я пролетел над Род-Айландом, юго-западной частью штата Массачусетса, над проливом Лонг-Айланд, пролетел через Массачусетский залив у Сунтдата, и оттуда пошел на север. Мне предстояло покрыть 200 миль водного пространства по пути к Нью-Фаундленду…
Погода на редкость благоприятствовала. Иногда проглядывало солнце. Здесь это большая редкость. По пути к Нью-Фаундленду, обыкновенно, царит непогода, и колебания магнитной стрелки чрезвычайно неравномерны. Но вот и Нью-Фаундленд остался позади. Я несся над океаном, прорезая туман, через который сквозили плывшие огромные айсберги. От этих пловучих ледяных скал несло таким холодом, что пришлось прибегнуть к имевшимся при мне грелкам.
Вскоре началась непогода. «Дух Сан-Луи» был окутан непроглядной тьмой. Сначала полил дождь, затем повалил вперемежку с ним снег. Разразился страшный шторм, уйти от которого, казалось, было невозможно. Я спускался почти к самой воде, быстро забирал высоту, бросался из одной стороны в другую – все напрасно. В одном месте меня обдало страшным градом.
«Ну, теперь конец!» – мелькнуло в моем мозгу…
Град – самое ужасное бедствие для авиатора. В несколько минут он покрывает крылья, хвост – все поверхности аэроплана, образуя на них тяжелые глыбы льда, и если авиатору не удастся через несколько же секунд уйти от этого ужаса, то аэроплан неизбежно грянете я вниз. К счастью, град застиг меня на значительной высоте. Способность моего моноплана к молниеносному подъему на этот раз спасла меня от гибели. В одно мгновение я был вынесен из градового потока и очутился над ним. Но и здесь, на высоте почти 3.000 метров свирепствовала буря.
«Назад» – мелькнула у меня мысль. «Нет» – твердил рассудок. Назад или вперед– при такой погоде не играет роли… И я продолжал свой путь вперед.
Между Нью-Фаундлендом и Ирландией– почти 3.500 км. Это расстояние необходимо было пролететь во что бы то ни стало, так как о вынужденном спуске не могло быть и речи, – спуск в океан означал верную гибель.
Счастливо избежав град, я невольно думал о трагической судьбе Нунгессера и Коли. Я пришел к убеждению, что причиной их гибели был именно град. Он, должно быть, застал погибших товарищей на незначительной высоте, и они не имели времени быстро подняться…

Маршрут первого перелета из Америки в Европу на аэроплане
Летел я над водой со скоростью 175 км в час, подумывая об экономии горючего, чрезмерный расход которого при непогоде или встречном ветре мог повлечь вынужденный спуск в Ирландии. Полет на длинные расстояния зависит от искусного комбинирования скоростей – для быстроты и экономии в бензине. Летчику приходится отыскивать ту золотую середину, которая даст аппарату возможность пролететь наибольшее расстояние при расходе данного количества топлива.
«Только бы пролететь Ирландию, а от нее до Парижа – немного больше тысячи километров» – думал я… За мотор уже не беспокоился: он работал точно, как часы.
Среди ночного мрака я иногда замечал огни идущих в океане судов. Чувствовал я себя вполне бодро.
Сон совершенно меня не одолевал.
Я не испытывал голода и только сделал глотка два воды.
Начало светать. Буря оставалась позади. Подул попутный ветер. Если мотор не сдаст, то – я не сомневался в этом – Париж будет обеспечен!
Европа!..
Около часу пополудни ясно обрисовались очертания ирландских берегов. Трудно передать те ощущения, которые я испытывал в эти минуты, – их не перескажешь, их надо пережить самому, чтобы понять. Земля для моряка – это одно, а для авиатора, летящего через океан, – это совсем, совсем другое…
После нескольких минут охватившего меня волнения я успокоился и впервые почувствовал голод. Один бутерброд совершенно меня насытил. Запив его глотком воды, я снова впился глазами в компас и карту, иногда окидывая взглядом расстилавшуюся подо мной гористую Ирландию. Я теперь значительно снизился и летел на высоте, позволявшей видеть меня с земли. Это, кажется, было между четвертым и началом пятого часа – не помню хорошенько.

Пилот Чарльз Линдберг – первый, связавший гигантским воздушным прыжком материки Нового и Старого Света.
Но вот и блестящие берега Англии. Я очень низко проношусь над ее бархатно-зелеными полями. Темнеет. Один за другим мелькают города с красными крышами, деревьями и бесконечным числом фабричных труб.
Над Ла-Маншом я снова забираю высоту, а к западу от Шербурга опять снижаюсь. Тихая звездная ночь. На горизонте светятся сильные прожектора. По небу ходят их белые длинные лучи, словно щупальцы неведомого гигантского чудовища.
Прожекторы, повидимому, искали «Дух Сан-Луи», но ни один из них его не нащупал. Мой хронометр показывал 9 часов. В воздухе взлетели ракеты с аэродрома Ле-Бурже, на котором были зажжены сигнальные огни. Этот аэродром расположен к востоку от Парижа, а мне ошибочно объяснили, что он расположен на северо-западной его стороне. Я никогда не бывал во Франции. Это был мой первый визит в Европу, а потому ориентироваться при полете над ней было нелегко.
Между тем, французские друзья приняли все меры к тому, чтобы облегчить мой перелет над территорией Франции.
Облетая вокруг Парижа, я заметил большой аэродром. Он был так сильно залит ярким светом, что я понял, что это и есть тот самый Ле-Бурже, на который мне предстояло спуститься. Я выключил мотор и благополучно спустился на землю при громких криках массы, такой многочисленной, какой мне еще не приходилось видеть в Америке…
После 34-часового полета, я, конечно, очень устал, и, когда меня вытащили из моноплана и понесли на руках, я едва отдавал себе отчет в том, что со мной творится.
Кто и каким образом «спас» меня от приветствий возбужденной толпы – я узнал лишь из рассказов моих товарищей… После длительного полуобморочного-полусонного состояния, я нашел себя в незнакомой комнате, в компании членов Союза французских авиаторов, и был очень доволен, когда гостеприимные хозяева, по совету врача, предложили мне молока. Оно сразу утолило голод и жажду и придало бодрость и силу. Через час я уже говорил по радиотелефону с матерью. Нашим мечтам суждено было осуществиться…
В общем, могу совершенно искренно заявить, что, за исключением пережитых часов бури, весь мой перелет был не из Трудных. Одну треть пути меня сопровождал попутный ветер. В резервуарах осталось столько бензина, что я мог бы свободно сделать еще тысячу миль. И если в океане будут устроены пловучие станции для спуска аэропланов, то установление коммерческого воздушного сообщения между двумя континентами явится вполне осуществимым.
Как его встретили…
Редко когда Париж переживал подобное тому, что происходило в памятную ночь на 22 мая.
Еще днем к городу Ле-Бурже сплошной стеной тянулись автомобили, мотоциклетки и велосипедисты, а по сторонам дороги шли пешеходы.
На аэродроме собралась такая огромная толпа любопытных, что 300 полицейских и целый авиационный полк едва сдерживали натиск массы, когда «Дух Сан-Луи» в ярком свете прожекторов, словно белый лебедь, плавно спустился на землю.
Толпе, прорвавшей цепь полицейских и солдат, все же удалось добраться до аэроплана. Но она опоздала. Несколько французских авиаторов уже успели вынести Линдберга и укрыть его от восторгов разбушевавшихся парижан.
Расходившимся людям надо было на ком-нибудь излить свое бурное восхищение. Вблизи моноплана Линдберга толпе подвернулся, молодой американец-авиатор, пришедший, наряду со всеми, приветствовать отважного летчика. «Да здравствует Линдберг!» – воскликнул кто-то, – и в один миг молодой американец взлетел над головами толпы. Долго он переходил из рук в руки, не раз подбрасывали его в воздух и снова несли на руках.
Несчастный всеми силами старался отделаться от восторгов все увеличивающейся толпы. Он клялся, что он не Линдберг, что он такой же почитатель отважного авиатора, как и они. Ему не верили.
Толпа бросила свою жертву только тогда, когда стало известно, что настоящий Линдберг будто бы скрывается в доме коменданта аэродрома. Бросились туда и устроили шумную овацию. Но и там Линдберга не оказалось. Долго еще бушевали парижане, пока не утомились – и, наконец, стали расходиться по домам.
Еще накануне неизвестный никому молодой авиатор – в один день стал мировой знаменитостью!..
Одна кинематографическая фирма просила Ливдберга засняться для специальной фильмы, предлагая ему 1.000.000 долларов. К чести молодого летчика надо сказать, что он от этого решительно отказался. Он отказался и от золотого кубка стоимостью 150.000 долларов, прося передать эти деньги в пользу семей погибших авиаторов. Вообще, Линдберг держит себя скромно и, невидимому, не поддается растлевающему вниманию буржуазии, стремящейся превратить его в символ своей силы и славы…
Буржуазия капиталистических стран смотрит на достижение Линдберга – как на новое средство, которым в первую очередь воспользуется военная техника для своих истребительских целей. Об этом уж заговорила западная печать…
Но рабочий класс также с восторгом приветствовал победителя. В его достижении он видит новую эпоху развития мировой техники, с чем непосредственно связаны интересы всех трудящихся и грядущей социальной революции…
В то время, когда шло торжественное чествование Линдберга в Париже и в Лондоне—4 июня, в 6 часов утра, на моноплане «Колумбия», с того же Рузвельтовского поля в Нью-Йорке, вылетел другой американский летчик – Кларенс Чемберлин. Он тоже решился «прыгнуть» через Атлантический океан – из Нью-Йорка в Берлин.
Летел Чемберлин с феноменальной скоростью.
До Берлина, однако, Чемберлину долететь не удалось, – у летчика нехватило бензину, и он спустился в Эйслебене, в 160 километрах от Берлина.
Пополнив запас бензина, Чемберлин продолжал свой полет, но вторично был вынужден спуститься в болоте вблизи Коттбуса, не долетев до Берлина 15 километров. У него сломался пропеллер.
Чемберлин летел о пассажиром и совершил перелет в 6.500 километров в 43 часа.
Несмотря на ряд неудач, он все же перелетел Атлантику, всю Францию и половину Германии. Таким образом, формально он на много побил рекорд, поставленный Линдбергом, и в настоящее время является мировым чемпионом на дальность и продолжительность безостановочного полета.
Но Чемберлин, несомненно, должен уступить пальму первенства Линдбергу. Прежде всего Линдберг летел один, подвергая в этом случае свою жизнь большему риску, чем Чемберлин. Во-вторых, Линдберг точно выполнил задание, и, достигнув конечного пункта полета, летчик мог похвастать большим запасом бензина. Прибыл он в Париж без всяких аварий. И, наконец, первым совершил этот гигантский прыжок через Атлантику.
Так или иначе, оба отважные летчика сыграли огромную роль в истории развития международной авиации.
Заслуга их заключается, главным образом, в том, что они дали сильный толчок авиационной технике, доказав на деле возможность перелета аппаратов тяжелей воздуха через Атлантический океан.
Между тем, в практическом смысле, оба эти перелета не дали ничего, чтобы убедиться в возможности установления пассажирского и коммерческого сообщения между континентами Европы и Америки. Необходимо, чтобы подобные перелеты совершили большие самолеты. А подобных опытов пока сделано не было. Гигант Сикорского, на котором должен был лететь Функ, сгорел. Когда будет готов к полету строющийся вместо него другой самолет – неизвестно.
Если такой полет завершится удачей – тогда уже можно будет считать, что путь для воздушного сообщения между Старым и Новым Светом установлен прочно. А пока перелеты через Атлантический океан на маленьких самолетах имеют лишь чисто спортивный характер, – это «прыжки».
Но первый прыжок – был поистине прыжком героя…

ПУТЕШЕСТВИЯ И ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
ЗАГАДКА ПОЛЮСОИСКАТЕЛЯ АНДРЕ.
(По поводу 30-летия его гибели).
После неудачного плавания Нансена на северный полюс, стало ясно, что на корабле достичь полюса нельзя, и тогда зародилась новая смелая идея – отправиться на полюс на воздушном шаре. Эта мысль пришла 30 лет назад шведскому воздухоплавателю Соломону-Августу Андре.
Охваченной этой идеей, Андре энергично принялся за ее осуществление. Он представил шведской Академии Наук детально разработанный план, и для экспедиции были собраны необходимые средства. По чертежам Андре на заводе Ляшамбр был построен из тройной шелковой тафты воздушный шар, вместимостью в 4 500 куб. метров.
Шар со всеми припасами был отвезен летом 1896 г. на Шпицберген, откуда Андре и думал начать путешествие. Но летом 1896 г. полет по многим причинам не состоялся и был отложен до 1897 г.
В мае 1897 г. Андре вместе с двумя спутниками– Стринбергом, молодым шведским ученым, и Френкелем – студентом-фотографом, отправились на Шпицберген. Для передачи сообщений с аэростата они взяли с собой несколько почтовых голубей и двенадцать пробковых буйков (поплавков), внутри которых были устроены непроницаемые камеры для писем. Буйки, окрашенные в желтый и красный цвета, должны были издалека бросаться в глаза на поверхности моря и льда.
Андре захватил провизии на четыре месяца, складную брезентовую лодку, лыжи и сани. Общая грузоподъемность шара была 1 700 килограмм. Шар при нормальных условиях мог продержаться в воздухе от 30 до 35 дней. За это время Андре надеялся добраться до обитаемых мест Сибири или Америки.
11 июля 1897 г. все приготовления были закончены, и в этот день, при благоприятном южном ветре, шар поднялся на воздух, унося в неизвестную даль троих смельчаков.
Первоначально шар направился прямо на север. Он летел со скоростью 30 километров в час. Через несколько минут шар исчез в голубом просторе северного неба.

Шар Андре через минуту после подъема.
Полет Андре на полюс открыл новую страницу в истории завоевания земли: отныне человечество для открытия новых земель и исследования неведомых стран к прежним средствам присоединило новое – воздухоплавание.
Через несколько дней почтовый голубь принес первое известие от Андре. Депеша была помечена 13 июня, т.-е. голубь был выпущен на третий день после отлета. Депеша гласила:
«13 июля, 12 часов дня. 82° сев. шир. 15°5′ восточной долготы. Хорошо идем на восток. 10°Ю. Все благополучно. Это мой третий почтовый голубь. Андре».

Голубь Андре, прилетевший с его письмом.
После этого никаких известий от Андре и его спутников не получалось. Трое смелых исследователей пропали без вести в полярной пустыне.
В мае 1899 г., почти через два года после отлета Андре, к северному берегу Исландии был прибит буй-поплавок. В этом буе нашли записку следующего содержания:
«Поплавок № 7. Брошен из шара Андре 11 июля 1897 г., в 10 ч. 55 м. вечера по гринвичскому времени под 82° сев. шир. 25° зап. долг. Мы летим на высоте 600 метров. Все благополучно.
Андре. Стринберг. Френкель».
После этого прошел еще год. 31 августа 1900 г. у Скэрво, острова вблизи северных берегов Норвегии, был найден другой буек со следующей запиской:
«Буй № 4, выброшенный первым 11 июля в 10 ч. вечера по гринвичскому времени. Наш полет идет пока хорошо. Летим приблизительно на высоте 250 метров. В 4 ч. 55 м. были выпущены четыре почтовых голубя, полетевших на запад. Мы находимся теперь над очень неровным льдом. Погода прекрасная. Настроение отличное.
Андре. Стринберг. Френкель».
Кроме этих двух буйков, в разное время было найдено в море еще три буя, в том числе так называемый «полярный» буй, который Андре предполагал выбросить на полюсе. Но все эти буи оказались пустыми и без замков, так что нельзя установить, были ли в них вложены записки, или же они были выброшены пустыми, как балласт, чтобы облегчить опускавшийся шар.
Никаких других предметов с шара Андре, ни даже остатков самого шара нигде до сих пор найдено не было. Трое первых полярных воздухоплавателей исчезли без следа.
По всей вероятности, воздухоплаватели попали в полосу сильного урагана, свирепствовавшего между 11 и 15 июля, и их шар был отнесен бурей к северо-восточному берегу Гренландии.
Вероятно также, что шар, все больше и больше обмерзая, покрываясь снегом и льдом, теряя с каждым днем газ, не мог долгое время держаться в воздухе, и вскоре спустился где-нибудь на землю или вернее в море.
Место гибели Андре и его спутников до сих пор не удалось определить, и только случай может открыть нам некоторые следы этой несчастной первой воздушной полярной экспедиции.

Соломон-Август Андре, путешественник-воздухоплаватель.
На поиски Андре было снаряжено несколько экспедиций – Вельмана на Землю Франца Иосифа, Нахгорста – в восточную Гренландию, Пири – к проливу Смита; Штадлинга – к северным берегам Сибири. Но все они не могли найти даже малейших следов погибших воздухоплавателей.
Гибель Андре и его спутников продолжает оставаться загадкой вот уже тридцать лет. Однако, участь отважных полюсоискателей не могла устрашить позднейших исследователей полярных стран. Попытка Андре лишь послужила уроком, что для завоевания полюса нужны более усовершенствованные воздухоплавательные корабли.
Понадобилось около двадцати пяти лет развития авиации, чтобы человеческий гений смог создать мощных стальных птиц, могучие воздушные корабли.
Знаменитому путешественнику нашего времени Роальду Амундсену суждено было осуществить мечты Андре, и теперь уже близок к осуществлению проект регулярных трансарктических сообщений, которые свяжут Европу с Америкой и Дальним Востоком.
Недалек, быть может, тот момент, когда мы будем иметь воздушную станцию «Северный Полюс» – как оживленный перекресток мировых воздушных линий.
Но, торжествуя победу над полярной ледяной пустыней, человек-победитель не должен забывать имя пионера полярных воздушных сообщений, первого человека, дерзнувшего пуститься по воздуху над ледяной пустыней и погибшего среди ее просторов – Соломона Андре, который первый понял значение авиации для исследования и завоевания полярных
Н. Л.
ЧЕРЕЗ ОКЕАН НА АЭРОПЛАНЕ.
(К трагическому полету Нунгессера и Коли).
Перелет через Атлантический океан по воздуху давно уже является заветной мечтой авиаторов обоих полушарий. Но неоднократные попытки перелета из Америки в Европу или обратно неизменно кончались до сих пор неудачей.
Правда, в 1919 г. американский летчик Рид перелетел Атлантический океан в его северной, более узкой части, но он начал свой перелет с острова Нью-Фаундленда и долетел до Ирландии. Второй трансатлантический перелет был совершон в том же 1919 г. британским пилотом Олькоком. Но и Олькок пересек океан также только от Нью-Фаундленда до Ирландии. Их перелет захватил расстояние около 3000 километров, а между тем ширина всего океана между материками Европы и Америки не менее 4000 километров.
Опыты перелета через океан на дирижабле показали, что на перелет этот требуется около четырех суток, то-есть только на одни сутки менее, чем на пароходе. Поэтому организация пассажирских воздушных линий между Европой и Америкой при помощи дирижаблей оказывается в настоящее время экономически невыгодной.
Вследствие этого внимание летчиков было снова направлено на создание мощных гидроаэропланов, которые могли бы не более чем в сутки покрывать все протяжение Атлантического океана.
Правительство Северо-Американских Соед. Штатов для поощрения объявила в прошлом году, что оно выдаст 50 тысяч долларов (около 100 тысяч рублей) тому летчику, который первый перелетит через океан на аэроплане из Европы в Америку.
Авиаторы всех стран втайне тренировались и подготовлялись к выполнению этой трудной задачи, совершенствуя свои аппараты. Наиболее серьезными конкурентами были летчики французские и американские.
Два выдающихся французких авиатора – капитан Шарль Нунгессер и Коли решили сделать попытку. Оба авиатора были во время войны военными летчиками и летают уже двенадцать лет. Для своего перелета через океан они построили специальный гидроавион большой мощности, который назвали «Белая птица».
8-го мая, в 6 ч. утра Нунгессер и Коли вылетели с аэродрома в Бурже для безостановочного перелета в Нью-Йорк. Нунгессер и Коли решили лететь не прямо на запад, а их маршут представлял несколько кривую линию. Они полетели сначала на северо-запад – через Ирландию на Нью-Фаундленд, откуда должны повернуть на юго-запад к Калифаксу и Бостону на Нью-Йорк.
При благоприятных обостоятельствах, Нунгессер и Коли намеревались в понедельник 9 мая спустится в Нью-Йорке, но ни в понедельник 9-го, ни в следующие дни гидроавион Нунгессера и Коли не прибыл в Америку, и до сих пор о летчиках нет никаких известий.
На следующий же день после отлета французское правительство срочно выслало несколько пароходов и военных судов на поиски гидроаэронавтов в Ламанш и к берегам Ирландии. С своей стороны, американское правительство отправило в море восемнадцать миноносцев для поисков пропавших летчиков. Морское министерство Франции разослало радиотелеграммы всем пребывавшим на океане судам с просьбой сообщить, не видал ли кто аэроплана. Но до сих пор поиски не дали никаких результатов. Ни один из пароходов, совершающих рейсы между Европой и Америкой, ни одно рыбачье судно, – никто не видал ни в воздухе, ни на море злополучной «Белой птицы». Она исчезла без следа вместе с двумя авиаторами…
По всей вероятности, аэроплан Нунгессера и Коли был захвачен свирепствовавшей у берегов Америки бурей, и был отнесен ею к северу.
Трудно сказать, погибли ли летчики, или же они спустились на один из островов. Быть может, они стали жертвой моря, но не исключена возможность, что они еще живы и теперь ждут помощи где-нибудь в Гренландии или на другом острове.
Океан умеет хранить свои тайны. Мы знаем, что он до сих пор хранит тайну первого авиатора к полюсу Андре и его двух спутников, с момента исчезновения которых в нынешнем году исполняется тридцать лет, Теперь к тайне Андре прибавилась новая загадка– исчезновение Нунгессера и Коли.
К розыску Нунгессера и Коли принимаются энергичные меры, и в самое последнее время с этой целью отправилась на Новую Землю экспедиция Сиднея Коттона.
Н. Л.
СЛЕДОПЫТ ПОЛЯРНЫХ МОРЕЙ-ЖАН ШАРКО.
(От парижского корреспондента «Следопыта»).
В предместьи Парижа – Отейль, недалеко от Булонского леса, приютился небольшой домик– владение знаменитого психиатра Шарко. В настоящее время дом принадлежит его сыну – Жану Шарко – известному исследователю полярных стран.
Жан Шарко – не только просто исследователь-путешественник, но и один из выдающихся современных ученых-океановедов, уже четверть века занимающийся изучением океанов, преимущественно полярных.

Капитан Жан Шарко, известный исследователь полярных морей (сын знаменитого психиатра Шарко)
В 1904 г., на пароходе «Француз» он совершил экспедицию в Антарктиду, а в 1908 г., построил специальный корабль, приспособленный для плавания в полярных морях, и отправился на нем с тем, чтобы попытаться достичь южного полюса. Свой корабль Шарко назвал несколько странным именем «Пуркуа па?» (Почему нет?).
Это название объясняется тем, что после целого ряда экспедиций к южному полюсу за период 1901–1907 гг. многие исследователи были обескуражены неудачами и говорили, что южный полюс недоступен.
Тогда Шарко решил снарядить новую экспедицию и на все утверждения, что дороги на полюс нет, отвечал: «почему нет»? Он хотел доказать, что на полюс можно добраться.
Пробыв в плавании два года, Шарко, первый из южно-полярных исследователей, проник в 1909 г. дальше всех к полюсу, открыл несколько новых островов и берег антарктического материка. Но обилие пловучего льда и сильные морозы заставили Шарко на корабле «Почему нет?» повернуть к северу.
Вернувшись в 1910 г. во Францию, Шарко решил в 1911 г. снова попытаться достичь южного полюса, но в 1911 г. полюс был открыт норвежцем Амундсеном, и Шарко отложил свою экспедицию.
Вместо этого Шарко с 1911 г. предпринял научное исследование северного полярного моря и в частности занимался изучением дна океана. Его корабль «Почему нет?» ежегодно совершал несколько рейсов в разные части океана.
В 1921–1924 гг. Шарко исследовал дно пролива Ламанш и составил первую геологическую карту дна Ламанша. Он исследовал дно океана около Гренландии, и при его содействии была организована полярная радиостанция на острове Ян-Майене[68]). Ежегодно «Почему нет?» отвозит на эту станцию припасы и продукты.
Когда я вошел в приемную комнату скромного жилища ученого и полярного следопыта, навстречу мне вышел бодрый и энергичный человек с седеющей бородкой и живыми глазами.
Он приветливо пожал мне руку и повел в кабинет. Обстановка кабинета поражает простотой.
Капитан Шарко тотчас же заговорил о своих предстоящих экспедициях летом 1927 г.
– Мы готовимся теперь к отплытию на остров Ян-Майен, где нас с нетерпением ожидают наши друзья – служащие радиостанции, а затем займемся изучением морского дна вблизи этого острова.
– Какой научный интерес имеет это изучение? – спросил я капитана.
При этих словах Шарко воодушевился и, шагая по кабинету, начал читать мне лекцию по «подводной геологии» – как он называет созданную им новую отрасль науки.
– Мои предшественники по изучению океанов, в частности ученый океанограф Тулэ, ограничивались только исследованием поверхности океанов и морей. Но ведь это похоже на то, как если бы авиатор по пыли, поднявшейся с поверхности земли, стал определять растительный и животный мир земли. Недра океана таят много неизведанного, но, к сожалению, в настоящее время мы можем изучать морское дно только на глубине 400–500 метров. Но средняя глубина морей не менее 3 000 метров. И эта глубина пока совершенно не исследована.
– Я глубоко убежден, – продолжал Шарко, – что наука найдет средства добраться и до этих глубин, и тогда перед человечеством раскроется много загадок – ив том числе будет разрешен и вопрос о существовании Атлантиды.
В заключение нашей беседы я спросил Шарко:
– Почему вы стали полярным исследователем? Что заставило вас отправиться на полюс?
Капитан Шарко близко подошел ко мне и сказал:
– Почему я стал полярным исследователем? Потому что я люблю приключения, потому что я с юности испытывал непреодолимое желание видеть неведомые страны… Я родился в этом доме. И вот еще в детстве мое внимание привлек бассейн с водой на одной из лужаек нашего сада. Моей любимой игрой было пускать кораблики в этом бассейне. А зимой, когда бассейн покрывался тонкой корой льда, я не находил большего развлечения, как разбивать эту ледяную корку. Быть может, в этом уже проявлялся инстинкт полярного мореплавателя… Отец не раз говорил про меня друзьям: «он будет мореплавателем». И я стал действительно мореплавателем. Море – это моя вторая натура. Без моря я не могу жить…
Прощаясь со мною и крепко пожимая руку, старый морской следопыт с улыбкой прибавил:
– А была еще и другая причина, заставившая меня удалиться в полярные области. Вы не можете представить, сколько очарования заключается в блужданиях по льдам крайнего севера, среди величия полярной природы…
К. Н.
НОВАЯ ПОЛЯРНО-ВОЗДУШНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ.
На северной оконечности полуострова Аляски с февраля ведет работу полярно-воздушная экспедиция, снаряженная на средства, собранные одной газетой в г. Детройте.
Руководителем экспедиции состоит известный исследователь полярных стран и опытный пилот кап. Вилькинс. Экспедиция располагает тремя самолета ми: двумя – типа Стинсон, относительно небольших размеров, с моторами воздушного охлаждения и радиусом действия в 2.400 км, и третьим – крупного типа Фоккером с радиусом действия в 4.400 км.
Целью экспедиции является обследование огромной территории в 1 милл. кв. миль, лежащей между Аляской и северным полюсом.