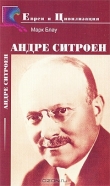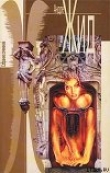Текст книги "Всемирный следопыт, 1927 № 07"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Николай Лебедев
Жанры:
Газеты и журналы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Ашуг закашлялся и обтер вспотевший лоб.
– Эффенди, челеби, кто из вас не знает, что раз собака испробовала мяса, она не отходит от кости! Раз раб поднял голову, он не скоро опустит ее, на свою презренную грудь. И хотя султан каждое утро глядел на Стамбул, прежде чем начать своим благословенным умом обдумывать новый танизмат, он не мог быть покоен за правоверных. Презренные псы, рабы его предков, не могли оценить заботы падишаха. Тюрьмы еще больше переполнились рабами, и тысячи повешенных болтались на площадях Стамбула.
IV. Мявтуха – глупая жена ходжи.
Луч прожектора, брошенный в небо Босфором, вбежал в открытые двери кофейни, и десятки глаз заблистали в ярком свете.
– И пришел тогда к султану во дворец великий шейх-уль-ислам и, склонившись перед наместником пророка, тихо сказал: «Повелитель правоверных, твой ум и твоя мудрость спорят с блеском луны и солнца, а твоя святость превосходит святость любого смертного. Не расточай перлы своих мыслей презренным стамбульским рабам – они не достойны движения твоего пальца! Твой разум, твой ум, твои повеления достойны удивления не для псов, ползающих по базарам! Призови муллу Наср-Эддин-ходжу[41]), и пусть он успокоит лающую стаю!» Челеби, эффенди – так передавал мне слова главы ислама мой отец, стодесятилетним старцем взятый на небо, и я не утаил ничего от древних преданий!
Двое военных, шептавшихся с третьим эффенди, встали из-за столика и сели вблизи ашуга.
– Долго искали по всей стране ходжу. Наконец, нашли муллу в Бахчисарае. Пали перед ним на колени слуги султана и слезно молили ехать к падишаху. Кто не слышал про хитрого Эд-дина? Кто из вас, эффенди, не знает про его жадность?! Заплакал мулла горькими слезами: «Не поеду я к султану без своей жены, старой Мявтухи» – сказал он слугам калифа и сел на осла, чтобы ехать в поле.
И заплакала Мявтуха, ожидая решения слуг султана. Долго совещались они и, наконец, согласились! Поехал мулла с Мявтухой в столицу падишаха, и, когда ходжа постучал в ворота Сераля, – уже нехватало тюрем для народа, и десятки тысяч рабов висели на холмах и базарах. На то была воля Аллаха и его наместника калифа! Так говорили святые книги! Кто может итти против правды неба? Аллах Экбер!
Осман боялся проронить слово и, вытянув шею, так и впился глазами в ашуга.
– Эффенди, челеби, – продолжал ашуг. – Велика была милость падишаха! Поселил он ходжу с Мявтухой в Серале и сделал его первым советником калифата. Стал жить Наср-Эддин во дворце Сераля так, как и не снилось ему в Бахчисарае. И вот призвал его однажды падишах и сказал: «Мулла Наср-Эддин, скоро в Стамбуле нехватит зданий для тюрем, а улиц и площадей для повешенных. Скажи, что делать?» – «О разум жизни, о свет востока, о святая тень Аллаха! – воскликнул Наср-Эддин. – Объяви войну неверным! Лучше пусть народ гибнет во славу священного плаща пророка, чем попусту болтается на стамбульских базарах!» Да не усомнится никто из присутствующих здесь эффенди – султан послушался бахчисарайского плута и объявил войну франкам. Много крови пролилось на земле, много работали духи добра и зла над душами убитых. Наконец, франки победили. Аллах Экбер – да проклянет Аллах их память!
Ашуг все сильнее повышал голос.
– Рабы падишаха – эти собаки Стамбула– громче завыли на базарах и подняли руки против султана! О, великий Аллах, если ты хочешь наказать своего раба, ты берешь у него разум и на пути его бросаешь женщину! Захотел Аллах наказать ходжу и внушил Мявтухе призвать франков. Челеби, почтенные франки, сидящие здесь друзья нашего милосердного султана – не для вас сказаны слова старого ашуга! Пришел мулла к падишаху и повторил слова глупой Мявтухи: «О падишах, о минарет земли, о защита правоверных – призови сюда франков, чтобы рабы твои не смели нагло глядеть в глаза вали и верным мудирам». Султан призвал франков, и их суда осквернили чистые воды Босфора. О челеби, будьте покойны – то было давно, когда свет ислама ярко горел над холмами Стамбула и когда ни один франк не смел сесть за стол с правоверным!
По кофейне раздался неопределенный шопот. Не то угрозы, не то одобрения. Молодые гвардейцы, забыв про улыбки левантинок, задумчиво слушали слова ашуга. На Босфоре жалобно стонала сирена уходившего в море транспорта с одалисками Илдыза. Луч прожектора на секунду осветил бледное лицо Османа. Он понимал смысл сказаний загадочного ашуга.
– Эффенди, это было давно! Много раз восходило и заходило солнце за скутарийские горы, много речек высохло на земле, много могил прибавилось на Эюбе[42]). И пусть не блестят ваши глаза гневом, потому что решением султана руководила одна мудрость! Аллах вторично решил как следует наказать за плутни Наср-Эддина. Он заставил Мявтуху сказать: «Пусть султан соберет вокруг себя всех изменников народа, своих верных пашей и беев!» Аллах да простит слова глупой и неразумной Мявтухи, и да не оскорбят они слух сидящих! И, когда ходжа пошел к султану, его жена Мявтуха добавила: «… и при помощи пушек франков укрепит престол калифата!»
И слово в слово повторил желание Мявтухи ходжа, призванной султаном. И стали проклятые франки топить суда оттоманов, сжигать их деревни, убивать их женщин, надругиваться над стариками. О, Аллах! Почему ты не просветлил разум глупой женщины? Уходили собаки-рабы в поля Малой Азии и грозились султану гневом своей мести! Слышите вы, эффенди, слышите вы, челеби – гнусная пыль султанских сапог смела грозиться калифу!..
Ашуг кричал громким голосом и стучал рукой по мраморному столику. Осман с восхищением глядел на певца и следил за возбуждением военных.
– Эффенди, челеби! И в третий раз решил Аллах наказать ходжу Наср-Эддина, ибо даже Аллах не посмеет указать собственную тень на земле – падишаха! В третий раз Аллах внушил Мявтухе сказать: «Ходжа, твой разум выше мудрости калифа, и ты должен стать султаном! Что такое эффенди? Что такое паша? Что такое бей?» – говорила темная женщина, лишенная всякого почтения к столь высоким особам. – «Они продажные ослы, они нечестивые животные. Верные слуги своего султана – они изменники своего народа! Иди просить престол падишаха, а я сяду чинить твой чулок, который будут целовать гордые беи!» О эффенди, мне тяжело передавать слова моего стодесятилетняго отца. Эта злая женщина кричала ходже: «Не все равно, что. целовать турецкому паше или бею – сапог падишаха, спину франка или грязную ногу бахчисарайского муллы Наср-Эддин-ходжи»…
V. Бегство Фуад-бея.
Громкие проклятия и крики вскочивших на ноги офицеров не дали возможности ашугу закончить свою сказку.
Красивый полковник, предложивший старику стул, ругался, как простой редиф. Албанские гвардейцы молча сидели за столом и что-то думали. Красивые левантинки, испуганные криками взбешенного полковника, жались к эстраде. Из-за буфета бежали лакеи в страхе за целость посуды, стоявшей на столиках. В дверях кофейни показались любопытные. Французы и англичане спокойно прислушивались к крикам турок, не понимая причины общего шума.
Ашуг невозмутимо протянул руки, жестом приглашая успокоиться, и, повысив голос до силы молодого звучного баритона, громко закричал:
– Эффенди, высокочтимые паши, всесильные беи и вы, офицеры – верные слуги падишаха, друга великих франков, чьи грозные суда охраняют покой Стамбула! То были слова глупой женщины Мявтухи, жены бахчисарайского муллы Наср-Эддина-ходжи…
Крики еще больше усилились, и угрожающие кулаки протянулись к старому сказателю. Осман бросился на помощь к ашугу. В этот момент один из шептавшихся военных дернул за бороду ашуга, и крик, изумления огласил кофейню:
– Фуад!
– Фуад-бей!
Перед взбешенной толпой стоял один из видных сподвижников Кемаля.
В воздухе замелькали револьверы, и высокий полковник спешил к Фуаду, широко растопырив руки. Осман схватился за спинку стула и, вскочив на столик, с силой ударил стулом по люстре… Свет мгновенно погас, и в темноте кофейни раздались испуганные крики, взбешенные проклятия, женские восклицания. Протянув руку Фуаду, Осман выскочил с ним из зала, и они бросились бежать вдоль бульвара.
В аллеях попрежнему толпились левантинцы, а внизу горел огнями Босфор, и слышались беспечные звуки мандолины. Оба молча бежали к берегу по узеньким уличкам Фюндуклы[43]). По бульвару раздавались свистки заптиев, крики преследовавших Османа с Фуадом офицеров. Большая толпа любопытных пересекала путь убегавшим, и они, чтобы не быть схваченными руками встречных заптиев, бросились в глухие темные переулки.
Крики и свистки заптиев продолжали усиливаться, и, когда оба беглеца достигли трамвайного полотна, пересекавшего дорогу к Долма-Бахче[44]), стала очевидной угроза смерти.
Осман быстро сорвал шапку с Фуада, снял с него халат и показал недоумевающему бею на силуэт мечети Валидэ. Он точно хотел указать Фуаду, где легче скрыться. И, когда Фуад побежал по указанному направлению, Осман надел на голову его шапку, накинул на плечи его халат и побежал к месту причала шлюпок.
Ярко освещенное трамвайное полотно выдало заптиям каикджи. Шумная толпа кинулась. за ним и выбежала на пристань Кабаташ.
Осман вскочил в свою шлюпку и быстро поплыл по течению пролива. Работая веслами, он не переставал думать: успеет ли спастись Фуад от рук озверелых беев?
И Осман нарочно кивал шапкой Фуада и выставлял на свет яркие полосы халата.
Свистки и крики заптиев прекратились. Со стороны артиллерийских мастерских быстро приближался моторный бот с речной стражей. Предупрежденные по телефону с пристани Кабаташ, в боте сидели вооруженные жандармы.
На Османа направились стволы винтовок, и грубый голос приказал бросить весла.
Осман повиновался. Ажурные пилястры окон мечети Валидэ смутно виднелись в проливе. Туда скрылся Фуад.
Впереди по Босфору, один за другим отходили громадные транспорты, груженные богатством пустеющих дворцов. На палубах чернели закутанные фигуры женщин. Справа на набережной Тофане окаменелыми изваяниями стояли рослые анатолийцы – верные слуги младотурецкой партии. Они глядели на воды Босфора и вспоминали холмы Малой Азии, где сражались их родные братья.
Над засыпающим Стамбулом горели яркие звезды и, цепляясь за вершины высоких минаретов, задумчиво мерцали в вышине бархатного неба, Со стороны Галаты, как всегда, стонали скрипки оркестров и, точно прощаясь друг с другом, на холмах Илдыза перекликались трубы горнистов.,
VI: Последний допрос.
В один ясный и теплый ноябрьский день – один из тех нарядных осенних дней, какие бывают только в Босфоре, – в последний раз вызвали на допрос молодого каикджи, ценою своего ареста спасшего героя восставших анатолийских крестьян– Фуада.
Два месяца сидения в тюрьме и мучительные побои, которыми пытались заставить говорить Османа его палачи, наложили на его лицо складки страданий. Бледный, исхудавший, качающейся походкой шел он через двор к следователю в сопровождении равнодушных редифов-албанцев.
Осман замедлил шаги и задышал полной грудью, вдыхая пряные ароматы кипарисов и мирт и соленый запах моря. Только здесь, жмурясь под жаркими лучами ослепительного солнца, видя над собой глубокий провал голубой небесной чаши, слушая крикливые гудки босфорских пароходов, песню товарищей каикджи, несшуюся с пролива, – только в эти минуты Осман почувствовал весь ужас своего двухмесячного сидения в тюрьме. Звуки дня пробуждали в нем жажду жизни, крики чаек напоминали о собственной неволе, а мрачные лица албанцев, подозрительно следивших за его замедленными шагами, вызвали в памяти каикджи бесконечные угрозы, мучительные пытки и призрак смерти, стоявший за его плечами.
И Осман задумался. Глаза его затуманились, и две слезинки, блеснув, скатились по смуглым щекам. Ведь он был так молод!
В одном из отдаленных углов казармы стояла кучка вооруженных редифов. Недалеко от нее расположилась группа лиц, одетых в штатское, и, как показалось Осману, с руками, связанными за спиной. Из дверей казарменного здания бежал неряшливый заптий и размахивал листом бумаги.
Осман остановился. Ему показались знакомыми черты одного из стоявших людей, но грозный оклик албанцев и удар прикладом по спине заставил его быстро пройти через двор – под каменные своды темного портала. Двое редифов, одетых в мундиры анатолийской гвардии, молча пропустили арестованного.
Осман, точно прощаясь с солнцем, с небом, с далью синевшего Босфора, за которым начинались холмы родной ему Анатолии, с отчаянием оглянулся и с ужасом увидел, как редифы, стоявшие у стены, взяли на прицел ружья и направили их на группу штатских. И в тот момент, когда он входил в низенькую комнату с толстыми решетками на окнах, до его слуха донесся нестройный залп винтовочных выстрелов и протяжные стоны.
Стоны вскоре прекратились, и со двора послышалась мерная дробь барабана, тяжелая поступь солдатских сапог и окрики офицеров.
VII. Казнь Османа.
– Такая же участь ждет и тебя, анатолийская змея, если ты не выдашь врагов султана!
Молодой щеголеватый офицер, по внешности и манере говорить подражавший злому гению Турции – Энвер-бею[45]), сурово глядел на него и кусал свой длинный ус.
Осман гордо взглянул на офицера. Осман дал обещание не отвечать собакам падишаха – и упорное молчание самсунского лодочника приводило в бешенство щеголеватого турка.
Молодой каикджи невольно вздрагивал, когда грубый офицер начинал топать ногами, ударять рукояткой револьвера по столу, угрожая пытками. Он устремлял взгляд на просвет неба, видневшийся сквозь решотки окон, словно радостные лучи солнца давали ему силы слушать гневные выкрики взбешенного младотурка.
Целый час длился допрос. Целый час говорил офицер. И ни щедрые обещания награды, ни угрозы немедленной смерти, ни клятвы в освобождении за выдачу «сообщников» – ничто не могло заставить самсунского каикджи нарушить молчание, хотя бы случайным звуком.
Осман стиснул зубы и с ненавистью взглянул на офицера. И следователь понял, что скорее стены комнаты начнут рассказывать ему про стоны и проклятия, которые посылали пытаемые по адресу султана, чем молодой анатолиец исполнит его желание.
Он с холодной учтивостью поднялся с табуретки и крикнул албанцев. Затем, спрятав револьвер в кожаную кобуру, висевшую на блестящем лакированном поясе, перетягивавшем тонкую, стройную талию офицера, и обтерев надушенным платком вспотевший лоб, следователь широко расчеркнулся на бумаге, приложив к ней красную печать.
Эту бумагу он передал албанцам и указал на двор.
Осман понял, что ждет его там. Медленно повернулся на расслабленных ногах и, точно раздумывая о чем-то, решительно тряхнул головой и пошел…
Гулко раздавались тяжелые шаги албанцев под низкими сводами холодных коридоров. Из маленьких дверей, пробитых в стене, то входили, то выходили отдельные арестованные в сопровождении заптиев и редифов. Эта была революционная константинопольская молодежь: студенты, моряки, рабочие. Всех их глотали каменные стены, за толщей которых глохли звуки жизни…
Осман и его стража быстро прошли коридор и стали спускаться по ступенькам. На бетонной площадке, у дверей, ведших во двор, албанцы остановились, чтобы пропустить двух рослых редифов, сгибавшихся под тяжестью носилок.
Осман, мысли которого в эти минуты были далеко от жизни казармы, увидел, как офицер с брезгливой миной подошел к носилкам и двумя холеными пальцами приподнял грязную рогожу.
Каикджи на секунду задержал взгляд на бледных чертах окровавленной головы мертвеца; потрясенный внезапными воспоминаниями, он опять окинул быстрым взором скорченное тело и, не выдержав неожиданной встречи, закричал гневно:
– Ариф! За что они тебя убили?!
Этот отчаянный крик быстро облетел проходы коридора, заставил вздрогнуть албанцев и вызвал гримасу удовольствия на лице офицера. Он с любопытством и надеждой уставился на дрожавшего Османа. Враг потерял все свое самообладание, всю свою выдержку и обливался горькими слезами. Такой человек должен заговорить!
И гордый своим искусством выведывать тайны, гордый победой над несокрушимым духом анатолийского рыбака, спасшего заклятого врага младотурок – Фуада, следователь обратился к нему и, с возможной для него лаской в голосе, повторил слова обещания:
– Скажи, где скрываются твои друзья, и ты получишь свободу!
Звук льстивого голоса младотурецкого офицера заставил оторваться Османа от трупа. Он в последний раз склонился над телом друга и, не глядя в сторону ожидавшего ответа младотурка, быстрыми шагами направился ко входу.
Осман торопливо шел через двор, направляясь к кучке редифов, осматривавших свои винтовки. Минуты колебания, минуты слабости, уступали перед силой ненависти к заклятым врагам, убийцам Арифа и тысяч других молодых жизней.
И, когда раздалась команда и винтовки уставились в его грудь, Осман в последний раз глубоко вдохнул в себя смолистый запах кипарисов, вечнозеленого мирта, голубого пролива…


СТО ДНЕЙ
В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ
Спортивно-морской рассказ Алена Жербо
В настоящее время совершает путешествие вокруг света на маленькой парусной лодке молодой французский мореход Ален Жербо. В 1924 г. Ален Жербо переплыл на этой лодке через весь Атлантический океан, из Европы в Америку, пробыв в океане совершенно один в маленькой лодке сто дней. Это плавание даже в наши дни является настолько смелым и рискованным, что заставило заговорить о себе весь спортивный мир.
О своем плавании Ален Жербо написал книгу, которая была переведена на многие европейские языки. В ней Жербо просто, нисколько не рисуясь, рассказывает о своих приключениях и переживаниях. Выдержки из этой книги мы и печатаем ниже.
Прежде чем рассказывать о моем плавании, нужно познакомить читателя с моей лодкой. Зовут ее «Файркрест». Это слово можно перевести как «Огненная волна». «Файркрест» построена в 1892 г., значит, она живет уже тридцать три года. Возраст почтенный.
«Файркрест» имеет одиннадцать метров в длину, а наибольшая ее ширина – два метра с половиной. Чтобы эту скорлупу не могли опрокинуть морские волны, она имеет свинцовый киль весом три с половиной тонны и, кроме того, три тонны внутреннего балласта. На палубе только два иллюминатора и две рубки, которые плотно закрываются, так что вода почти не может попасть внутрь лодки.
«Файркрест», имеет одну мачту, и вся лодка построена из крепкого дуба, а панели кают сделаны из красного дерева и клена. Внутри лодки – три каюты. На корме – каюта с двумя койками и умывальником, в средине – каюта-столовая, там стоит стол и шкап с книгами. Наконец, на носу – каюта-кухня и склад провизии.
Состав моей библиотеки по необходимости ограничен, и поэтому я взял с собой только «приключенческую» литературу и несколько моих любимых поэтов. Из авторов, взятых мною, назову прежде всего Эдгара По, затем Клода Фаррера, Жозефа Конрада, Стивенсона и Джека Лондона – великого мастера небольших рассказов.
Конрад и Стивенсон вселили в меня пылкую любовь к морю, хотя впервые любовь к нему зародилась у меня еще в раннем детстве, когда я смотрел в Сен-Мало, как суровые бретонские рыбаки снаряжают суда в опасные плавания к Нью-Фаундленду или к обильным рыбой водам Исландии.
И уже тогда я мечтал о том, что, когда вырасту большой, куплю небольшое судно и стану моряком. Теперь моя мечта осуществилась. Я имею судно. Правда, это судно лишь небольшая гоночная лодка, но все-таки на ней я могу пуститься в море…
В апреле 1924 г. я стал готовиться к путешествию. Моя лодка стояла в Каннах, на Ривьере. Я стал заготовлять припасы. Погрузил на «Файркрест» 300 литров воды, 40 кило солонины, 30 кило морских сухарей, 15 кило соленого масла, 24 банки с вареньем и 30 кило картофеля.
25 апреля я снялся с якоря и направился к Гибралтару. Без особых приключений я пересек Средиземное мере и 15 мая был в Гибралтаре. Здесь я сделал двухнедельную остановку, чтобы подготовиться к долгому переходу через Атлантический океан.
Наконец все было готово. Я был вполне «снаряжен». Шестого июня в полдень я снялся с якоря. Великое рискованное предприятие началось. Никогда еще никто не пытался переплыть один через всю северную часть Атлантического океана, с востока на запад. Правда, американец кап. Слокум[46]) переплыл на маленьком судне из Америки в Европу, но он пересек Атлантику в южной части и делал остановку на Азорских островах. Наибольший путь, пройденный им без захода в гавань, равнялся 2000 миль, а мне предстояло сделать приблизительно 4500 миль.
Итак, я отплыл из Гибралтара. Погода стояла прекрасная. Дул легкий ветерок, и я лежал, вытянувшись, на палубе, лениво мечтая о том, что ждет меня впереди.
«Файркрест» быстро уносился на запад, и скоро с горизонта исчезла скала Гибралтара. Вокруг лодки кишело множество разнообразных рыб. Дельфины резвились около судна. Ныряли альбатросы. Кругом расстилалась безбрежная йодная гладь. Я был один между небом и водою…
Я выработал себе расписание распределения моего времени и решил строго его выполнять. Вставал в пять часов утра, быстро умывался и готовил себе завтрак, который неизменно состоял из супа, сала, сухарей, соленого масла, чая и сгущенного молока.
Готовил пищу на примусе. Машинка эта была прикреплена таким образом, чтобы кастрюли и сковородки стояли горизонтально при всяком положении лодки. На самом же деле, лодка часто давала такой сильный крен, что сковородка падала с примуса, обдавая мои босые ноги кипящим маслом.
Во время сильной качки было очень трудно стряпать. Не все попадало прямым путем в рот, и часто солонина оказывалась на полу. Да и трудно было двигаться в тесной каюте.
По двенадцати часов подряд я стоял у руля, и при благоприятном ветре мне удавалось делать от 80 до 150 километров в день.
В течение этих двенадцати часов у руля, при очень сильных ветрах, мне приходилось быть все время «на-чеку». Читать в это время было невозможно, и все-таки я никогда не скучал. Я любовался красотою моря и волн, видом моей лодки и декламировал вслух стихи моих любимых поэтов: Шелли, Верхарна, Эдгара По.
К ночи я чувствовал себя смертельно усталым. Я уменьшал площадь большого паруса, клал судно в дрейф,[47]) прикреплял руль, вторично готовил себе обед или ужин – как угодно, – который состоял из солонины и картофеля. Под влиянием морского воздуха у меня развился волчий аппетит, и мне не приходилось жаловаться на «повара», что он невкусно приготовил.
Наконец, обессиленный, сваливался на койку и, укачиваемый волнами, засыпал глубоким сном. Вскоре я привык спать очень чутким сном. Я лежал, вытянувшись на койке, голова моя находилась между стенками судна, вода была в нескольких сантиметрах от моих ушей, и я мог судить о скорости хода судна по шуму воды, ударявшейся о борта. По движению судна, по степени килевой или боковой качки я тотчас догадывался, что «Файркрест» изменил свое положение по отношению к ветру, и отправлялся на палубу, чтобы повернуть румпель[48]).
Так я плыл целый месяц. Пережил небольшую бурю, которая сломала ватерштаг и бушприт[49]); починил паруса. Все шло отлично.
Однажды вокруг моей лодки появилось много водорослей: я попал в Саргассово море. В другой раз я заметил кусок дерева, изъеденный червями и покрытый раковинами, – вероятно, обломок корабля, погибшего когда-нибудь в океане.
По моим расчетам, я сделал половину пути и уже мечтал о благополучном приезде в Америку. Но вдруг, как-то утром я сделал неприятное открытие: большая часть моего запаса пресной воды сделалась негодной для питья.
При отплытии из Гибралтара я взял триста литров пресной воды в двух резервуарах из оцинкованного железа и в трех дубовых бочках. Всю воду из резервуара я уже выпил, и тогда только обнаружил, что вода в двух бочонках приняла темно-красную окраску, приобрела солоноватый вкус и, даже прокипяченная и профильтрованная, совершенно не годилась для питья. Бочонки были сделаны из слишком свежего дерева, и дубильная кислота совершенно испортила воду.
У меня оставалось только 50 литров пресной воды, а я находился более чем в 2000 миль от Нью-Йорка. Я плыл под тропиками, и надежды на то, что пойдут обильные дожди, которые могли бы пополнить мой запас пресной воды, у меня не было.
Я высчитал, сколько дней может продолжаться мое плавание, и решил пить только по одному стакану в день, а для стряпни, насколько возможно, употреблять морскую воду.
На другой день после этого открытия я испытал впервые муки жажды. Свой стакан я выпил маленькими глотками, но уже в полдень стал ощущать сильнейшую жажду. Солнце палило нестерпимо. В горле пересохло. Я стал чувствовать сильную боль в голове.
Внимательно смотрел я на горизонт, ища дождевых туч, но небо было безоблачно, а барометр стоял высоко.
Неужели так и не выпадет дождя, и я буду страдать от жажды среди беспредельного океана?
За моей лодкой летят альбатросы, а мой язык почти машинально шепчет слова из знаменитой поэмы Кольриджа:
Вода, кругом вода,
Но гибнем мы от жажды…
Так прошло несколько дней. Я начинал слабеть, и отчаяние стало нападать на меня. Затем последовали другие неудачи.
Я не склонен к суеверию, но пятница 13 июля была исключительно неудачна для меня. «Файркрест» страшно качало. Волны на океане были огромные. Несчастье началось с самого утра. В переднем парусе образовалась большая дыра. Я стал спускать парус, как вдруг снасть лопнула, и парус упал за борт в море.
Я пошел по бушприту, чтобы вытащить парус, и поставил ногу на лиссельспирты (поперечины) бушприта, как внезапно один сломался подо мной, и я упал в море. Мне посчастливилось ухватиться за ватерштаг, и я кое-как выбрался из воды… Лодка моя шла в этот момент со скоростью трех миль в час, и если бы мне не удалось ухватиться за ватерштаг, я остался бы один среди океана.

Поперечина бушприта обломилась, и я упал в море. Однако, мне посчастливилось ухватиться за ватерштаг…
Не успел я притти в себя от пережитых волнений, как началась буря. Ураган надвигался с северо-запада. Океан покрылся громадными волнами, которые яростно обрушивались на мою крошечную лодку. Маленький «Файркрест», зарывался носом в водную пучину, и горы воды катились через палубу. Было очень трудно удержаться на ней и не быть смытым волнами; поэтому я поспешил убрать паруса, спустился в каюту, крепко закрыл все люки и… предоставил «Файркрест» самому себе.
Волны бросали лодку, как щепку, из стороны в сторону. В каюте все предметы и вещи катались из угла в угол. Буря продолжалась всю ночь. Если бы у меня не было полной уверенности в моей лодке, я мог бы думать, что она опрокинется или будет разбита волнами. Но я знал хорошо мою лодку и поэтому спокойно лег на койку. Хотя качка была такая, что было крайне трудно удержаться на койке, не свалившись на пол, однако, я все-таки ухитрился заснуть и в эту ужасную ночь. Два дня я еще носился по волнам, преследуемый бурей. Наконец, буря утихла, и надо мной снова Засияло солнце.
Но с наступлением жары меня опять замучила жажда. Начались сильные боли в горле. Оно так распухло, что я лишь с трудом мог глотать воду и сгущенное молоко. У меня началась лихорадка, и я так ослаб, что не мог больше управлять рулем и с трудом держался на палубе, еле справляясь с парусами.
26 июля на пятидесятый день моего отплытия из Гибралтара, я так ослабел, что вынужден был спустить все паруса, кроме передних, затем улегся в каюте, предоставив «Файркрест» самой себе.
Через четыре дня мне стало лучше. Я поднялся на палубу, затем сварил картофель, напился чаю с сухарями. Солонину я выбросил всю за борт и питался только сухарями. Но я чувствовал, что для восстановления, сил мне нужна какая-либо более вкусная пища. Между тем около лодки в изобилии плавали рыбы, особенно – так называемые «дорады». Я решил заняться рыбной ловлей. Закинул несколько бывших у меня удочек. Но дорада не попалась на приманку. Пробовал бить дорад трехзубой острогой, но ничего не выходило…
Потеряв надежду достать свежей провизии, я безнадежно садился на борт лодки и спускал босые ноги в воду. И тут, однажды, произошло нечто неожиданное: три дорады кинулись к моим ногам. Кинулись они очень стремительно, но я оказался быстрее их. Я проткнул и подцепил одну из них острогой, и вскоре на палубе лежала рыба больше метра длиною.

Рыбы кинулись к моим ногам. Я проткнул и подцепил одну из них острогой.
Теперь свежей пищи у меня оказалось в изобилии, и я знал, как добывать ее.
Я знал, что дорады любопытны, и что для того, чтобы поймать их, нужно привлечь чем-нибудь их внимание. Но скоро они привыкли видеть у борта мои ноги. Надо было придумать что-нибудь новое, и я заметил, что больше всего их привлекает вертящаяся в воде белая тарелка. Когда мне нужно было поймать дораду, я спускал за борт на бечевке тарелку, а сам стоял с острогой. Таким способом мне удавалось наловить столько рыбы, что не мог всю ее съесть.
Еды у меня было более чем достаточно, но почти нечего было пить. Приходилось воду процеживать через тряпку, но и после этого вкус ее был отвратительный. Однако и такую воду приходилось пить в очень ограниченном количестве.
Я страстно желал дождя и, наконец, дождался. Не нахожу слов, чтобы передать мою радость, когда увидел, что приближается грозовая туча.
Ночью 4 августа началась гроза. Молнии зигзагами прорезывали тучи и озаряли по временам океан ослепительными вспышками света. Я сидел на палубе среди тьмы и любовался этой величественной картиной.
Вскоре пошел дождь, и я начал набирать дождевую воду в большой парус, разложенный на палубе. Не давая стечь воде с паруса, я черпал ее и сливал в бочонок, укрепленный у мачты. В эту ночь я целиком утолил жажду, и мне удалось набрать в запас воды более 50 литров.
Я был доволен, почти счастлив. Прошло два месяца с тех пор, как я отплыл из Гибралтара. В течение шестидесяти дней я не говорил ни с одним живым существом.
Тот, кто думает, что я очень скучал во время моего плавания, что мне очень тяжело было выносить одиночество, – ошибается. Скучать мне решительно было некогда. Большую часть времени я был занят починкой парусов и снастей, работой у руля, приготовлением пищи. У меня почти не оставалось времени даже для чтения, хотя в библиотеке у меня было множество книг с описанием морских приключений.
9 августа (на шестьдесят четвертый день после выхода из Гибралтара) «Файркрест» находился в милях 500 от Бермудских островов и около 1200 миль от Нью-Йорка. Если судить по той скорости, с которой я шел до сих пор, то до конца путешествия мне нужен был еще месяц. Но я знал, что прошлое не всегда является верным указанием для будущего. Знал, что мне придется вступить в зону циклонов и пересечь Гольфштрем; мощную океаническую реку, которая широким потоком льется из Мексиканского залива к берегам западной Европы.