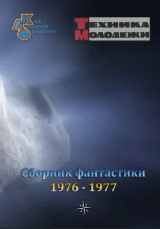
Текст книги "Журнал ''ТЕХНИКА-МОЛОДЕЖИ''. Сборник фантастики 1976-1977"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
Д. А. Де-Спиллер
ЖЕЛТАЯ ЭЛЕКТРИЧКА

Рис. С. Повилайтиса
ТМ 1976 № 5
ДВА СЛОВА О СЕБЕ
Я родился в*** году ка Марсе. В то время Марс только начинали осваивать. Тогда на нем было два поселка – Северный к Южный, разделенные двадцатью километрами красной пыли. Между пылевыми холмами вилась линия электрички, соединяющая оба поселка.
Когда я родился, в Северном поселке было уже трое, а в Южном пятеро ребятишек первого поколения марсиан.
В семь лет я, как водится, пошел в школу. Школа находилась в Южном поселке, а так как я к мои родители жили в Северном, то на занятия мне приходилось ездить ка электричке.
Между поселками ходили тогда две электрички. Одна из них, собранная из доставленных с Земли пластмассовых деталек, была ярко-краской, и ездить ка ней мне было приятно. Другой электрички я, откровенно говоря, немного побаивался. Она была изготовлена из местного утильсырья и окрашена в желтый цвет.
Помню, как, стоя в своем маленьком скафандре на перроне, я несколько раз. глядя на подходившую желтую электричку, испытал острое щемящее чувство грусти, смешанной со страхом. Никогда не забуду этого!
На Марсе я окончил четыре класса средней школы. Доучиваться меня вместе с другими ребятами-марсианами послали на Землю. Перед отъездом ка марсианский космодром я последний раз в жизни видел желтую электричку, и мне показалось тогда, что, рассматривая ее, я на мгновение разглядел чье-то очень печальное и немного страшное лицо.
Через час я вместе с родителями летел в космоплане на Землю.
По окончании средней школы я поступил в Московский институт математической лингвистики, на факультет космических языков.
Никто не знал в то время, существует ли хоть одни внеземной космический язык или нет. Но считалось несомненным, что любая внеземная система кодирования информации, какой бы эксцентричной она ни была, должна все же удовлетворять пяти аксиомам Ле-Блаиа.
Это было заблуждением, но заблуждением очень привлекательным. Рассеять это заблуждение очень помогла, как ни странно, спутница моего детства, старая желтая электричка. И вот как это случилось.
РИСУНКИ НА СТЕНАХ КАНАЛА
По окончании института я был послан на знаменитый Рухш. Планета Рухш, открытая за два года до моего рождения, удостоилась пристального внимания космобиологов. По-видимому, на Рухше некогда существовала цивилизация, уничтоженная взрывом Аноиды – звезды, вокруг которой он обращается. Беспилотная космическая станция открыла на Рухше систему каналов, несомненно, искусственного происхождения. Вслед за ней на Рухш была послана экспедиция из четырех человек. Прожив там три года, они сделали много находок к, между прочим, нашли мраморную плиту, инкрустированную черным гнейсом так, что ее покрывали узоры, похожие на письмена. Все космолингвисты нашего института самым тщательным образом изучили фотографии этой плиты, но никому не удалось расшифровать начертанные ка ней письмена.
Вместе со мной на Рухш отправлялись известный космобиолог Михаил Грачев и космоархеолог Николай Дубницкий. Я, Грачев и Дубницкий должны были сменить трех из четырех человек, работавших там.
Добираться пришлось долго. Некоторое оживление в довольно монотонную жизнь на субсветовике вносили частые споры между Грачевым и Дубницким. Споры шли о возможности существования внеземных существ, внешне похожих на людей. Грачев считал, что это очень маловероятно, а Дубницкий искренне верил в такую возможность.
Мы прилетели на Рухш, когда в его северном полушарии стояло жаркое лето. Опустившись на грунт невдалеке от высокого купола, укрывавшего станцию, мы надели скафандры и вышли из корабля. Был вечер, но белый рухшнанский песок поминутно озарялся вспышками метеоров. Старожилы заключили нас в объятия, к после приветствий трое из них тут же улетели в субсветовике, вынуждаемые к этому астрономической обстановкой. Четвертый рухшнанский старожил отвел нас на станцию.
Когда мы разделись, умылись, напились чаю и наговорились о делах, хозяин показал нам свой альбом рисунков.
Сперва показалось, что рисунки не имеют никакого отношения к профессии хозяина, который был математиком. Но мы ошиблись, и наш хозяин – Петр Васильевич Баталов – вывел нас из заблуждения.
– Посмотрите еще раз, пожалуйста, на эти рисунки и ответьте мне, не находите ли вы в них что-то общее, – попросил Баталов.
Мы еще раз просмотрели весь альбом. Там были нарисованы десятки очень характерных и своеобразных рож.
– В рожах всегда что-то общее, на то и рожи, – сказал я.
– Рожа кое в чем подобна электрону, – спокойно заметил Грачев. – На это я обратил внимание, еще будучи студентом– Электрон существует не сам по себе, а рождает вокруг себя поле. Точно так же и рожа. Она существует не изолированно, а рождает вокруг себя некоторое эмоциональное поле, и хорошо ощутимое.
– Я скажу вам, что общего между всеми этими физиономиями. Они все нарисованы кривыми переменной кривизны, удовлетворяющими вот такому дифференциальному уравнению. – И, нагнувшись, Баталов написал на бумаге довольно сложную формулу.
– И этим объясняется сходство между физиономиями? – спросил Дубницкий.
– Я не знаю наверное, – сказал Баталов, – но думаю, что да. Я твердо убежден, что с выражениями лиц связаны определенные математические инварианты.
– Давно вы пришли к такому убеждению? – спросил Дубницкий, отхлебнув вина из бокала.
– Еще на Земле. Математическое исследование физиономий – это мое хобби. Но мои успехи пока еще скромны…
– Однако я не назвал бы скромными ваши художественные успехи, – сказал Дубницкий, указывая на совершенно ошеломляющую физиономию в альбоме Баталова.
– Эта физиономия построена исключительно при помощи моего уравнения и таблицы случайных чисел. Мое искусство здесь ни при чем…
Разговор кончился ничем. Мы все вскоре легли спать.
На следующий день утром мы отправились на место раскопок. С четверть часа Баталов вел планетоход по пустыне, лавируя между ослепительно белыми песчаными куполами. Потом впереди показался канал в жемчужно-серой мраморной одежде. Каменное дно канала покрывала тень. Вследствие необычайной прозрачности воздуха тени на Рухше были очень густыми, и канал казался бездонным.
Нырнув в его глубину, планетоход повернул налево и поехал по мраморному руслу.
Дорогой я поглядывал на погруженные в плотную тень, потрескавшиеся плиты, облицовывающие стены канала. Ехать нам пришлось минут двадцать.
В одном месте канал круто изгибался, и, когда мы там проезжали, меня вдруг на мгновение охватило то самое острое, щемящее чувство грусти, смешанной со страхом, которое я несколько раз испытывал в детстве, глядя на подходившую к перрону электричку. Однако я не придал этому значения.
Вскоре планетоход вынырнул из канала и подъехал к месту раскопок. Мы вышли из планетохода и осмотрелись.
Посреди песчаного карьера стоял маленький экскаватор, освещавший дно карьера тремя мощными прожекторами. В этих широтах Аноида никогда не подымается над горизонтом выше чем на двадцать с небольшим градусов, и если бы не прожекторы, то песок в глубине карьера был бы вечно погружен в плотную тень. Благодаря же прожекторам мы увидели на нем множество мраморных предметов. Там лежали бесформенные куски мрамора, граненые мраморные колонны, мраморные клинья и две больших мраморных плиты, полузасыпанных песком.
Часа полтора мы осматривали карьер, а затем поехали обратно, причем за руль планетохода теперь сел я; трое моих спутников разместились сзади на кожаных подушках.
Открытие, перечеркнувшее гипотезу Ле-Блана, было сделано нами совершенно случайно. Когда мы проезжали мимо места, где канал изгибался, в небе над нами ярко вспыхнул метеор, и в это мгновение прямо перед собой я отчетливо увидел чье-то печальное и немного страшное лицо, которое живо напомнило мне желтую электричку. От изумления я вскрикнул и остановил планетоход. Метеор потух. Ничего, кроме трещин на стене канала, теперь не было видно. Но вдруг в небе загорелись сотни метеоров. Начался один из самых сильных и продолжительных метеорных ливней, когда-либо наблюдавшихся на Рухше. Он продолжался более часа, и за это время мы успели осмотреть и стократно сфотографировать те странные рисунки, которые прежде, в полутьме, всегда принимались всеми просто за трещины на плитах, облицовывающих берега канала.
Долго и пристально смотреть на эти рисунки невозможно: начинает казаться, что вас обступают уродливые, угрюмые существа. Вас охватывает сильнейшее волнение. Становится невыносимо тоскливо. Вы чувствуете головокружение и страшную слабость.
Впрочем, так происходит, если смотреть на них издали. Когда же мы подходили к ним вплотную, то видели только тонкие кривулины, нарисованные черной краской на плитах канала в месте его излома.
Фотографируя эти рисунки, я еще дважды испытал ощущение, подобное тому, которое испытывал в детстве, глядя на желтую электричку. Когда мы закончили фотографирование и изучение рисунков, я, обращаясь к Баталову, сказал, что увиденное связано с некоторыми моими детскими воспоминаниями.
СЕКРЕТ ЭЛЕКТРИЧКИ
Вечером за ужином я рассказал моим товарищам о желтой электричке, о чувстве, которое я испытал в детстве, видя ее, и о том, что сегодня я испытал похожее чувство.
– Нарисуйте, пожалуйста, вашу электричку, – попросил Баталов.
Напрягая свою память, я сделал ка бумаге набросок передней части электрички.
– Я объясню, почему эта электричка произвела на вас такое впечатление, – сказал Баталов, – она качнула на вас волку символов печального человеческого лица.
– Но как? – удивился я.
– Вот посмотрите, в середине ее передней стенки помещается дверь, а по бокам двери – два окна. Дверь служила вашему воображению символом носа, а окна – символами глаз. Вы знаете, что когда брови, сближаясь, подымаются кверху, то лицо приобретает скорбное выражение?
– Но у электрички нет ничего, что могло бы быть принято за брови!
– Совершенно верно! Обратите, однако, внимание, как размещены ее окна-глаза по отношению к ее двери-носу. Они расположены очень низко. Теперь, как бы вы ни пробовали дорисовать здесь брови, вам придется нарисовать их подымающимися кверху от краев к середине.
Баталов нарисовал на моем эскизе брови и продолжил:
– Посмотрите на огражденную площадку, на которую ступал машинист, выходя из двери. Ваше воображение сочло ее разинутым ртом. Неудивительно, что электричка казалась вам одновременно печальной и немного страшной.
Я согласился с Баталовым, но заметил, что остается непонятным, почему, глядя на открытые нами рисунки, я испытал то же чувство, что в детстве при виде электрички.
– По-моему, – сказал Баталов, – я догадываюсь, в чем тут дело. Общеизвестно, что у нас есть врожденные эмоциональные реакции на выражения лиц. Но я думаю, что мы эмоционально реагируем не на выражения лиц собственно, а на некоторые математические соотношения, сообщаемые нашему подсознанию при помощи выражений лиц. По-видимому, могут существовать и другие посредники, способные передавать нашему подсознанию сообщения о тех же математических соотношениях
и вызывать у нас те же эмоции. Вероятно, кривулины на мраморных плитах являются такими посредниками. И когда вы их увидели под определенным углом зрения, они подействовали на ваше подсознание так же, как марсианская электричка.
– Надо думать, что эти кривулины гораздо интенсивнее, чем выражения лиц, сообщают нашему подсознанию математические соотношения, о которых вы говорите, раз они произвели на нас с вами такое сильное впечатление.
– Конечно! Я чуть в обморок не упал.
– Но для чего служили рисунки?
– Этого я не знаю.
Этого никто из нас так и не узнал до самого возвращения на Землю.
ГИПОТЕЗА ЙОВАНА ДОБРИЧА
Мы пробыли на Рухше больше года. В первые дин тщательнейшим образом обследовали весь канал и послали на Землю подробный иллюстрированный голографическими снимками отчет о нашем открытии. К отчету добавили изложение гипотезы Баталова о математической подоплеке выражений лиц. Не умолчали и об обстоятельствах, связанных с марсианской электричкой.
Долгое время мы искали на Рухше подобные рисунки, но затем оставили эти поиски, оказавшиеся безрезультатными. Зато сделали еще одну важную находку.
Как-то раз, раскапывая песчаный бугор неподалеку от нашего жилища, Дубницкий извлек из грунта обломок гнейса, на котором было высечено изображение человеческой фигуры. Оно было очень условно. По нему нельзя было достаточно полно представить себе того человека, которого оно изображало. Одно несомненно: это было изображением именно человека, а не какого-либо другого существа! Таким образом, старый спор между Грачевым и Дубницким решился в пользу Дубницкого.
В течение остального времени пребывания на Рухше никаких новых открытий мы не сделали.
Субсветовнк с Земли прилетел, когда ударили морозы. Нас сменила группа из восьми человек. Мы же четверо вернулись на Землю.
С гипотезой профессора Йована Добрича я познакомился спустя неделю после прибытия на Землю. Добрич явился в Космический Центр, где я читал лекцию об открытиях, сделанных нашей группой на Рухше, и, подойдя ко мне после лекции, сказал, что хочет познакомить меня со своей гипотезой. Ему было важно знать мое мнение, поскольку я являлся единственным космолиигвистом, побывавшим на Рухше.
Согласно гипотезе Йована Добрича могут существовать языки, в которых начисто отсутствуют сообщения о фактах. Такие языки Добрич назвал неизъявительными.
Любой земной язык выполняет две функции. Во-первых, он передает чувства. Во-вторых, он передает сообщения о фактах. Частью речи, служащей главным образом для передачи чувств, являются междометия. Частью речи, служащей главным образом для сообщения о фактах, являются имена числительные. Обычно в языке смешиваются обе эти функции. Речь человека одновременно и выражает чувства, и сообщает о фактах.
Этими двумя функциями не исчерпываются функции человеческой речи. Речь может выражать волю говорящего, побудить слушающего к выполнению некоторых действий…
Добрич предположил, что древние жители Рухша пользовались языком исключительно для передачи эмоций. Это не помешало нм создать цивилизацию, и вот по какой причине. Своей речью говорящий рухшианин вызывал у слушающего такое эмоциональное состояние, которое создавало у него внутреннюю потребность в определенных действиях, хотя ему и не было сказано, что он должен делать.
Зачаточные формы такого способа коммуникации можно заметить и у людей. Если некто будет всегда радостно и приветливо встречать гостя, он, и не приглашая гостя заходить почаще, вероятно, добьется того, что гость будет приходить к нему часто. Если же он будет встречать гостя всегда сухо и холодно, то, и не запрещая гостю приходить, он добьется того, что гость приходить к нему перестанет.
Способность однозначно отвечать действиями на разнообразные эмоциональные состояния у человека совершенно не развита. Но она могла быть развита у обитателей Рухша.
Профессор Добрич предположил, что на стенах рухшианского канала записан сложный текст на неизъявительном языке. Это могла быть, например, инструкция по проектированию каналов.
Однако, чтобы «прочесть» этот текст, древний рухшианин должен был пройти ряд разнообразных эмоциональных состояний, каждое из которых вызывало у него потребность в выражении этого состояния посредством определенных действий.
– Когда вам радостно, вам хочется танцевать, – говорил мне Добрич взволнованно, – а рухшианин мог, например, в этом случае захотеть перенести камень из одной кучи в другую…
Выслушав профессора Добрича, я сказал, что его гипотеза представляется мне очень правдоподобной.
Ныне обе гипотезы – и Петра Баталова и Йована Добрича – общепризнанны. Новые находки на Рухше подтвердили их и доказали, что «устной» формой общения древних рухшиан был обмен гримасами. Это доказывают снимки со скульптурной группы, найденной неподалеку от карьера. Страшные взрывы, пресекшие попытку землян извлечь из грунта эту скульптурную группу, заставили ученых отложить на время исследования Рухша. Но и уже собранные сведения в достаточной мере, подтверждают гипотезы Баталова и Добрича. Что до меня, то я нисколько не сомневаюсь в их справедливости…
Я горжусь своей причастностью к обеим этим гипотезам, но иногда сожалею, что никогда более не увижу на Марсе, покрытом ныне огромными городами и изборожденном автострадами, спутницы моего детства – старой желтой электрички.
Георгий Гуревич
НЕЛИНЕЙНАЯ ФАНТАСТИКА
(Из «Книги замыслов»)

Рис. Игоря Шалито
ТМ 1976 №№ 6–7
От редакции
Нам часто пишут молодые» начинающие фантасты, присылают свои первые произведения. И у всех один и тот же вопрос: что мне не удалось? Что сделать для того, чтоб рассказ получился лучше? Как стать писателем?
Как стать писателем – на этот вопрос так сразу и не ответишь. Но в поисках ответа полезно было бы заглянуть в творческую лабораторию писателя. Возможность такая есть – в рассказе Георгия Гуревича описываются размышления писателя над тем, каким суждено быть его будущему роману.
Раздумывая вместе с писателем над явно, нарочито выдуманной ситуацией, пусть даже и сдобренной изрядной дозой столь присущего Г. Гуревичу «нелинейного» юмора, мы видим, как из первоначального замысла прорастает основа – пока еще не во всем ясная – еще не родившегося творения, как появляются герои и вырисовываются их характеры, как, наращивая скорость, срывается с места сюжет, – да, есть во всем этом что-то похожее на труд архитектора, который не был бы архитектором, если б не видел одновременно и полный фасад воображаемого им здания, и рисунок капители какой-нибудь колонны…
Мы думаем, что рассказ Г. Гуревича будет столь же полезен для начинающих фантастов, насколько он оригинален и самобытен.
– Лист, – сказал главный. – Печатный лист. Сорок тысяч знаков, и ни единой запятой сверх того.
– Но я пишу роман, – сопротивлялся я. – В романе проблемы, характеры, конфликты. Характеры развиваются, конфликты переплетаются. Еще научная идея, ее тоже надо объяснить.
Редактор снисходительно положил мне руку на плечо.
– Георгий, ты отстал от жизни. Нашему читателю не нужны объяснения. Он грамотный, он подкован технически, он мыслит. Фантастику вообще читает по диагонали. Ловит намеки на лету, детали сам дорисует, довоображает.
– Довоображает?
– Безусловно.
– Хорошо. Тогда я изложу замысел, а читатель представит себе роман. Договорились? Пробуем?
Главный закашлялся.
– Ну чем мы рискуем, собственно говоря? – сказал он. – Мы экспериментальный журнал.
Итак, пробуем. Рискуем. «Диагональные», поддерживайте!
Ода сложности
Сейчас я задумал, пишу, напишу, если успею в этой жизни, роман под названием «Нелинейная фантастика».
Термин «нелинейная» взят у точных наук. В природе есть простые процессы, зависящие от одной причины, они описываются простыми линейными уравнениями с однозначным решением, единственным и безупречным. Нелинейные же процессы зависят от многих причин, и у нелинейных уравнений много решений – два, три… пять… пятнадцать, в зависимости от степени, действительные, мнимые… Путайся с ними.
С возрастом меня все больше увлекает сложность. Мне интересно прослеживать, как из лица выглядывает изнанка, как она превращается в новое лицо, как черное становится белым, а белое распадается на семь цветов радуги. Меня восхищает относительность пространства и времени, бесконечность космоса и неисчерпаемость электрона, переход количества в качество, единство и борьба противоположностей и отрицание отрицания. И мне все хочется рассказывать, как великолепно, увлекательно сложен мир, жизнь и человек.
Кажется, читатели пожимают плечами. Человек сложен! Да кто же не знает этого?
Все знают. Но забывают. Упускают из виду. О бесконечно сложном человеке говорят простенько: «скверный малый», «хорошая девушка». Да кто же из нас (из ваших знакомых) бывает всегда, при всех обстоятельствах, для всех на свете хорош или плох? Но и взрослые литературоведы делят героев на положительных и отрицательных, настаивают, чтобы писатели дали образец, достойный подражания. Даже ученые нередко утверждают, что природа склоняется к простоте, ищут простые законы…
Ничего подобного, природа ни к чему не склонна. Она бездушна и автоматична. Очень обширна и от обилия однообразна. Плодит очень много похожих тел: много звезд, много атомов, много песчинок, травинок, комаров. Но как же бесконечно сложен каждый комар! Нет, не природа,
это мы склоняемся к простоте. Я сам стремлюсь. Вот в пятый раз переписываю эту страничку о сложности, все пытаюсь вытянуть в линеечку спиральную пружину.
Дело в том, что простота проще, понятнее, доходчивее.
Простота легче, экономнее, рациональнее. Ехать по асфальту просто, прокладывать новую дорогу – сложно. Бессмысленно прокладывать новый путь для каждой поездки.
Простота производительнее. Работать автоматически проще, и руки рабочего движутся автоматически. Нельзя тратить время на обдумывание каждого движения. Шофер автоматически жмет на тормоза. Если задумается, будет авария. Задача обучения: привить автоматизм.
И так как животному словами не объяснишь, что оно должно стремиться к автоматизму, природа сделала так, что автоматичность приятна. А непривычное трудно, вызывает напряжение… даже стресс.
Нам тоже приятно простое и привычное. «Привычка свыше нам дана, замена счастию она».
Но у понятной, рациональной, производительной и приятной простоты есть и недостатки.
Во-первых, она приблизительна. Природа-то бесконечно сложна, простые формулы – это упрощение. Они правильны от сих и до сих, а где-то за горизонтом неверны.
Простота склонна к потребительству. Съесть обед просто, купить продукты в магазине – чуть труднее. Вот вырастить хлеб – намного сложнее. Послушать музыку просто, исполнить – сложно, сочинить достойное – еще сложнее. И так далее, подбирайте примеры сами.
Простота консервативна, кроме того. Ведь повторять просто, придумывать куда сложнее. И в результате простота не подготовлена к новому. Новое – не заасфальтированное шоссе.
Прогресс требует сложности, сложность – прогресса.
Но я хочу сказать не только о том, что сложность необходима. Она еще и увлекательна. Это очень хорошо, что природа бесконечна и бесконечно сложна. Простые-то истины давно известны, но на нашу долю осталось полным-полно непонятных сложностей.
Сложность щедра. Ибо простое, доступное давно используется. Но в бесконечной природе впереди всегда больше, чем пройдено. Впереди больше богатств, чем найдено.
Сложность тоже приятна, но по-своему. Она нелегка, но тем почетнее победа. Ах, невелика честь подняться на лифте на десятый этаж, но как же гордятся покорители вершин, где не ступала нога человека! Как приятно распутать клубок, который никто до тебя не распутал!
Славно, что природа заготовила для нас столько головоломок, что пространство и время относительны, космос бесконечен, электрон неисчерпаем, количество переходит в качество, превращается в свою противоположность и отрицается отрицание. Увлекательный мир. Великолепно сложный, великолепно запутанный!
Вот я и хочу написать книгу об этой сложности.
Инфант
Для иллюстрации мысли нужны примеры. Пожалуй, в строительстве можно найти немало. И не потому, что сам я инженер-строитель по образованию. Вообще ломать просто, строить посложнее.
Вот, например, проектируется самолет. Идет борьба прочности и легкости. Чтобы взлететь, нужен легкий корпус и мощный двигатель, но мощный двигатель много весит, нельзя ли его облегчить? Горючего взять
побольше? Но баки и горючее тоже имеют вес. Еще облегчить кузов? Непрочен будет. Сделать поменьше? Пассажиров будет меньше. Взлететь выше, где сопротивление меньше? Но для подъема нужна скорость, мощность, горючее. Выигрыш за счет формы, за счет обтекаемости? Ломают головы конструкторы, решают на ЭВМ нелинейные уравнения.
Нет, я не о самолетах напишу. У нас в фантастике фантастические примеры. Не самолет, а звездолет, не новое платье – новое тело. И если стройка, то планетарная: осушение целого моря, сооружение целого хребта, вкрест Уралу – от Карпат к Орску или от Финляндии на Норильск.
А что он даст, такой хребет? Что принесет, что испортит? Заранее надо бы проверить.
Вот для проигрывания самых фантастических мечтаний и создан Инфант – научно-исследовательский Институт нелинейной фантастики.
Всяческие идеи из сказок и умов мечтателей присылаются туда для опробования. Производится оно на моделях, технических и математических, как и в обычных институтах. Звездолет, или горный хребет, или скатерть-самобранку, или шапку-невидимку кодируют там, то есть превращают в милое изящное нелинейное уравнение с полудюжиной корней, переводят в двоичную систему, записывают дырочками на ленте и поручают решать послушной машине. И машина выдает решения, действительные и мнимые. А научные сотрудники пишут заключение: «стоит стараться» или же: «не стоит».
Кроме того, в Инфанте есть и еще одна машина – ППП, то есть Проектор Произвольных Параметров. «Произвольные параметры» в переводе на человеческий язык – это все, что в голову взбредет. А проектор – это экран, на котором показывается то, что взбрело. Видно, как будет выглядеть осушенное море, или скатерть-самобранка, и к лицу ли вам шапка-невидимка. В последнем случае ничего не будет видно.
Но частенько внешний осмотр дает слишком мало. Надо бы в деле испытать идею.
На одной всемирной выставке видел я дом, похожий на соты. Каждая сота – квартира, перед каждой – балкой. Твой балкой – крыша нижнего этажа. Выглядело оригинально, красиво, пожалуй, заманчиво. Но надо бы пожить в таком доме, испробовать, насколько это удобно.
Или новое тело. Тут баланс нужнее всего. Переделаешь тело неудачно, душу искалечишь. Необходимо пожить в нем, попробовать. А как попробовать?
Такую задачу решает лаборатория № 17.
Приглашаются герои
Я отвел Инфанту отдельный остров на Белом море. Рядом тундра, тайга, морские просторы – достаточно места для масштабных опытов.
В институте, как полагается, будут директор, научный руководитель, ученый совет и секретарь совета, старшие научные сотрудники, младшие научные сотрудники и хорошенькие лаборантки, столовая, бухгалтерия, получка 5-го и 20-го, клуб и танцы в клубе, предпочтительно – старомодные. Но я не собираюсь рассказывать обо всем. В центре будет лаборатория 17.
В кино на главные роли приглашаются артисты из других фильмов, проявившие талант, полюбившиеся зрителю и подходящие по внешним данным. Здесь я приглашу в лабораторию героев из других моих рассказов, людей талантливых, способных возглавить лабораторию, подходящих по характеру, – Гелия Десницкого и Бориса Борисовича – ББ.
Гелий – молодой инженер из «Месторождения времени» – человек с кпд около 1000 или 1200 %. Он изящен, с тонким лицом, нежным, деликатным голосом. Но больше всего на свете он любит спорить, чаще всего – с упрямой, неуступчивой неподатливой природой. В споре яростен, напорист, как носорог, забывает все на свете – деликатность, дипломатичность, интересы друзей, свои собственные. Уверен, что все на свете можно решить, все можно изобрести, лишь бы взяться как следует. Браться предпочитает с противоположного конца, еще не испробованного. Дело для него превыше всего, отраднее всего – победа над материалом.
Борис Борисович (из «Дельфинии») старше лет на двадцать, грузен, малоподвижен, предпочитает все свободное время проводить на кушетке. Любит вдумываться, любит солидные старинные книги средневековых или восточных философов, где каждая строчка многозначительна и иносказательна – этакий словесный ребус. Любит, когда к нему приходят гости изливать душу, не столько помогает, сколько сочувствует, так сказать, выслушиватель на общественных началах. Утверждает, что каждый живой человек интереснее романа, надо дать ему выговориться. Гелия тоже выслушивает охотно, чуточку с иронией, снисходительной. Уважает за энергию, напор и непреклонность и осуждает неуемную энергию, напор и непреклонность.
Я думаю, что они оба окажутся на месте в институте и в книге, где идет извечный спор сложности с простотой. ББ видит мир глубже, сложнее и склонен почтительно отступать перед сложностью. Гелий воюет со сложностями, чтобы подчинить и упростить. Глядя из окна на живописные холмы, ББ восхищается нетронутой природой. Гелий. глядя из того же окна, мысленно прокладывает шоссе. «Вы загадите чудесный лес», – вздыхает ББ. «Мне надо бетон возить», – отвечает Гелий.
Могу добавить, что ББ холост, хотя очень ценит нежную девичью красоту. У Гелия все время романы. Их много. Не хочется сплетничать.
Кролики Инфанта
Итак, события происходят в научном институте. Фантастику такого рода я окрестил лабораторной. Сюжеты у нее бывают двух типов: с узнаванием и без оного.
Сюжет без узнавания взрослее. Это просто психологический роман об ученых. Дан институт, научная проблема сообщается в первой главе, не засекречивается, читателя не интригуют. Дан, например, институт, идущий на грозу. Среди научных работников есть смелые, честные, бескорыстные, есть корыстные, бессовестные карьеристы. Идет борьба, честные, конечно, побеждают и попутно побеждают грозу.
Да, бывает так в подлинных институтах. Бывает изредка и иначе: честные и бесчестные бьются-бьются, колеблющиеся колеблются, равнодушные и трусливые стоят в сторонке. беспринципные переходят со стороны на сторону, а грозу побить не могут. Не дается в руки природа.
Сюжет с узнаванием занимательнее. Читателю не сразу сообщается, чем занят институт, автор о грозе помалкивает. Не знает этого и герой. Он посторонний. Самое убогое и серое – он скверный корреспондент, не ведающий, куда его послали. Или же – заблудившийся турист, или озорной мальчишка, перемахнувший через забор, или родственник директора. или чужестранный разведчик, или же жертва злоумышленных зарубежных ученых, похищенная, чтобы ставить на ней опыты. В этом варианте герой ничего не знает, ловит намеки, складывает догадки, читатель гадает вместе с героем.
Инфант настойчиво толкает меня на сюжет с узнаванием. Лаборатория № 17 занимается примеркой тел. Примерка идет на потребителя, не на профессионалов. А потребители – посторонние. Притом люди без специальности, без квалификации. Специалисты не поедут на Белое море в неведомый НИИ.
Без квалификации, но не малограмотные. Нужны такие, которые сумеют внятно рассказать, как они себя чувствуют в новом теле. Лучше – с законченным средним образованием. И вероятно, холостые, поскольку семейные тяжелее на подъем.
Ну вот и определился круг выбора. Холостые, грамотные, без квалификации. Значит, окончили десятилетку, в институты не поступили. Молоды, свободны, немного растерянны, склонны нырнуть в неведомое.




