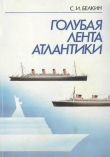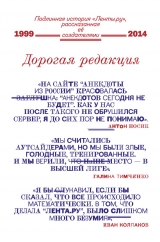
Текст книги "Дорогая редакция. Подлинная история «Ленты.ру», рассказанная ее создателями"
Автор книги: авторов Коллектив
Соавторы: Иван Колпаков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Игра в рекрутинг
Чуть ли не самым сложным в строительстве «Ленты» оказался поиск новых сотрудников. Издание расширялось, появлялись новые вакансии, старые сотрудники иногда уходили делать карьеру в другие места. Профессии «интернет-новостник» как массового рыночного явления в начале 2000-х еще не существовало. Это была пограничная специальность – потенциальный «редактор» должен был не только уметь писать, но и быть достаточно технически продвинутым: десять лет назад умение пользоваться Интернетом было отнюдь не само собой разумеющимся навыком. Наконец, от соискателя требовалось, что называется, «общее развитие»: писали мы практически обо всем, поэтому минимальные познания в географии, истории и прочей «матчасти» редактору были нужны не меньше, чем грамматика с пунктуацией.
Кроме объективных сложностей, вызванных дефицитом кадров, рекрутинг осложняла наша собственная неопытность. С энтузиазмом неофитов-дилетантов мы сочиняли невероятно творческие и неформальные объявления о вакансиях и тестовые задания. Сейчас, когда я перечитываю тогдашние творения нашего коллективного эйчар-гения (спасибо «вебархиву», тексты древних ленточных вакансий до сих пор доступны), у меня горят уши. Но тогда это было страшно весело и интересно.
« Работа напряженная и нервная, поэтому на эту позицию рекомендуется претендовать лицам мужского пола, уже достигшим консервативного совершеннолетия, но еще не уставшим от жизни, не имеющим серьезных проблем со здоровьем и временем. Также от сотрудника ожидается готовность проводить на работе столько времени, сколько потребуется, чтобы поддерживать раздел в идеальном состоянии – людям, принципиально покидающим рабочее место в 18:15, просьба не обращаться. Кроме того, вакансия не предназначена для убежденных сторонников здорового образа жизни, которые в стремлении избежать рака легких отравляют жизнь окружающим в вербальной форме», – так мы, например, в ноябре 2002 года искали редактора рубрики «Экономика». Сегодня этот абзац нарушает сразу два закона, а 12 лет назад я даже не понимал, что это, в общем-то, обычное хамство.
Тестовые задания были предметом особой гордости (я и сейчас так думаю). Например, соискателю предполагалось переписать в формате новости басню «Ворона и лисица» или стихотворение «Анчар». Здесь фишка в том, что сразу можно было выяснить, понимает человек, как устроены новости, или нет. В обоих случаях достаточно было всего лишь развернуть повествование, вытащив в начало собственно событие, так называемый «информационный повод» – хищение сыра лисицей или что-нибудь из финала «Анчара» (применение токсинов против соседей или гибель раба-курьера – годились оба варианта). Все остальные обстоятельства попадали в категорию «бэка» («бэкграунда»), описывали предысторию и, соответственно, должны были излагаться уже после. Большинство претендентов этого не понимали и, в лучшем случае, пытались пересказать источник в той же последовательности, но специальным «официальным» «новостным», как им казалось, языком. К тяжелым же случаям относились попытки совместить сюжет источника с текущей новостной конъюнктурой: в «Анчаре» появлялся князь Саддам Хусейн, ядовитый кустик превращался в химическое оружие и т. д.
Тех, кто более-менее успешно продирался через тестовое задание, приглашали на собеседование. Оно на 90 процентов было посвящено оценке того самого «общего развития» – бессистемное интервью, больше всего напоминающее телешоу «Своя игра». Взволнованного кандидата встречала высокая комиссия из пары шеф-редакторов, позже – главреда с парой заместителей, которые поочередно долбили бедолагу на ходу придуманными вопросами. Мой любимый «чем крылатая ракета отличается от баллистической?» коллеги мне припоминают до сих пор, иногда в абсолютно необоснованном фрейдистском контексте.
Нетрудно догадаться, что КПД нашего веселого рекрутинга был не слишком высоким: прослойка людей, готовых терпеть эти издевательства, но при этом на что-то годных, была очень узкой, и поиск новых сотрудников происходил трудно и медленно. Нас можно понять: мы хотели работать исключительно среди симпатичных нам людей, с непременным чувством юмора, без лишних тараканов в голове, с понятным и похожим образом мыслей. Как ни странно, этот абсолютно непрофессиональный подход породил в итоге очень веселую и дееспособную компанию и сделал ленточную редакцию очень уютным местом работы.
Впоследствии, когда редакция разрослась до полусотни человек и кадровая проблема потеряла свой первый номер, мы стали подходить к поиску сотрудников серьезнее и технологичнее: объявления о вакансиях перестали напоминать КВН, тестовые задания сменились оплачиваемыми продолжительными стажировками. Но это уже ничего не могло испортить – новички вливались в устойчивую среду.
Мелкие странности
Примечательно, что в ранней «Ленте» почти не было журналистов, что называется, «по образованию». То ли выпускники журфаков еще не переориентировались на Интернет, то ли еще что-то пошло не так, но те немногие соискатели вакансий, у которых был профильный диплом, нам совершенно не подходили. Со временем аномалия стала менее выраженной, но дипломированные журналисты по-прежнему не составляли в «Ленте» большинства.
А вот кого в «Ленте» всегда было много – так это филологов (покажите мне московский офис, в котором мало филологов, и я скажу, что это банк). Иногда с ними было сложно. Все-таки годы учебы задают свои приоритеты. Как правильно – в Сочи или в Сочах? А если в Мытищах? В Пушкино или в Пушкине? В Косово или в Косове? Патриарх с большой или с маленькой? А папа римский? Выяснение подобных (ну или чуть более сложных) вопросов могло длиться неделями, порой казалось, что именно правильное написание имеет основное значение, а не то, что происходит в этом самом Косово(-е) и с этим самым П(п)апой. Спасало только то, что основной административный ресурс находился в руках у медиков (Тимченко и Носика) или технарей-недоучек (да).
Тем не менее пристальное внимание к языку не только благотворно сказалось на стилистике ленточных текстов, но и очень помогло в некоторых специфических областях. В «Ленте» всегда было много переводных новостей – английский большинство худо-бедно знало, но вот транскрибирование имен и названий… Думаю, что оно до последнего доставляло некоторое количество хлопот, но в начале это был форменный ужас. Привыкнуть, что в японском языке нет «ш», что в испанском j читается как «х», что у корейцев «р» и «н» – одно и то же, а прочтение фамилий вообще лучше делать по специальной таблице, что немецкие умлауты в английской раскладке передаются дифтонгами – и так до бесконечности. Город Хухуй переходил из испанских рук в португальские (становясь Жужуем) и обратно по нескольку раз в год, Иерихон превращался в Джеричо, генерал-майор Гиора – просто в Жору МейГена, Еврейский университет – в Университет Хербрю… Благодаря упрямству наших филологов со временем эту стихию удалось загнать в более-менее приемлемые рамки, в редакции появились словари, на внутреннем сервере – таблицы транслитерации, справочники и инструкции, а главное – возникла привычка задумываться: как же это будет по-русски?
Рассказывая про «Ленту», невозможно не вспомнить ночную смену. На круглосуточное вещание мы перешли в первый же год работы, и тогда начало формироваться это своеобразное подразделение. Ночная работа предполагала намного больше ответственности и самостоятельности – смена была малочисленная, крайне редко в ночь выходило больше двух человек. Естественно, вся она состояла из выдающихся личностей – так или иначе. Самым любопытным были отношения ночников и дневных. Первые поглядывали на своих коллег свысока, вторые возмущались расслабленностью первых. Ночная смена традиционно начиналась с обсуждения того, сколько дневные не успели написать, дневная, соответственно, приходила в ужас от количества пропущенных в течение ночи поводов. Поскольку встречались дневные с ночными редко и ненадолго, большая часть обвинений выдвигалась заочно, что всех вполне устраивало.
Именно ночной смене «Лента» обязана самым смешным (в тот момент мне так не казалось) ляпом за всю свою историю. Давным-давно одному из новых ночников выпало писать новость, где в бэкграунде мимоходом упоминалось о назначении очередного российского премьера. Пока редактор готовил текст, фамилия нового председателя правительства вылетела у него из головы, но чтобы не отвлекаться на ее поиски, он временно вставил вместо нее слово «Пиписькин». А перед публикацией забыл заменить. Редактор спохватился практически сразу, на самой «Ленте» заметка так и не успела появиться. Но, как потом выяснилось, ровно в эти 30 секунд произошла автоматическая отправка rss-потока в сервис «Рамб-лер-Новости», где информация о назначении Пиписькина главой правительства стала всеобщим достоянием. Разумеется, со ссылкой на «Ленту».
Кроме того, с ночной сменой у меня связано переживание личного характера. Строгого начальства (а я тогда был, кажется, шеф-редактором) из меня никогда не получалось; присматривая за ночниками, я спокойно относился и к чаепитиям, и к опозданиям, и к законному желанию одного из двух редакторов поспать пару часов. Но одна девушка все же сумела потрясти меня до глубины души. Когда я глубокой ночью зашел проверить, как у нее дела, то обнаружил, что единственный редактор ночной смены сидит перед монитором и вяжет. Спицами. Считая петли и не глядя на экран. В этом было что-то настолько противоестественное, что я так и не нашелся, что сказать, просто тихонько вышел. Если бы она спала, употребляла наркотики или ушла домой, это было бы, конечно, неприятно, но обыкновенно. Однако она вязала. Не знаю, как объяснить. Просто попробуйте представить себе оранжевое небо, игральную карту зеленой масти или клетчатую собаку.
В остальном наша ночная смена была, конечно, совершенно героическая.
Одно время в редакции была еще одна странноватая должность – «девочка-дебил». Несмотря на дурацкое название, это был очень важный человек – от него зависело иллюстрирование доброй половины ленточных новостей. Дело в том, что в начале 2000-х покупать фотографии у агентств или у фотографов-фрилансеров никому даже не приходило в голову – всемирная борьба за авторские права только начиналась. Все, что можно было найти в Интернете, автоматически считалось бесплатным и общим, потому что оно «лежит в открытом доступе». Поэтому мы довольно долго просто воровали фотографии, совершенно не задаваясь ни моральной, ни юридической стороной вопроса. Честно ссылались на источник и были уверены, что все делаем правильно. Впрочем, покупку иллюстраций мы бы все равно не осилили, так что, всплыви тогда моральные проблемы, мы бы от них просто отмахнулись.
Самым удобным источником была новостная секция портала Yahoo! – Yahoo! News. Они публиковали иллюстрированные новости ведущих мировых агентств. Тексты мы использовали как источник (это до сих пор законно, если речь не о буквальном переводе), а фотографии «брали со ссылкой». Кончилось все иском от Reuters на какую-то очень крупную сумму. С ними удалось договориться, для чего пришлось удалить с сервера несколько тысяч картинок (включая 50 одинаковых изображений разъяренного Майка Тайсона), а также заключить контракт на покупку их фотоленты. Кстати, через год-два, умиротворив Reuters, мы отказались от него в пользу Agence France-Presse, чья фотолента тогда была намного лучше русского сервиса Reuters при вполне сравнимых ценах.
Но краденые фотографии обеспечивали только половину ленточных потребностей – в основном в том, что касалось зарубежных новостей. Российские события мы чаще всего иллюстрировали кадрами телеканалов, полученными путем захвата изображения. В один из редакционных компьютеров была встроена плата обычного бытового ТВ-тюнера. Среди прочих функций там была очень полезная кнопка F2. При нажатии на нее текущий телекадр сохранялся в виде обычной jpg-картинки. В задачи бильд-редактора входил просмотр всех новостных выпусков, ловля подходящих кадров и последующее их занесение в самодельную фотобазу.
Поскольку тюнер был дешевенький, нормальный кадр получался в одном случае из десяти, и во время новостного выпуска бильд-редактор больше напоминал сумасшедшего телеграфиста: неподвижный взгляд устремлен на экран, а указательный палец исступленно выбивает морзянку кнопкой F2. Отсюда и «внутреннее» название должности – «де-вочка-дебил».
С этим названием однажды получилась неловкость. Мы расстались с очередным бильд-редак-тором и отсматривали кандидатов на нового. По окончании собеседования с тихой юной девочкой Таней я обрадованно объявил редакции, что мы нашли новую «девочку-дебила». Конечно, надо было подождать, пока за ней хотя бы закроется дверь.
Хотя никакого шовинизма тут, конечно же, не было. Дольше всего бильд-редактором «Ленты» проработал человек по имени Стас, похожий на девочку меньше, чем кто-либо в редакции за все времена.
Телевизионные кадры, или «каптуры» (от английского capture), довольно долго были одним из главных источников иллюстраций. Благодаря высокой частоте съемки иногда удавалось поймать удивительные выражения хорошо знакомых лиц. Такие кадры помещались в базу не просто с подписью в виде фамилии, но и с описанием выражения: «злой», «смеется» или просто «рожа». Кроме того, при желании можно было собирать из них довольно интересные коллажи. Однажды наш ТВ-тюнер даже отметился на страницах журнала «Власть». После одной из «больших пресс-конференций» Владимира Путина, в ходе которой президент довольно активно жестикулировал, мы подарили «Власти» коллекцию «каптур», по которой они с помощью сурдопереводчика попытались расшифровать тайное послание президента. Получилась, разумеется, полная ерунда, которая тем не менее пошла в номер.
Когда в Рунете началась кампания против пиратства, мы стали опасаться, что в один прекрасный день ВГТРК, «Первый канал» или НТВ, по примеру Reuters, могут прийти к нам с иском. К счастью, их юристам это либо не пришло в голову, либо мы были для них слишком мелкой добычей. Но ничего невозможного в этом не было: много позже какая-то из крупных киностудий (кажется, «Мосфильм») запретила нам использовать в качестве иллюстраций кадры из старых советских фильмов.
Со временем качество телевизионных картинок перестало нас устраивать, а бюджет уже позволял легально приобретать фотоленты в том числе и российских агентств. И наша уникальная технология незаметно скончалась – вместе с альтернативным названием должности бильд-редактора.
Чистая и искренняя
Одна из самых неприятных сторон работы в онлайн-издании связана с «близостью» читателя к редакции. Точнее, с близостью определенной части читателей. Конечно, любой человек может написать письмо в газету или на ТВ или дозвониться в эфир радиостанции, но это все же требует усилий, такая обратная связь не носит массового характера и затрагивает очень небольшую часть коллектива. Совсем другое дело – сайт. Сотрудники онлайн-СМИ узнают о себе правду ежеминутно. Чаще – неприятную.
Задолго до появления соцсетей и твиттера все мало-мальски крупные издания обзавелись сервисами комментирования заметок, в просторечии форумами. Штука чрезвычайно полезная – только не надо рассчитывать на содержательную дискуссию. Форум полезен сам по себе: он увеличивает время пребывания пользователя на сайте, глубину просмотра, частоту возвратов и прочие «коммерческие» характеристики. Законов, которые обязали владельцев отвечать за содержание форумов, тогда еще не было и в помине. Единственный недостаток форумов – урон, причиняемый хрупкой психике редакторов.
Первым делом мы с какой-то даже растерянностью обнаружили, что огромное количество «пишущих» читателей прямо-таки готово положить жизнь за чистоту и правильность русского языка. Редкое указание на опечатку, а уж тем более ошибку не сопровождалось требованием немедленно уволить редактора и нанять корректора (само требование могло при этом быть изложено сколь угодно безграмотно).
Корректоров в «Ленте», кстати, не существовало чуть ли не с 2001 года: несколько экспериментов показали, что одним корректором мы явно не обойдемся, а ресурсов на целый отдел, разумеется, не было. Кроме того, внутри редакции отношение к случайным опечаткам было довольно спокойное, всех намного больше заботил смысл. Самые выдающиеся ляпы коллекционировались и служили предметом гордости, полушутя обсуждалась идея введения контролируемых юмористических опечаток – для вирусного повышения читаемости.
Но опечатки были не самым страшным преступлением. Следующими по тяжести шли фактические ошибки. Они случались намного реже, как правило – в научных или технических новостях. Их появление было неприятно, но практически неизбежно: редакция из 30 человек не может держать специалистов по всем возможным направлениям. Поэтому нет-нет, а у кого-нибудь из редак-торов-гуманитариев сигнал радиомаяка пробивался через 100-метровую толщу морской воды, напрочь игнорируя физические законы. Тогда с форума поступал ответный сигнал «учите матчасть». В этом случае основной эмоцией была не ярость, а брезгливое презрение. Реже – предложение нанять специалиста, в качестве которого выступал автор этого предложения (один раз мы так и сделали – ничего хорошего из этого не вышло).
Но хуже (и чаще) всего нам приходилось, когда форумчане начинали подозревать редакцию в ангажированности, отдании предпочтения какой-либо стороне конфликта. В этом случае все лексические и эмоциональные ограничения отбрасывались полностью.
Вообще говоря, миф о поголовной продажности «журналюг» – отдельная тема, она куда шире, чем история «Ленты. ру», здесь ей не время и не место. Всего одно замечание: «Ленте» очень сильно повезло. Созданная на деньги ФЭПа с задачей поддержать Владимира Путина на его первых президентских выборах, она очень быстро перешла в собственность холдинга «Рамблер», после чего на долгие годы забыла о самой возможности вмешательства в редакционную политику со стороны руководства или рекламного отдела.
Поэтому, разумеется, все обвинения в продажности, звучавшие на форуме, вызывали в редакции искреннюю обиду: «И где же наши деньги?» Доходило до абсурда: во время обострения известного конфликта на Ближнем Востоке к одной и той же заметке претензии в ангажированности могли одновременно возникнуть у радикалов и с той, и с другой стороны.
Если добавить к этому, что первый ленточный форум имел очень простой механизм авторизации при довольно слабой системе модерации, нетрудно понять, что в редакции его иначе как «помойкой» не называли. Единственным несомненным плюсом была опция, переводящая особо неприятных собеседников в режим монолога: написанное таким пользователем видел только он сам. Некоторых это не останавливало, отдельные рекордсмены ухитрялись неделями беседовать с пустотой, не смущаясь отсутствием какой-либо реакции.
Но если серьезно, то поток форумной неприязни куда вреднее, чем может показаться на первый взгляд. И дело совершенно не в том, что ленточные редакторы изготовлены из какой-то особо нежной органики. Тут возникает парадокс. Внутри «Ленты» всегда декларировалось, что читатель – наше все. «Мы работаем на читателя, а не на хозяина!» – это же так гордо звучит. Практически миссия. Но то лицо читателя, которое мы видели благодаря форуму, состояло из одного большого рта, окруженного брызгами. И можно сколько угодно себя уговаривать, что остальные 99,99 % – хорошие и добрые люди, благодарные нам за нашу работу и снисходительные к нашим косякам, осадок все равно накапливался и сбивал с толку.
В итоге тот первый форум мы в конце концов все-таки закрыли.
Развитие соцсетей, кстати, должно было разрядить ситуацию. У редакторов появилась возможность снимать стресс, отвечая на нападки (на ленточных форумах это, мягко говоря, не приветствовалось). Некоторые даже вошли во вкус и успешно освоили тактику контрнаступления. До сих пор не пойму, хорошо это или плохо.
Раньше я был совершенно уверен, что единственный инструмент общения новостника с читателем – это сами новости, основное содержание СМИ. Участие в сетевых дискуссиях мне всегда казалось неоправданной тратой времени и, если уж на то пошло, несправедливостью по отношению к «молчаливому» пользователю, который имеет столько же прав на внимание. С другой стороны, за последние годы «Лента» очень преуспела именно в активном общении в соцсетях. В любом случае это разговор про совсем другую работу.