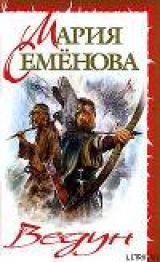
Текст книги "Ведун (сборник)"
Автор книги: Августа Лазар
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
11
Поближе к утру Добрыня перевяжет Найдёнкину косу верёвочкой и срежет её у затылка. А потом пойдёт с этой косой к Жизномиру, понесёт честный откуп за умыкание сестры. И ещё вено за то, что она его, Добрыню, разула, стала его женой.
– Вы, детки, теперь на реку сходили бы, – присоветовала им Доброгнева. – Поклонитесь ей, пускай она знает.
Ну, мудрая бабка! Как затеет Жизномир суд-тяжбу да закричит испытывать водой, кто прав, кто виноват – неужто не поможет река-мать тому, чью клятву слыхала?
– Ты не ходи, – сказал мне Добрыня. – Тут посиди, мало ли что.
Дома так дома, мне всё равно. Но старая воспротивилась:
– Пусть, пусть идёт. Лишний видок будет, а и князю он ведом!
Добрыня не стал ей возражать, велел мне обуваться.
Одну собаку он привязал возле ворот, другая побежала за нами. Подле дома слыхать было тишину, в которой стыли вокруг города исполинские, заваленные снегом леса… Тяжкий мороз, будто горстью, накрыл птицу на гнезде и зверя в логове – как они, согретые лишь собственным теплом, мыслили пережить эту ночь?.. Воздух и тот казался густым, горло сжималось само, не хотело его принимать…
Над рекой стояло мертвенное сияние, у берегов залегла кромешная темь. Добрыня с Найдёной спустились на самый лёд, мы со старой остались их ждать. Муж и жена низко поклонились реке.
– Помнишь ли, государыня Мутная, – сказал ей Добрыня, – как мы с невестой моей вот здесь при тебе в любви обещались?
Гул прокатился меж берегов и завершился громким треском прямо около нас! Это под пятою мороза лопался крепкий прозрачный лёд. Я невольно поёжился и тут почувствовал, что начинаю дрожать… должно быть, от стужи…
– Мы с нею друг от друга и от клятвы своей не отступили, – продолжал мой хозяин. – И ты не выдай теперь, река-мать!
Достал из-за пазухи целый, ещё тёплый хлебушко, наклонился и опустил его в трещину, жадно отверзшуюся, как я тут только приметил, у самых его ног… Толкнул приношение под лёд. Отступил назад, на твёрдый берег, и я задрожал пуще: причудилось, будто трещина-полынья на глазах стала смыкаться…
Но не судьба была в ту ночь девке Найдёнке спрятать остриженную голову в новую кику и стянуть любимому с резвых ног сапожки, становясь перед людьми мужатой женой. Не успели мы толком отойти от реки, когда на ночной снег легли медные блики! А чуть погодя начало восходить над домами, над заметёнными крышами, страшное багровое зарево. Пожар!
Добрыня мой сперва остановился в недоумении. А потом опрометью кинулся вперёд, и остроухий пёс с воем полетел перед ним. Я пустился вдогон, и лишь когда мы с ним уже топали плечо в плечо, запоздало смекнул: да это же наша изба горела! Это на его, на кожемякин двор залетел гость незваный – злой красный петух!
Никому не доведись увидеть, как горит его дом… Я-то это раз уже испытал: в то ясное пригожее утро, когда Олав, собака смердящая, со своими зипунниками-урманами наш двор вычищал.
Это страшней страшного, когда горит дом. И даже если нет в том доме людей. И даже если это совсем не твой дом! Всё пожрёт ненасытный огонь: и самые стены, и лавки по стенам, и полати, и крышу, и траву, что на той крыше растёт. И колыбельку, в которой качала тебя родная рука и в которой ты сам качал маленькую сестрёнку. Вспыхнет и станет пеплом соломенная куколка, твоих рук труд, а в ней каждая соломинка тебе ведома. А кукла берестяная скорчится от жара и будто поползёт, обугливаясь, к порогу, и в смертном отчаянии потянется к тебе – спаси!
И ещё тому добро, кто не видел, как прыгает в это пламя живой человек и исчезает в нём, в багровой круговерти, и сам становится языком огня… Потвора, Потворушка, сестрица милая!
…И тогда же, пока бежали задворками, меня как стукнуло: не само вспыхнуло – подожгли! Я же помнил, бабка выгребла из каменки жар и спрятала в горшок. А тут пылало так, будто по всем углам нарочно раскидали солому! Вот мы вомчались в ворота, и точно: пёс-сторож лежал зарубленный на почерневшем снегу! А дом горел костром. Видать, сильно досадил кому-то мой усмарь, ведал же вор, какой грозе себя подставил: доищутся – самого и семью на разграбление да на поток, а допрежь ещё заставят погоревшему убыток платить. Оттого-то поджогом мстит только тот, кому нечего терять, кто и так всё уже потерял.
Дом колебался в вихре огня, на глазах погибало всё нажитое за годы: утварь и кожи, бабкина резная прялка и мой так и не доделанный мячик… Всё, что мы могли ещё совершить, это помочь уберечь соседние дома, из которых выбегали испуганные, наспех прибранные люди. Вот-вот чёрными птицами полетят по дворам горячие головешки – долго ли всему городу заняться!
Добрыня молча схватил багор, лежавший у него под навесом, за чанами, и кинулся на огонь, будто на лютого змея: умру, мол, а не пропущу…
Много труда приняли мы в ту ночь. Не мы одни: как оборониться от беды, если не сообща? Народу набежало отовсюду – кто с шестами, кто с баграми, кто с вёдрами. И княжьи из крепости подоспели, приодетые, в чём сидели на пиру, в том сорвались. И тоже кинулись, будто в бой. Ни себя не щадили, ни праздничных одежд. Сгорит город, больше утратят!.. Я мельком разглядел меж ними Жизномира и улучил миг подивиться: надо же, вроде и сердце держал на моего усмаря, и обиду злую ему затевал, а ныне вот катил прочь дымившееся бревно и походя тушил снегом дорогой затлевший рукав… и, кажется, даже щёку себе обжёг…
Я уже думал – век вечный буду тащить что-то из огня, руками в волдырях хватать когда топор, когда деревянные вёдра, бросаться то от дома, то к дому – с мороза в бешеный жар!
Добрыню несколько раз окатывали водой, чтобы заживо не сгорел. Лез парень вперёд всех, в самое пекло, одежда на нём вспыхивала то и дело. А водичка была – в десяти шагах от огня плевок мёрз на лету. Тут думай, как бы не застыл ещё да не слёг, даром что ростом не про всякую дверь!
А потом всё кончилось как-то сразу, и люди отступили от ещё шевелившейся, но уже замирённой груды посреди двора, и смолкли, охрипшие, начиная понемногу распознавать ожоги и усталость.
– Добрынюшка!.. – закричала вдруг Найдёнка, и я, опустивший было руки, так и подскочил: неужто впрямь что с усмарём? Но Добрыня стоял жив-здоров, и тогда я оглянулся и увидел, что бабка Доброгнева оползала на руках у Найдёнки, и девка не могла удержать её, разом отяжелевшую, неживую. Не выдержало старое сердце гибели родного гнезда…
12
– След гнать надо! – сказал Добрыня сквозь зубы. – Татя искать!..
Он озирался. Бедная Доброгнева лежала на земле, с головой завёрнутая в чей-то плащ.
– То правда, пса-то зарубили ведь, – сказал Жизномир. – Да топором вроде!
Он стоял рядом с Добрыней, будто и не водилось между ними худого. Был красен и всё утирал распаренное лицо. А на щеке и впрямь тугим пузырём наливался ожог.
Гуннаровы урмане держались чуть поодаль от нас, своей кучкой, и негромко переговаривались. Асмунд-кормщик заматывал Гуннару Сварту окровавленную руку, и тот смотрел на неё спокойно, как на чужую. Только знай покашливал в кулак – досыта надышался, поди, чёрного дыма. А мало ещё тебе, вражина, досталось, подумал я и отвернулся, не мог на них смотреть. А сгореть бы тебе смертью огненной в этом дому! А не в этом, так в другом каком! И тебе, и всем твоим, и самой твоей Урманской земле!..
Ещё я увидел между княжьими мальчишку Дражка. Ну как иначе – все на пожар, и он на пожар, куда без него! Вот только почему-то он не лез вперёд и не вертелся, как обычно, под ногами у старших. А вроде даже прятался позади других и всё руки за спину убирал. И странно кривился лицом, кусая губы, будто должен был что-то сказать и не мог, и не хотел, и мучился этим.
Жизномир наклонился над убитой собакой, перевернул её, внимательно оглядел, покачал головой. Потом выпрямился и вдруг закричал на Дражка:
– Ты что там ещё прячешь? А ну покажи!..
Все обернулись! Дражко поплёлся к Жизномиру, повесив голову, как виноватый. Кто-то из варягов сердито заворчал: полно, мол, оставь мальца-то, не он же, в самом деле, поджёг! Да и где ему такого пса зарубить! А Жизномир, не слушая, нетерпеливо шагнул к Дражку и выхватил у него кусок толстой ткани:
– Где взял?!
– У собаки… из зубов вынул… – простонал тот и разревелся. – Только не он это! Не он!..
Вырвался, заплакал уже в голос и побежал прочь, спотыкаясь. Налетел на меня и уткнулся носом мне в грудь, вздрагивая, будто от боли. Я его обнял. А люди плотно придвинулись к Жизномиру, разглядывая улику, и почти сразу кто-то яростно закричал:
– Да это от плаща кусок, что Гуннар Чёрный носит!..
Услыхав такое, я прямо задохнулся. Да как сразу-то не догадались? То правда – кому бы держать зло на Добрыню, если не ему?.. Думал, разорвут их всех на куски, Гуннара и других, здесь же, у пожарища, и кому какое дело, что они помогали тушить! Вор всегда громче всех кричит, чтобы вора держали!.. Но радовался я рано. Мореходы мгновенно ощетинились мечами, смыкаясь в круг, да и княжьи бросились между ними и нами.
– Стойте вы!.. – раскидывая руки, что было мочи закричал Жизномир. – Негоже так! Суд надо судить!..
Это многих образумило. Действительно, негоже без Правды, без суда. Надо же хоть выслушать, что скажут!
Мой Добрыня вышел вперёд других. Обгорелые волосы перьями торчали из-под шапки. И бабушку Доброгневу несли мимо на чужом плаще, в чужой дом.
– Ты, тать заморский!.. – сказал он Гуннару Сварту. – Ты почто избу мою сжёг?!.
Страшно было на него смотреть! Гуннар тоже подался вперёд, раздвинув своих. Кажется, он один среди них был безоружен. Он отозвался:
– Это вправду мой плащ, но твоего двора я не поджигал.
– А кто же, если не ты? – спросил кожемяка, и голос задрожал не от горя, не от обиды – от ярости, готовой вырваться из узды. – Кому ещё понадобилось?
Гуннар покачал смоляной головой:
– Я не знаю. Надо подумать.
– Думай!.. – уже во весь голос крикнул Добрыня. – На суд тебя, разбойника, призываю прилюдно!..
Вот на том и порешили тогда. Идти до утра Добрыне к соседям, вызвавшимся приютить, а урманам – на княжеский двор, где они так и жили в гостях. А назавтра сойтись им друг с другом перед князем, судиться судом. Там видно станет, кто перед Правдой чист, а кто лжой себя измарал. Утро, оно вечера мудреней…
– Слыхала, что ли? – сказал Жизномир сестре. – Иди-ка домой!
Я ждал, спрячется Найдёнка за широкую Добрынину спину да закричит оттуда с плачем – никуда, мол, с тобой не пойду! Да у людей защиты попросит. Не так вышло. Гордо ответила, спокойно:
– Дом мой сгорел, Жизномир. А пойду туда, куда муж меня поведёт. И не ты теперь мне указ!
И рука её приросла к усмарёвой обожжённой ладони – не разорвёшь! У Жизномира прямо скулы свело, и я перепугался: как начнёт спорить с ней да доказывать, что всё лжа, да выспрашивать, кто, мол, свадьбу-то видел? Но он не стал перечить сестре. Я потом только понял: не посмел…
Княжьи ушли обратно к себе, увели с собою урман. А мы долго ещё бродили по пепелищу, остывавшему на морозе, ворошили палками шуршавшие головни: может, уцелело хоть что?
Дым развеялся, и снова светила луна, а к ней подползали от края земли тёмные облака. И я заметил, как сбоку кострища, из кучи обгоревшего корья, что-то блеснуло. Разгрёб ногой мокрую, уже смерзавшуюся золу – и из-под неё глянул на меня мой меч. Дерюжка вся истлела в огне, но само лезвие даже не потемнело. Не приняло на себя ни копоти, ни грязи. Так-то: меч боевой, это не куколка берестяная и не мячик кожаный, от которого, поди, праха теперь не осталось! Ничем, кроме медленной ржи, не погубишь честную сталь… Я вытер меч о свою одежду и подошёл с ним к Добрыне. Мой хозяин подшибленной птицей сидел у кожевенных чанов, будто всё ещё не верил в нежданно обрушившуюся беду. Я помнил, что со мной было так же: смотрел и не верил, и хотелось протереть глаза, и думал – вот моргну и проснусь, и рассеется, пропадёт…
– Меч нашёл, – сказал я Добрыне. Он поднял голову, посмотрел на меня, потом на клинок у меня в руках.
– Ты, Твёрд, вот что… – проговорил он совсем негромко. – Сам видишь, каков я теперь богатей. Одни уголья в хозяйстве да собака голодная. Не под силу мне ещё и тебя, раба, кормить-одевать. Будь же ты, Твёрд, свободен, и не надо мне с тебя ни откупа, ни работы подневольной. Хочешь, сам по себе новой доли ищи, а хочешь, с нами оставайся, не гоню…
Эх, усмарь!.. А мог бы продать меня за то же серебро и тем хоть мало поддержать себя в нужде. Наверняка так подумали многие свидетели-соседи и про себя Добрыню укорили. Но пенять ему не стали, знали все, что кожемяку не переупрямишь, да и слово сказанное назад кто же берёт? Вот и сбылось, как предсказывал мне тогда премудрый князь Рюрик… только мало что-то радости было мне от такой свободы!
– Звал я тебя, Добрыня, хозяином, назову братом старшим, – сказал я кожемяке. – И никуда я от тебя не пойду, доколе сам пути не покажешь!
…И послышалось, будто среди пепла и головешек заплакал озябший, оставшийся без крова Домовой…
13
Суд судили на Мутной, перед крепостью, на льду. И то: чуть не вся Ладога сошлась поглядеть, и даже широкий княжеский двор не уместил бы толпы. Урмане стояли слитным маленьким отрядом, вооружённые и злые. Я видел. Было ясно одно: выйдет или не выйдет Гуннар виновным, а своего вождя на расправу они не дадут. Отстоят его или умрут вместе с ним. И это внушало невольное уважение всякому, кто глядел.
А сам Гуннар Сварт стоял чуть впереди, и на плечах у него был зачем-то как раз тот чёрный плащ, из которого верный пёс перед смертью выгрыз кусок. Добрыня, увидав его, скрипнул зубами! Тоже, должно, показалось, будто Гуннар вновь издевался над ним этой одёжей. Смотри, мол, – и тяжба твоя мне не в тяжбу, и к ответу ты меня не призовёшь!
А подле них, в бронях и шеломах, как на рать, стояли княжьи. Для пригляду. Того ради, чтобы не бросились словене да сообща не пустили вора под лёд!
А мы встали напротив урман: Добрыня, я и Найдёнка. А за нами сгрудились соседи и просто все те, кто носил и сносить не мог сапоги, сшитые нашим усмарём. Сделав добро – забудь, получив – помни. Эти вступятся ещё покрепче родни!
А посередине на деревянной скамье сидел князь. Бойся, ответчик, не истца, бойся судьи…
– Ты-то куда вылез, холоп! – крикнул мне Жизномир. – Холопу на свободного не клепать!
Он, гридень, стоял со щитом и копьём, и кольчуга поскрипывала под кожушком. И зло же крикнул! Будто сам судился, а не только смотрел. Не мог, знать, успокоиться, прокараулив сестру.
– Твёрд не холоп! – сказал Добрыня глухо. – Я волю ему дал.
Люди позади нас загудели, подтверждая эти слова. Жизномир пробормотал что-то и смолк, досадливо махнув рукой… Гуннар пристально на него посмотрел.
Я поправил на себе меч в самодельных тряпичных ножнах и подумал: хоть то благо, что стужа отпустила, перестала хватать за уши и носы. Небо, точно спелёнутое серой холстиной, бросало наземь редкий снежок. Столь внезапно переменилась погода, будто сам мороз не выдержал, растаял от жара нашего костра!
– Ты, Гуннар Чёрный! – угрюмо и громко начал мой усмарь. – Тебя зову на суд честный перед Правдой и перед людьми! Ты, говорю, огнём сгубил мой двор и добро, а бабушку Доброгневу обидой со свету сжил! А скажешь, что не жёг, так отводи от себя след, а мы слушать станем, какую ещё лжу измыслишь!
Гуннар долго молчал, наконец хмуро ответил:
– Не жёг я твоего двора.
Добрыня стиснул кулаки:
– Лжу молвишь!
Гуннар на это только передёрнул плечами и не стал повторять, что не виноват.
Тут начали поглядывать на князя, и Найдёнка сжала пальцами Добрынин локоть, кусая губу. Все знали, как поступают в том случае, если двое одинаково крепко уперлись во взаимной обиде, так, что уж и не разберёшь, кому истцом быть, кому отвечать! Выносят железо и раскаляют его в жестоком огне, а потом дают обоим нести его в руках. И через день-другой смотрят ожоги: у кого как зарастает. И говорят люди, будто ни разу ещё не выходил чистым виновный – злая кривда не позволяет его язвам исцелиться быстрей… Вот и страдала Найдёнка, заранее представляя муку своего Добрынюшки. Станут испытывать, и Даждьбог весть, не ей ли будет больней!
Тут князь глянул поочерёдно на тяжущихся и впервые подал голос:
– Правда велит на железо вас обоих имать… Ты, Добрыня, поднимешь ли его в руке?
И кожемяка швырнул шапку на лёд:
– Подниму!
Рюрик повернулся к Гуннару Сварту:
– А ты, гость урманский?
Гуннар не торопясь отделился от своих, вышел вперёд. Снежинки садились на его бороду и таяли в ней. Он сказал:
– Мне незачем бояться железа, конунг, ведь на мне никакой вины нет. Но думается, что такое испытание не для свободного человека. У нас на клевету отвечают хольмгангом! И решают дело оружием, один на один! Да ты сам то знаешь, не мне тебя поучать.
Вот, значит, каков… поля захотел, судебного поединка! Ладно, и это обычаю не противно. А не для того ли он, враг, с Добрыней силу пытал тогда во дворе? Кожемяка, наверное, тоже вспомнил об этом, но виду не подал. Крепко верил в свою правоту и в то, что Перун, ратный Бог, неправому победы не даст. Не стали бы люди доверять своих обид добрым клинкам, если бы не умели те клинки рассудить справедливо! Князь повернулся к Добрыне, и тот сказал твёрдо:
– Сойдусь с ним, княже, хоть ныне. На мечах ли, на секирах, если ему уж так секира любезна! Выходи, гость урманский, посмотрим, чья возьмёт!
И опять повернулся князь к Гуннару Сварту… Того тянул за рукав Асмунд-побратим, что-то говорил ему вполголоса, тревожно, но Гуннар не слушал.
Гуннар сказал так:
– Я буду драться, Добрыня. Но не с тобой!
Как так?.. Сколько было народу здесь, на Мутной, столько и заговорило разом, дивясь непонятному. Наконец сдумали сообща: похотел проклятый отвести, отсочить от себя след. На кого укажет облыжно, на кого поклёп зря возведёт? Вот Гуннар встал перед князем, перед дружиной. И тут вдруг не хуже любого словенина, совсем как Добрыня, метнул шапку под ноги:
– Выходи, Жизномир! Ты напал ночью и не предупредил, что идёшь!
От таких слов мы все скопом окаменели, а Гуннар продолжал:
– Умел ты подпалить двор и стравить меня с Добрыней, чтобы он меня или я его здесь зарубил. Так умей и ответить по законам вашего тинга! Выходи!..
Жизномира всё равно что ошеломило обухом – замер и, по-моему, слова выговорить не мог. А Гуннар продолжал невозмутимо:
– Плащ мой, конунг, ножом трачен, не зубами пёсьими. Вот, я его нарочно надел. А Добрыню он, Жизномир, в курган зарыть хочет оттого, что сестра его Найдёна не тому досталась, кому он её назначал. То верно, конунг, что я вчера рано с пира ушёл…
– Занемоглось ему, вот и ушёл!.. – тоненько прозвенел голос Дражка. – Я знаю!.. Я там был!..
Гуннар лишь досадливо скосил на него синий глаз. И опять продолжал:
– Но и то я видел, как подзывал ты, Жизномир, на пиру своего раба. Вот не ведал только, зачем…
– Кнез!.. – обретя наконец голос, закричал Жизномир. А обратился он к Рюрику на варяжский лад, и не знаю, кого как, а меня резануло. – Кнез! Позволяешь ли, чтобы при тебе твоего человека соромом соромили?
Всякая дружина горой стоит за вождя, а вождь – за дружину. Но даже брату не велено покрывать брата родного, нарушившего закон! Потому-то Рюрик и не подумал его выручать:
– А кто тебя, Жизномир, бесчестит? Если чист перед Правдой, отмоешься прилюдно, а не чист, так и я тебе не заступник.
Что тут поделаешь! Стиснул зубы Жизномир и выступил из строя дружины, и те сомкнулись за ним – пустого места как не бывало. Вот он бросил щит и взял протянутый кем-то топор. И пошёл вперёд, чуть пригнувшись и зубы показывая, как в судороге, – враг страшный!.. И мне на миг показалось – не на Гуннара идёт, на меня!..
Асмунд, не сдержавшись, сказал громко по-урмански:
– Тебе, Гуннар, не драться бы сегодня, а под одеялом лежать. Разреши, я за тебя встану!
Гуннар повёл углом рта и ответил почти весело:
– Нет, побратим. Меня здесь, как жениха на свадьбе, заменить некому!
Тут он расстегнул чехол и вытащил из него секиру. Тусклое лезвие-полумесяц вобрало в себя холодный свет дня… Гуннар не замахнулся, не закричал – просто скинул плащ и стоял, держа топор в опущенной руке… Но так как-то стоял, что у меня мурашки пробежали по телу!
Когда они сошлись вплотную и встали грудь в грудь, Найдёнка вздрогнула и прижалась к Добрыне, пряча лицо. Он обнял её, стал гладить по голове, по так и не состриженной косе. Она не плакала, только дрожала вся, как в ознобе. Я видел.
14
Страшно рубились они – Гуннар Сварт и Жизномир! Но все мы видели, что с Гуннаром творилось худое. Дважды он захлебывался кашлем и даже отскакивал на несколько шагов назад, давая себе передышку. И оба раза Жизномир кидался зверем – прикончить. И я стискивал кулаки, потому что казалось – ещё чуть, и лежать, лежать северянину на холодном речном льду! А Жизномир добром замирится с моим кожемякой. И, может, даже в дом к себе его позовёт жить, всё-таки родня…
Но Гуннара выручало великое умение, о котором мы с Добрыней ведали не понаслышке, а показывал ли он его Жизномиру – Даждьбог весть! Гуннар Сварт змеем уходил из-под топора, и глаза у него всё время были уверенные, спокойные. Я видел. Он только побледнел – сильно, будто от страха. А ведь его, Гуннара, не так-то просто было испугать. Или, может, привиделось?
…А потом он неожиданно перестал уворачиваться и наградил Жизномира таким ударом, что тот едва устоял. Тяжко лязгнули топоры, и с трудом выдержали топорища!
Видал я славных бойцов, но чтобы дрались, как Гуннар тогда, – ни разу ещё. Отдавал всё, сжигал себя без остатка, и тут-то я понял, почему те корелы весной не взяли ни корабельного сарая, ни корабля. Потому что это Гуннар Сварт их защищал!..
Жизномир так и не смог коснуться его оружием. Никто не уследил, как это он оказался вдруг на льду, и его секира полетела прочь, шурша и кружась… Князь Рюрик поднялся со скамьи, но вмешиваться не стал. Даже ему, князю, не с руки встревать, когда судит свой суд суровый Перун!
Жизномир ещё попытался спастись, отползти, упираясь в лёд здоровой рукой. Но далеко не уполз: сбил с него шелом урманский топор. И тогда-то Жизномир выдал всю истину, закричав в смертной истоме:
– Я тебе девку отдать хотел!.. Тебе!..
Гуннар Сварт ничего ему не ответил. Лишь ощерился лесным волком. И не остановил удара – даже не задержал.
Вот как она аукнулась на том льду, Добрынина свадебная клятва, вот как рассудили справедливые Боги и родительница-река!..
…Гуннар шёл к Добрыне, держа секиру в руке, и все видели, что он шатался. Добрыня твёрдо шагнул навстречу: говорить так говорить, драться так драться! Бедная Найдёнка совсем поникла, я обхватил её, беспомощную, и почувствовал себя взрослым мужем, ей защитником.
Гуннар остановился перед Добрыней, посмотрел ему в лицо. Мне не привиделось: взаправду был белый весь, как снег тающий, лишь глаза светились по-прежнему.
– Шурина твоего я убил, – сказал он негромко. И усмехнулся кривой усмешкой: – Месть мстить захочешь, сойдёмся с тобой в другой раз. Ныне у меня раны вроде открылись…
Вот так молвил и начал валиться, медленно, навзничь, сквозь редкий кружившийся снежок. Добрыня успел подхватить его на руки, не позволил упасть. Мореходы сорвались с места все как один!.. Асмунд-кормщик подоспел прежде других, хотел перенять у Добрыни побратима, Добрыня ему не отдал, понёс сам. Асмунд взял со льда обронённую секиру, двинулся следом. Гуннар ничего им больше не говорил и не жаловался на раны – но из кожаного рукава протянулась вниз тёмная струйка. Добрыня сперва шагом шёл, потом приметил это – бегом побежал…
Гуннар умер на другой день к вечеру. Умирал тяжело: исходил кровью из вновь открывшихся ран. Никто так и не сумел ту кровь запереть, даже лекарь премудрый, что к самому князю ходил. Может, бабка Доброгнева управилась бы, да сама не жила больше не свете.
Соотчичи-урмане сильно о нём горевали. Хотели даже, как умрёт, сжечь с ним свой корабль. Так, дескать, больше почёту будет ему на небесах. Гуннар им запретил:
– Я умру от боевых ран и не думаю, чтобы там передо мной захлопнулись ворота. А вам корабль пригодится!
Потом отыскал взглядом Найдёнку – а ногти у него на пальцах начинали уже синеть – и сказал ещё:
– Спела бы, Соловушка, как тогда. Давно про лебедя не слыхал!
Мы все были рядом, и Добрыня, и Найдёнка, и я. Такой просьбы да не уважить! Найдёнка наклонилась над ним, зажмурилась и запела. Тихо так.
Ватажники его стояли молча вокруг. И плохо понимали, должно быть, в чём дело. Но не мешали.
– Холодна вода
в быстрой реченьке.
Гонит ветер злой
тучи чёрные.
Тучи чёрные,
тучи зимние!
Из-под тех-то туч
плачет лебедь бел,
плачет лебедь бел,
убивается…
Гуннар ту песню до конца не дослушал… Всё равно что задремал: даже руки не вздрогнули. Найдёнка и не заметила, как погасли у него глаза.
– Ты прости-прощай,
речка светлая!
Ты прости-прощай,
зелен шумный лес!
Как весна придёт,
может, свидимся,
может, свидимся,
повстречаемся!
Только б вынесли
крылья быстрые,
только б вынесли
да не выдали,
над чужой землёй
не сломилися!..
Так-то вот – далеко ушёл, не отзовётся, не расспросишь его. Подвели белые крылья, не увидит он больше своей Урманской земли… И казалось мне, будто я чем был перед ним виноват.








