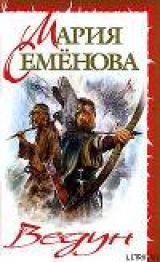
Текст книги "Ведун (сборник)"
Автор книги: Августа Лазар
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
– Да что с тобой, желань моя? Обидел кто?
Она долго не отвечала, наконец выговорила со всхлипом:
– Жизномир, братец мой, пуще коситься стал… Говорит, как к тебе, так опять вся кожами провоняю… Гуннару Гуннаровичу пива поднести стыд…
– Так, – сказал Добрыня. И ничего более не добавил.
8
Реки с озёрами прятались понемногу под лёд, когда с юга подошла к городу лодья. В тот день мело; в сплошной мгле чуть угадывались обрывы на другом берегу. С воды поднимался пар, и ветер нёс его, мешая с хлопьями снега.
У меня прямо нутро сжалось, когда в снежном вихре возник на чёрной реке чёрный корабль. Так и ударило сперва: Олавов! Потом присмотрелся – не тот, хотя и похожий: такой же узкий да долгий, зловещий. И свирепая морда знакомо щерилась на носу. Увидишь её разок так, как выпало увидеть мне, – не однажды приснится! Пока я смотрел, двое урман сняли эту голову и спрятали её в трюм. Таков был их обычай; не годится пугать добрых духов страны, где собираешься жить.
Тем временем вышел из крепости сам князь, и я догадался – не простые гости пожаловали. А когда вышел с князем Гуннар Чёрный и сбежал к воде едва не вперёд всех, я смекнул: это вернулся из дальнего похода его, Гуннара, корабль. Тот, что он спас тогда, в конце прошлой зимы, в страшном ночном бою. Люди у борта принялись кричать ему по-урмански, махать шапками и руками в кожаных рукавицах. Дело понятное: ведь уходили весной и не знали, увидят ли живого.
Кормщик правил искусно, гребцы старались. Корабль ткнулся носом в берег, и ватажники посыпались через борт в остылую, совсем уже зимнюю воду. Подхватили, подперли качавшуюся лодью, повели её на заснеженную сушу. Я видел – Гуннар Сварт гладил дубовые бортовые доски, норовил впрячься вместе с товарищами. Его с шутками да с прибаутками оттирали в сторонку, отодвигали плечами, явно оберегая. Он же радовался, как мальчишка. С каждым в очередь обнимался. А всех дольше – со светлоголовым молодым бородачом в медвежьем полушубке, что у кормила стоял. Я потом узнал, что это был друг и побратим его по имени Асмунд. Вот он отвёл Гуннара в сторонку и о чём-то спросил – тихо, заботливо. Ладонь к его груди приложил… Гуннар в ответ пожал плечами, мотнул головой.
А сгореть бы огнём земле этой урманской, подумалось мне. Ей и всем людям тем, что на кораблях от неё отбегают!
Рюрик-князь смотрел на них сверху, заложив руки за поясной ремень. С места не двигался. И так честь немалая, что из крепости вышел встречать!
Я потихоньку оглядывал вышедшую с ним дружину и думал о том, что и мне, Даждьбог даст, сыщется когда-нибудь местечко среди этих людей. Буду стоять между ними, такой же, как любой из них, в богатом плаще и крашеных сапогах, и тот самый меч проляжет в кожаных ножнах вдоль бедра, столь же привычный, как собственная рука или, скажем, ещё матерью подаренный оберег… А то не оберег для воина – честный боевой меч!
Урмане под горой разгружали свой корабль, шли наверх: поклониться князю, поднести подарки, привезённые из чужедальних земель, ответ дать, как его, Рюрика, товарами торговали, как честь ладожскую берегли! Шли не порожние, и снег тяжело поскрипывал под сапогами. Неплохо торговали, видать. А может, и грабили кого по дороге, с них станется. И поскольку Гуннар имел во всём этом свою немалую долю – ходить девке Найдёнке при позолоченных бусах на шее. А то и с дорогими жуковиньями на перстах. Не со стеклянными, что усмарь Добрыня дарил. Только захочет ли прилюдно их надевать?.. А что, может, и захочет, девки, они таковы.
А брат Жизномир будет хмуриться туча тучей и спрашивать: это куда ещё опять собралась? К жениху, кожами пропахшему? А не слишком ли зачастила?
Дружина Рюрикова на двунадесяти языках говорила. Были варяги, называвшие князя смешно: кнез. Были свеи, англы, эсты, были даже датчане, с которыми варяги от века то люто дрались, то вместе шли против саксов. Тут брали лучших из тех, кто странствовал сам собой по холодному Варяжскому морю, искал удачливого вождя. А был ли на свете вождь славнее Рюрика из племени вагров?
Ходили за ним и словене, не один Жизномир такой. Но те, с чужаками побратавшись, от обычая прадедовского отплёвываться не поспешили. И оружие держали словенское, и порты-наряды. А Жизномир даже штаны кожаные завёл, будто только-только с корабля! Хотя Рюрик на свой корабль-снекку ни разу его не брал. И Даждьбог весть, возьмёт ли. Однако Жизномир и стоял уже не со своими, а с варягами, пересмеивался с ними. И казалось невольно: заговорит по-словенски, так не чисто заговорит…
Этого я за ним что-то не примечал, пока жил в дружинной избе. Теперь вот приметил. А присмотрелся бы получше, может, ещё бы и бляшку какую урманскую на нём разглядел…
Вовремя же вернулась ватага! На другой день сурово, без шуток, принялся калить деревья настоящий мороз-калинник. Будто не хотел в Ладогу их пускать, да вот самую малость промедлил. Зато теперь лютовал!.. Знать, недаром всю осень так и горели от рябины леса. Не одну замёрзшую пичугу принесу отогревать в дом: уже нынче пел-приговаривал под ногами снег, да и реку сковало… Злой будет зима! Однако не всякое лихо – вовсе уж без добра. Застыла Мутная от одного берега до другого, выбирайся хоть на середину, спускай в зелёную прорубь приманку-наживку на хорошо отточенном крючке да знай следи за кручёным берестяным поплавком! Глядь-поглядь, и натаскал на уху.
Добрыне самому баловаться некогда было. Кормило его ремесло, дорого ценимое, да больно нелёгкое. Не пускало не то что на реку, даже к Найдёне… Зато я ходил на Мутную невозбранно. Видать, приметил Добрыня моё старание в работе. Да и рыбки домой принести – всё же не лишняя…
В тот день я уже пробил себе лунку и только начал разматывать леску, когда от берега донеслось:
– Эй ты, смелый какой, на чужом месте расселся!
Я поднял глаза и признал старого знакомца. Шёл ко мне мальчишка Дражко, тот, что за Гуннаром Чёрным ходил. Прихвостень урманский!.. Не стал я ни вставать перед ним, ни отвечать. Нос не дорос ещё, чтобы я ему отвечал.
У него тоже была в руках удочка. И короткая пешня – долбить лёд. Он остановился в трёх шагах от меня и сказал уже потише, с горькой обидой:
– Был бы жив мой отец, он бы тебя, раба, за уши оттаскал. Он у самого кнеза на снекке кормщиком ходил, вот!
Я промолчал.
– Это моё место, – повторил он, надуваясь. – Поди прочь! А не то хозяину твоему скажу!
Я зло огрызнулся:
– Сам поди прочь, возгря бестолковая!
Он едва не заплакал от унижения и бессилия. Других рыбаков на Мутной было не видать, поди жаловаться, так и послуха не сыщешь. Я смотрел на него исподлобья и почти ждал, чтобы он кинулся на меня с кулаками или вправду побежал к Добрыне, бить челом на холопа неучтивого. Но нет! Драться со мной он был ещё мал, жаловаться – слишком горд. Вот что он сделал: отошёл чуть подальше, за мою спину, и сам встал ко мне спиной. И, наверное, принялся сам себя уговаривать, что здесь-то и было самое лучшее местечко, ещё получше моего. И застучал пешнёй об лёд, пробивая лунку. Потом спустил в воду крючок и замер над ним.
9
Рыба что-то не торопилась к наживке: видать, Дражко своим стуком и криком всю распугал. Я сидел нахохлившись и думал о Жизномире и о том, почему мне тогда не захотелось к нему подходить. А ещё о своём хозяине Добрыне, которому Дражко сулился на меня наговорить. Пускай говорит!.. Почему-то я был уверен, что усмарь меня не накажет. А и накажет, невелика беда. Я не обозлюсь.
Отчего так? Кажется, только что хозяина купившего ненавидел, с Олавом треклятым вровне держал. А теперь вот уже и не молчал с ним целыми днями, как прежде. Пошутит Добрыня – и я с ним посмеюсь.
Вот только шутил мой усмарь день ото дня всё реже…
А что: не про меня ли сказал тогда князь Рюрик – этот будет свободным?! Я те слова в памяти зарубил накрепко. Взойдёт ещё день, и я сяду с ними за тот дружинный стол. И будет сам князь на меня посматривать ласково и гордо. Как отец на хороброго сына. Потому что я стану воином и меча подаренного не обесчещу – по рукоять умою в нечистой урманской крови. Зарок крепкий дам смертью убивать их в бою и, пока жив буду, ни одного из этого племени не пощажу!..
Но только с Жизномиром рядом я не сяду. И хотя бы он семь стрел мне вытащил, а не одну.
– Ой, – негромко сказал голос Дражка у меня за спиной.
Я нехотя оглянулся посмотреть, что ещё у прихвостня там приключилось, – да так и вскочил. Мальчишка-варяг стоял согнувшись дугой и двумя руками дёргал лесу. Но одолеть не мог: та натягивалась струной и всё ниже пригибала его к лунке. Вот ведь добыча попалась! Того гляди, самого рыбака не пустит домой.
Я вырос на реке. Я живо оказался подле него, перенял лесу, намотал на кулак. И тут же почувствовал на том конце угрюмую, упругую силу, узнал вес поджарого пятнистого тела, ощутил его ярость и страх.
Щука! Такой зверь Дражку и впрямь был не по силёнкам. Я принялся водить рыбину, то подтягивая, то распуская лесу. Слабины не давал: мигом вывернет матёрая крючок из губы, да и поминай как звали. Лесу же не порвёт: ладные были волосья в хвостах дружинных коней…
А щуку нанесло лихую! Скоро я взмок от борьбы и волнения, обида ведь упустить такую красавицу, да перед Дражком, да с его крючка. Взялся за гуж, так не срамись, не говори, что не дюж! Однако наконец хищница устала выдирать у меня лесу. Притомилась, запросила передышки. Тут-то я и подвёл её под самую лунку, и, заваливаясь всем телом, обеими руками рванул вверх!
Болотным влажным блеском полыхнула на зимнем солнце пятнистая живая струя! И бешено забилась на льду, то свиваясь тугим кольцом, то вновь распрямляясь. В беззвучном крике раскрывалась длинная розовая пасть, и видно было, что крючок вправду чуть прихватил её за губу – здесь, на льду, он немедленно выпал, и на нём всё ещё держалась изуродованная тушка живца.
Я выдернул нож: приколоть. И тут Дражко вдруг ястребом пал на добычу, хватая вертящуюся скользкую рыбину под алые жабры:
– Не тронь, ты!.. Моя щука! Моя!.. Отойди!..
Я сперва и не понял толком, в чём дело. А смекнул – и сам почувствовал, как словно бы полегчало, подобралось всё тело, только к кулакам будто прилипло по камню-булыжнику. Эх, носом бы тебя, Дражко, да об лёд!.. Не ведаю, как устоял. Плюнул в прорубь. Поднял свою удочку, ногой отодрал ото льда окушков – с мясом, – и без оглядки зашагал к береговому обрыву.
Человеку в ярости всё кажется враждебным; встало бы на дороге бессловесное дерево – кажется, снёс бы неповинное одним кулаком да и переступил через пенёк. Встретился бы ладожанин разговорчивый – запустил бы словом ранящим, а то и в драку нешуточную полез! Почти взобравшись наверх, я оглянулся. Прихвостень урманский отплясывал вокруг щуки на свой варяжский лад. Никак, верно, налюбоваться не мог. Ладно, натопчется досыта и поволокёт зубастую домой. Что скажет, щенок, если спросят, сам ли добыл, сам ли вынул из воды?
Тут я увидел, как Дражко подвернул ногу и с маху шлёпнулся на лёд. Суетливо приподнялся, встал, даже рукой махнул – ничего, мол, пустяки! – и свалился опять.
Ну, плясун, подумалось мне. Вывихнул поди. А не то сломал!
Но подумал я об этом не сразу, а мгновением попозже. Когда успел уже кинуть и удочку и окушков и пуститься к нему. Подумал и сам себе подивился: да с чего бы?.. И посреди очередного прыжка уже решил было остановиться, но не остановился, продолжал бежать. Потом подумал ещё: а ведь вскочит сейчас, змеёныш, да как расхохочется, натянув нос дурню… Добро же. Глотать ему тогда ту щуку, да не с головы, а с хвоста!
Но Дражко не вскочил. Приподнялся на локтях, испуганно поглядел на меня, отмерявшего саженные скачки, и жалко позвал:
– Твёрд!.. Помоги!..
А смотри-ка – подкатила нужда, так и речи ласковые завёл, и имя припомнил… Я был уже рядом. Я без лишней болтовни наклонился посмотреть его ногу. Правая ступня, точно, выскочила из сустава. Впредь наука: плясать пляши, а под ноги смотреть не забывай! Сапожок надо было бы разрезать, но я пожалел добрую меховую обувку – небось, Добрыня же и тачал. Потихоньку, осторожно, я потянул сапожок с ноги. Учись, терпи, не всё пряники жевать, бывает и солоно! Дражко вздрогнул, побелел лицом и заплакал. Малец всё-таки. Щеня глупое…
– Не скули! – сказал я ему. – Не девка! Твой отец кормщиком был!
Он унялся. Молчал всё то время, пока я стаскивал с него сапог. И только раз взвыл в голос – это когда я крепко взял в руку его ступню и дёрнул, ставя её на место.
Идти сам он, конечно, не смог, а кликать на помощь было по-прежнему некого. Что тут делать? Я взвалил его себе на спину и понёс. Думал, Дражко закричит взять и щуку, но он и не пискнул. Лезть вверх по круче было нелегко, трижды я падал на колени, съезжал далеко вниз. Дражко, ничего, помалкивал себе, только знай сопел мне в ухо, крепко обняв за шею… Всё-таки я выбрался с ним на берег, и тут нас приметил шедший мимо гридень из княжьих. Мигом вернулся, схватил у меня Дражка, бегом в крепость с ним побежал… Тоже мне, покалеченного нашёл!
Отдышавшись, я вернулся забрать добро. Постоял над щукой, и невесть с чего мне стало её жаль. Сильное тело вытянулось в смерти и словно бы ссохлось, потеряв былую гибкую стать, расшитые бисерные бока потускнели, прихваченные ледком… Была бы жива, я бы, пожалуй, отпустил её в прорубь. Пусть бы гуляла себе в речной придонной траве да рассказывала малым щурятам, какие бывают на свете чудеса.
Белая дорога реки, стиснутая заледенелыми кручами, уходила вдаль, в мглистую морозную дымку. По верху обрывов неподвижными стражами стояли одинокие великаны-сосны, а внизу, заметённые по макушки, дремали в голубых перинах заросли ольхи, по которым самую реку называли иногда Вольховой… И розовыми столбами возносились в звенящее безоблачное небо дымы из невидимых отсюда, с реки, ладожских домов! И стояло над ними далёкое солнце в морозном венце негреющих прозрачных лучей!
Не в первый раз я на всё на это смотрел. Да тут только понял, мимо какой красы проходил не глядя, не видя, – и слёзы навернулись вдруг на глаза… Почему? Может быть, потому, что жила теперь эта краса для меня одного, не мог я показать её ни матери, ни отцу, ни сестрёнке милой Потворе?.. Даждьбог весть…
Было жаль щуку, жаль Дражка, а себя, конечно, всех жальче. Ещё немного, и точно разревелся бы сам не хуже мальца, и размазывал бы сопли ободранным кулаком… Однако сдержался. Почистил на себе одежду, собрал рыбу да снасти и пошёл. Надо было всё же отнести щуку Дражку, не то ведь опять подумает – украсть захотел. Да и утешить глупого…
10
Сегодня Гуннар Чёрный устраивал пир! Да не как попало устраивал, не где-нибудь: у господина Рюрика, в самих княжеских хоромах. А почему бы ему и не затеять пира-веселия, ведь он, Гуннар, стал теперь не беднее лучшего из торговых гостей! Вот возьмёт ещё и сам выстроит себе дом и станет в нём жить, добра наживать… Всего вдосталь будет на его пиру! Словенских пирогов и морской рыбы, по-урмански посоленной. Каши с мёдом и козьего сыра мюсост, до которого превеликие охотники все эти мореходы. И хоть залейся – кваса нашего да сбитня пахучего и хмельного напитка скир, которого Гуннаровы товарищи загодя наготовили из кислого молока!
Вчера вечером прибежал к нам во двор малец Дражко. Приодетый, умытый, новенький поясок в серебре – не иначе, Гуннаров подарочек. Мне, девке будто, вложил в руку сладкий пряник, старой Доброгневе поднёс заморский костяной гребешок – та прямо помолодела, залюбовалась. А самому Добрыне поклонился поясным поклоном и вымолвил, ну ни дать ни взять нарочитый посол:
– Так тебе молвит Гуннар Гуннарович, урманский гость! Челом бьёт, просит завтра на пир!
Добрыня вытер руки о передник, положил шило, выпрямился, ответил спокойно:
– За честь спасибо! А и то, Дражко, многих ли обошёл?
Я жевал в углу свой пряник, слушал вполуха: мне-то что, меня не зовут.
– Многих! – отвечал Дражко гордо. – У меня от него ко всем слово!
Добрыня заложил руки за спину, светлые брови сошлись у переносья в одну черту:
– И у Найдёны Некрасовны небось был? Что же сказала – на веселье пойдёт ли?
И спросил вроде негромко, а сам так сжал зубы, будто стон готовился задавить! Я видел. Дражко чуть смутился, отвёл глаза:
– Я с Жизномиром, с братом её, говорил. Он мне сказывал, что непременно пойдёт… Девкам при мне велел платье ей приготовить лучшее какое ни есть…
Добрыня, по-моему, даже пошатнулся. Тут-то бабка Доброгнева подала голос от печки, костлявым пальцем поманила Дражка:
– Ты, милый, забери-ка свой гребешочек… Гуннаровича за ласку поблагодари, да ни к чему мне, старой, у меня уж и волосы-то все посеклись…
– За честь, – повторил Добрыня глухо, – спасибо. А ноги моей на том пиру не будет!
Дражко никак такого не ожидал. Заморгал, повернулся ко мне… Да мог ли я ему помочь? Против Добрыни, если упрётся, разве что самому князю встать. С тем Дражко и ушёл, и собаки зарычали на него у калитки.
Так-то вот! А было это вчера, а теперь и нынешний день клонился к закату, и гости в княжеский дом, поди, все уже собрались…
А того, что это кончался последний день моего холопства, мне и вовсе неоткуда было знать.
Добрыня мой нынче с утра был точно больной. Лежали у него сапоги раскроенные для молодого варяжского воеводы Вольгаста – пробовал работать, да мало что выходило. Это же видно, если у кого всё валится из рук. Смотрел я на него, смотрел… а потом взял вдруг и сказал:
– А сходил бы ты к ней, Добрыня Бориславич. Словом хоть перемолвился бы.
И сам себе тут же прикусил болтливый язык: к кому с советами полез? Не к брату – к хозяину! Ведь он меня хоть об забор головой, никто за голову ту и виры не спросит… Однако Добрыня не осерчал. Только посмотрел на меня и тихо ответил:
– Да как перемолвишься.
И то верно. Жизномир теперь небось близко не подпустит к сестре, с десятком домочадцев в толчки выпроводит за ворота, и как хочешь, так отмывайся потом от горького срама.
Худо дело!
Вот и сидел я сам по себе у железного светца с лучиной, держал в руках иголку да нитку, рылся в обрезках давно брошенных кож. Добрыня мне разрешил. Сбывалось надуманное: кроил сам на доске, приставлял кусочек к кусочку. Выйдет ровненький мячик, глядишь, купит кто побаловать малого сынишку…
И тут-то во дворе заворчали, а потом умильно заскулили собаки! Добрыню как подбросило. Не то услыхал что, не то сердце вещее надоумило поспешать. Вылетел в дверь и даже не притворил её за собой, и сквозь эту-то дверь я видел, что было во дворе. А увидел – сам выскочил за хозяином вслед!
Там, снаружи, клубилась паром ночная морозная мгла. И звёзды были железными гвоздями, часто вколоченными в небесную твердь. А через двор к дому шла Найдёна – да какова!.. В одной рубашонке, простоволосая и босиком!.. Рубашонка на плече стыдно разорвалась, а в дыре-то, погляди, синий синяк! Волчки бежали следом, обнюхивали её закоченелые, сбитые ноги.
Добрыня, сам в одной рубахе, кинулся к ней опрометью. Она, впрочем, на шее у него не повисла. Ещё и уперлась ладонью ему в грудь, что-то сказала – да гордо, властно сказала! Совсем не похожа была на прежнюю, тихую, ласковую, какой я всегда её помнил.
Ну, Добрыня мой никаких её глупостей и слушать не стал. Схватил в охапку, в два шага перенёс в дом на руках: согрейся, мол, наперво. Потом будешь ругать!..
Я подбросил в печку дровишек, и каменка ожила, зашумела, источая доброе тепло. Серый дым пуще заволновался в стропилах, неспешно выползая в дымогон.
Добрыня опустил девчонку на лавку возле печи, и бабка Доброгнева тут же накинула на неё жаркую овчину. И захлопотала: согреть поскорее медового сбитня, напоить её, замёрзшую! А сам усмарь сел тут же, прямо на пол, взял в ладони девкины ноги, принялся греть дыханием, растирать. Она только губы кусала. У меня и то по старой памяти больно закололо в ступнях. Не по травке небось бежала! И все мы молчали. Да о чём тут ещё спрашивать, с хорошими вестями так не приходят.
Гордая Найдёна сперва как-то держалась, потом, отогреваясь, заколотилась всем телом, и слёзы полились по щекам. Такие слёзы унимать без толку, тут жди, пока высохнут сами. Добрыня натянул на неё вязаные носочки-копытца, пристроился рядом на лавке, обнял, прижал к себе. Вот ведь как: лом железный мог на кулак намотать, а тут не знал, как утешить плачущую девку, и сам был оттого беспомощен и жалок.
Найдёна вдруг встрепенулась испуганно – так, будто следом вот-вот должна была вомчаться погоня. Выпростала руку из-под овчины, кое-как утёрла глаза:
– Добрынюшка!.. Не раздумал ещё в жёны за себя брать?..
Ну точно малая пичуга пораненная, подобранная из-под ног: откуда знать, в добрую ли ладонь угодила! Добрыня отвёл ей мокрые спутанные волосы со лба:
– О чём спрашиваешь, Словиша моя?
– А не раздумал, – прошептала Найдёна, – так ныне бери. Жизномир, братец мой старший, сказывал, будто с Гуннаром Гуннаровичем вено за меня обговаривать станет. А меня вот батогом вразумил да на замок запер, потому на пир тот я своей охотой не шла…
Смотри-ка ты, как дело поворотилось! У Добрыни аж желваки выступили на скулах.
– А давно ли, – спросил, – братец твой так тебя учит?
Она снова всхлипнула:
– Да вот как урмане вернулись, с того дня и повадился… я тебе-то не сказывала…
Тут мой Добрыня встал сам и девку заставил подняться, подхватил сползшую было овчину. Повернулся к бабке и достал рукой пол:
– Бабушка любимая, государыня Доброгнева Гостятична! Челом бью – возьмёшь ли в дом жену мою водимую, Найдёну Некрасовну?
Вот и всё!.. Ни сватов тебе, ни сватовства, ни свадьбы самой. Долго вилась верёвочка, а узелком связалась в один миг. Муж с женою – и никому теперь её у Добрыни не отнять. Покуда живы оба, он и она. Меня потом прошибло, как вдумался. Вылетело слово, его и стены избяные слыхали, и печка, и огонь в печи. И как хочешь теперь, а решённого не перерешишь: они слову ручатели, они сами Правдой стоят и другим душой кривить не велели!
Вот молодые бухнулись перед бабкой на колени, и она, точно удивившись, сперва всплеснула руками, а потом ухватила обоих за встрёпанные вихры и притянула к своей груди две беспутные головы:
– Ой, да сиротки же вы мои несмышлёные…








