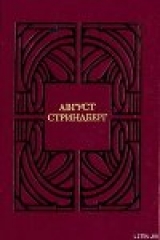
Текст книги "Слово безумца в свою защиту"
Автор книги: Август Юхан Стриндберг
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Дама вдруг прервала начатую фразу, испуганно посмотрела на меня и спросила с сочувствием:
– Как вы себя чувствуете, сударь?
– Я?…
– Да, у вас больной вид! Не пойти ли вам немного поспать?
– По правде говоря, я не спал всю ночь и чувствую себя возбужденным. Как я ни старался, уснуть мне, к сожалению, так и не удалось.
– Это дело поправимое! Немедленно отправляйтесь в каюту, я дам вам такое лекарство, что вы и стоя уснете.
Она встала и ласково подтолкнула меня рукой, чтобы я скорее шел спать. Проводив меня до каюты, она на минуту исчезла и вернулась с бутылочкой, в которой было снотворное лекарство. Она заставила меня тут же выпить ложку этого снадобья и сказала:
– Ну вот, дитя мое, теперь вы будете спать.
Я поблагодарил ее, а она в ответ подоткнула мне со всех сторон одеяло. Как она бесподобно это делала! Она так и излучала то материнское тепло, которое ищет малыш, прижимаясь к груди матери. Нежное прикосновение ее рук меня успокоило, и две минуты спустя меня уже охватило какое-то оцепенение. Мне казалось, что я младенец, я вновь видел свою мать, которая хлопотала у моей кроватки, но постепенно бледное лицо матери расплылось, обрело очаровательные черты баронессы, но вместе с тем оно было и лицом доброй пожилой дамы, только что меня покинувшей, и, защищенный видением этих трех женщин, я медленно блек, как блекнут краски, сгорал, как свеча, переставал существовать в виде сознательного индивида.
Проснувшись, я не помнил, чтобы мне что-то снилось, но из головы не шла одна навязчивая идея, словно ее мне внушили за это время: либо я вернусь к баронессе, либо сойду с ума!
Меня охватила дрожь, я вскочил с койки, влажной от сырого ветра, который всюду проникал, и вышел на палубу. Небо было серо-голубым, как листовое железо, и бурливые волны обмывали тросы, заливали палубу и обдали меня пеной с головы до ног.
Поглядев на часы, я прикинул, сколько мы успели пройти во время моего сна, и мне стало ясно, что мы вот-вот выйдем в открытое море, и, следовательно, уже не было никакой надежды на возвращение. Пейзаж показался мне странным, все в нем удивляло меня, начиная с множества островков, раскинутых по всем бухтам, и кончая скалистыми берегами, размером хижин, стоящих у воды вдалеке друг от друга, и формой парусов на рыбацких челнах. И перед этой картиной чужой, незнакомой природы меня охватило предвкушение ностальгии. Меня душило глухое бешенство, отчаяние, что я, словно сельдь в бочке, втиснут в это транспортное судно, нахожусь здесь помимо своей воли, повинуясь высшей силе, именуемой «вопрос чести».
Изнуренный этим приступом бешенства, я впал в мучительную прострацию. Опершись на релинги, я стоял не двигаясь, хотя брызги так и били меня по горящим щекам, и лихорадочно глядел на берег, то в нелепой надежде обнаружить какую-то возможность остановить пароход, то строя планы добраться до берега вплавь. Мой взгляд следил за причудливой линией побережья, и постепенно я успокаивался, душа безо всяких причин то и дело озарялась тихой радостью, мой воспаленный мозг уже не работал так бешено, на меня наплывали воспоминания о погожих летних днях моей юности, однако объяснить, по какому капризу произошла эта смена настроений, я не мог. Пароход огибал в этот момент высокий мыс. Красные черепичные крыши и побеленные наличники проглядывали между сосен, флагшток, возвышающийся над зеленью садиков, мост, часовня, колокольня, кладбище… Это сон! Или галлюцинация! Нет, это просто тот самый убогий морской курорт, вблизи которого, на островке, я проводил в школьные годы лето… А в этом домике, вон там, наверху, я ночевал весной с моими друзьями, с ней и с ним, после поездки на пароходе и прогулки в лесу… Да, именно там, на этом холме, под ясенями, я любовался ею, когда она стояла на балконе, не мог оторвать глаз от ее прелестного личика, озаренного отсветом ее золотистых волос, будто солнцем, от маленькой японской шляпки с голубой вуалью, от ее крошечной ручки в замшевой перчатке… Она сверху подала мне знак, что обед готов… И мне показалось, что я снова вижу ее на балконе, вижу, как она машет мне платком, зовет своим звонким голосом… И вдруг пароход замедлил ход, машина заглохла, и к нам подплыла лодка лоцманов… Видимо, я ошибся в своих расчетах… Раз, два, три… Мысль, быстрая как молния, пронзила меня и вмиг привела в движение. Будто тигр, я одним прыжком оказался у капитанского мостика, мгновенно взобрался на него и с решимостью в голосе сказал капитану:
– Высадите меня немедленно, не то я сойду с ума!
Он окинул меня торопливым взглядом, помедлил, ошеломленный моей просьбой, и, не ответив мне, приказал своему помощнику, не выбирая слова, всем своим видом показывая, что перед ним стоит убежавший из больницы умалишенный:
– Высадите этого господина с его багажом. Он болен.
Минуту спустя я уже сидел в лодке лоцманов. Они приналегли на весла, и пять минут спустя я стоял на твердой земле.
Я обладаю замечательной способностью становиться в нужный момент глухим и слепым, поэтому я направился в гостиницу, не увидев и не услышав ничего сколько-нибудь оскорбительного Для моего самолюбия – ни презрительной усмешки на лицах лоцманов, свидетельствующей, что они знают мой секрет, ни оскорбительного замечания носильщиков.
Добравшись до гостиницы, я взял номер, заказал абсент, закурил и попробовал обдумать все, что случилось.
Сумасшедший ли я или нет? В самом ли деле опасность была так велика, что меня надо было немедленно высадить?
В данном случае я не чувствовал себя вправе вынести решение, поскольку душевнобольной, как говорят врачи, не отдает себе отчета в том, что он лишился рассудка, а логика развития его мыслей вовсе не доказывает, что сами эти мысли соответствуют норме. Как настоящий исследователь, я решил проанализировать аналогичные случаи в моей прошлой жизни. Однажды, когда я еще учился в университете, я был в нервном возбуждении, но на то имелись свои основания: самоубийство товарища, влюбленность без взаимности, страх перед будущим… Я дошел тогда до такого состояния, что среди белого дня стал всего бояться, не мог оставаться один в комнате, потому что мне чудилось, что я вижу самого себя, и друзья мои были вынуждены по очереди стеречь меня ночи напролет, зажигая по нескольку свечей и разводя огонь в печи.
В другой раз, в приступе раскаяния, вызванного разными несчастиями, я бегал по полям, бродил по лесу и в конце концов влез на сосну, сел верхом на ветку и стал произносить речи для малорослых елочек, пытаясь покрыть своим голосом их шелест, – я воображал себя оратором, выступающим перед народом. Это было как раз недалеко отсюда, на этом самом островке, где я столько раз проводил лето, – очертания его мыса я и сейчас видел вдали. Восстанавливая в памяти этот инцидент во всех его нелепых подробностях, я пришел к убеждению, что какая-то доля безумия во мне все-таки есть.
Что же теперь делать? Главное успеть предупредить друзей, пока слух о моей выходке не распространится по городу. Но какой позор, какое бесчестье оказаться в числе неполноценных! Нет, с этим просто невозможно смириться!
Врать, нести всякие небылицы, никого при этом не убеждая, – нет, это мне было противно! Я терзался сомнениями, не знал, что лучше предпринять, чтобы выбраться из лабиринта, из которого выхода не было, и меня так и подмывало по-настоящему удрать, уйти от скучного дознания, которого мне было не избежать, укрыться в лесу, найти там какое-нибудь заброшенное логово, забиться в него и сдохнуть, как дикий зверь, когда пробьет мой час.
С этими намерениями я вышел узкими улочками за черту городка, вскарабкался на поросшие мхом скалы, скользкие после осенних дождей, пересек поле под паром и вышел на участок, где с закрытыми ставнями спал наш домик, обвитый по самую крышу диким виноградом. Но листья его теперь облетели, и обнажилась густая сетка зеленой лозы.
Когда я очутился в этом месте, ставшем для меня священным, потому что там наше чувство пустило свои первые побеги, в моем сердце с новой силой вспыхнула любовь, тлевшая все это время под пеплом других забот. Прислонившись к столбу, поддерживающему резной деревянный балкончик, я плакал, громко всхлипывая, как брошенный ребенок.
Помню, что в «Тысяче и одной ночи» я читал про юношей, которые заболевают от неутоленной любви, и вылечить их может только одно средство – обладание любимой. Помню также, что в шведских народных песнях часто рассказывается о девушках, которые, не зная, как привлечь к себе внимание предмета своих воздыханий, чахнут на глазах и просят мать приготовить им смертное ложе. И даже старый скептик Гейне воспевает соплеменников Азры, которые умирают, когда любят!
Моя любовь, видимо, была того же рода, поскольку я буквально впал в детство и был всецело во власти одной только мысли, одного образа, одного чувства, которое господствовало над всеми остальными и лишало меня жизненной силы, я был ни на что не годен и мог только стонать.
Чтобы хоть как-то переключиться, я стал любоваться великолепным видом, открывшимся с этой высокой точки. Тысячи островов, ощетинившихся соснами и елями, казалось, плыли в огромном заливе Балтийского моря и становились тем меньше, чем дальше они отстояли от берега, пока, наконец, не превращались в крохотные островочки, рифы, подводные камни, и так до самой окрайности архипелага, где уже полностью властвует море, где волны разбиваются об отвесные стены последних скал.
Низкие висящие в небе тучи раскрашивали бушующее море разноцветными полосами, и коричневые валы, пробегая всю цветовую гамму от бутылочно-зеленого до берлинской лазури, вскипали на гребнях белоснежной пеной. Вдруг из-за крепости, возвышавшейся на крутом скалистом острове, поднялись клубы черного дыма. Но откуда валил этот дым, было неясно. Минуту спустя появился темный силуэт транспортного судна, которое я только что покинул. У меня до боли сжалось сердце, словно я увидел свидетеля своего бесчестия. И я закусил удила, как лошадь, которая понесла,
и побежал в лес.
Под стрельчатыми сводами сосен ветер гудел, раскачивая ветки с пушистой хвойной бахромой, и тогда меня пуще прежнего охватило отчаяние. Здесь мы с ней гуляли, когда солнце освещало весеннюю зелень перелеска и цвели сосны – их пурпуровые свечки пахли земляникой, и с можжевельника слетала желтая пыльца, а под орешником анемоны пробивали слой прошлогодних листьев. Здесь,, по этому мху, коричневому, мягкому, будто шерстяное одеяло, ступали ее маленькие ножки, когда она пела своим звонким голосом финские песни. Вспышка памяти приковала мой взгляд к двум гигантским соснам, которые сплелись в навеки нерасторжимом объятии, а когда ветер раскачивал верхушки, их стволы со скрипом терлись друг о друга. Именно здесь она сбежала с тропинки, чтобы сорвать в болоте кувшинку. С усердием легавой я стал брать след этой обожаемой ножки – ведь как ни легка ее походка, отпечаток должен был остаться. Наклонив голову и опустив нос, я разведывал местность, принюхивался, шарил глазами землю под ногами, но ничего не мог обнаружить. Скот все истоптал копытами, и искать отпечаток ботинка любимой можно было с тем же успехом, что след лесной феи. Я видел лишь трясину, коровий навоз, шампиньоны, мухоморы, белые и стебельки от облетевших цветов. Дойдя до болота, в котором поблескивала черная вода, я на миг утешился мыслью, что эта жижа была удостоена чести отразить самое прелестное в мире лицо, и постарался найти среди увядших листьев, которые пригнал сюда ветер с соседних берез, листья водяной лилии, но и это мне не удалось. Тогда я вернулся назад и углубился в лес. Чем дальше я заходил в чащу, тем толще становились стволы сосен и тем унылей завывал ветер.
Мною овладело полное отчаяние, я громко зарыдал от нестерпимой душевной боли, и слезы градом полились из глаз. Подобно лосю в пору спаривания, я топтал мухоморы, вырывал с корнем можжевельник, налетал на стволы деревьев. Чего я хотел? Этого я был бы не в силах сказать. Мой мозг пылал, у меня было лишь одно неодолимое желание – вновь увидеть баронессу, которую я любил слишком сильно, чтобы желать ее.
А теперь, когда все было кончено, я решил умереть, ибо жить без нее я не мог. Но с хитростью, свойственной всем сумасшедшим, я хотел погибнуть не как попало, а определенным образом: заболеть воспалением легких или чем-нибудь в этом роде, пролежать в постели несколько недель, видеть ее все это время, перед смертью успеть с ней попрощаться, поцеловать ей руку.
Как только у меня возник этот план, я несколько успокоился и двинулся к прибрежным скалам, что было нетрудно – грохот волн указывал мне направление, и я быстро выбрался из леса.
Я огляделся: крутой берег, большая глубина. Все складывалось как нельзя лучше. С тщательностью, которая никак не выдавала моего зловещего намерения, я разделся и сложил свою одежду под молодой ольхой, а часы положил под камень. Дул резкий ветер, вода в октябре была лишь на несколько градусов выше нуля. Добежав до гребня скалы, я прыгнул в воду вниз головой, стараясь попасть между двумя огромными валами. Меня обожгло, какие-то минуты мне казалось, что я погружен в раскаленную лаву, но потом я все же вынырнул, и в памяти остались морские водоросли, которые я там увидел. Их везикулы оцарапали мне икры. Я быстро поплыл вперед, удаляясь от берега, могучие волны ударяли мне в грудь, чайки приветствовали меня смехом, а вороны – карканьем. Однако я вскоре обессилел, и тогда я повернул к берегу и выбрался на скалу. Наступал главный момент в осуществлении моего замысла: как известно, простудиться легче всего не во время самого купанья, а когда выходишь из воды, особенно если не сразу одеваешься, именно поэтому я выбрал на скале самое открытое место, подставил свою мокрую спину резкому октябрьскому ветру и с удовлетворением отметил, что кожа тут же задубела от холода, мышцы спазматически сократились и, словно повинуясь защитному инстинкту, сжалась грудная клетка, чтобы уберечь заключенные в ней органы. Однако усидеть на месте оказалось свыше моих сил, и тогда, вцепившись в ветку ольхи, я стал ее трясти что было мочи, дерево ходило ходуном от моих усилий, а я все не разжимал рук. Но ледяной ветер обжигал спину раскаленным железом, и я, не сомневаясь, что осуществил свой замысел на славу, стал торопливо натягивать на себя одежду.
Тем временем уже стемнело, и когда я снова вошел в лес, то обнаружил, что не видно ни зги. На меня напал настоящий страх, ветки елей больно хлестали по лицу, мне пришлось пробираться буквально ощупью. От ужаса мои пять чувств настолько обострились, что я мог, скажем, определять породу деревьев по шелесту листвы. Бас елей – их жесткие иголки звучали, как струны гигантской, но скверной гитары. Длинные, мягкие иголки сосновых кистей издавали более высокий звук и с неким посвистом – казалось, что шипят одновременно тысячи змей. Сухое бряцание веток березы пробуждало во мне детские воспоминания, пронизанные рождающимся сладострастием и тайными обидами. Шорох сухих дубовых листьев, еще не полностью облетевших с веток, звучал как шорох скомканной бумаги, шепот же можжевельника напоминал голос женщины, говорящей на ушко свои секреты. А глухой звук ольхи, когда ветер срывает с веток последние сережки! Я вдруг обрел дар отличать по звуку падения на землю еловую шишку от сосновой. По одному запаху я мог найти гриб, а когда ступал, нервы на больших пальцах мне подсказывали, где растет плаун, а где – кукушкин лен.
Эта моя сверхчувствительность благополучно вывела меня к кладбищу, и я перелез через изгородь. Там я насладился музыкой плакучих ив, которые стегали своими плетями кресты. Вконец окоченевший, вздрагивая от каждого неожиданного звука, я все же добрел до селения, и свечи, зажженные в домах, помогли мне найти путь в гостиницу.
Как только я очутился в своем номере, я сочинил телеграмму барону, сообщая ему о своей болезни и связанной с ней высадкой. После этого я написал ему же письмо, откровенно изложив на нескольких листах особенности моей психической конституции, не утаил от него прежнего приступа болезни и попросил сохранить мое признание в тайне. Толчком к моему нынешнему состоянию, объяснил я ему, послужило обручение моей любимой, поскольку я навсегда потерял всякую надежду с ней соединиться.
Вконец обессилев, я лег в постель, так как был совершенно уверен, что на этот раз заболел по-настоящему. Я вызвал звонком горничную и попросил ее привести доктора. Поскольку такового в селении не оказалось, мне пришлось довольствоваться местным священником, которому я и собирался сообщить свою последнюю волю.
И я стал ждать либо смерти, либо полного безумия.
Пришел священник. На вид ему можно было дать лет тридцать, а по облику он больше походил на батрака в воскресной одежде, чем на священнослужителя. Рыжая шевелюра, испещренное веснушками лицо, погасшие глаза – он не вызвал у меня никакой симпатии, и я долго лежал, не произнося ни слова, потому что не знал, что я могу доверить человеку, не имеющему образования и не отличавшемуся ни мудростью, приходящей с годами, ни знанием человеческого сердца. Он явно был смущен, что, впрочем, и естественно для провинциала при встрече со столичным жителем, и не решался сесть, а стоял посреди комнаты, пока я жестом не предложил ему стул. Тогда он начал свой допрос:
– Вы позвали меня, сударь. У вас, видно, горе.
– Да.
– Это не удивительно, ведь счастье можно обрести лишь у Христа!
Поскольку я томился по другому счастью, я не стал ему перечить. И он, проповедник-евангелист, заговорил монотонно, без души, как фабрикант слов. Старые, истертые фразы катехизиса приятно убаюкивали мое сознание, а присутствие живого существа, пытающегося вступить в общение с моей душой, меня поддержало. Однако молодой священник, вдруг усомнившийся в моей искренности, прервал себя и спросил:
– У вас есть истинная вера, сударь?
– Нет, – ответил я, – но продолжайте говорить, мне от этого становится легче.
Он снова принялся за свою работу. Непрерывный звук его голоса, сияние его глаз, тепло, исходящее от его тела, произвели на меня впечатление магических пассов, и полчаса спустя я уже спал.
Когда я проснулся, магнетизера не было. Вошла горничная и принесла мне опиат, который раздобыла у аптекаря, причем строго предупредила, что лекарством этим нельзя злоупотреблять, так как в пузырьке смертельная доза. Естественно, что, оставшись один, я тут же выпил залпом все лекарство до капли и, зарывшись в перину, стал ждать смертного часа. Вскоре я заснул.
Проснувшись утром, я нисколько не был удивлен, что солнце ярко освещает мой номер, потому что всю ночь мне снились какие-то ясные цветные сны. «Я вижу сны, значит, я существую», – подумал я и стал себя ощупывать, надеясь обнаружить высокую температуру и признаки воспаления легких. Однако, несмотря на мои искренние намерения убедиться в приближении летального исхода, я не мог не признать, что чувствую себя совсем не плохо. Голова была, правда, тяжелая, но работала исправно и уже далеко не так лихорадочно, как раньше, а двенадцать часов сна восстановили те жизненные силы, которыми я обычно располагал, поскольку с юности много занимался различными физическими упражнениями.
Вскоре мне принесли телеграмму, из которой я узнал, что мои друзья приезжают с двухчасовым пароходом.
Меня снова стал мучить стыд! Что я скажу им, как мне вести себя? Пробудившееся во мне мужское достоинство восставало против всего, что могло бы меня унизить, поэтому, быстро все прикинув, я решил ждать здесь прибытия следующего парохода и продолжить на нем свое путешествие. Таким образом, моя честь будет спасена, а приезд друзей будет всего лишь последним прощанием. Однако, перебирая мысленно все, что произошло накануне, я проникся к себе отвращением. Как могло случиться, чтобы я, человек трезвого ума, скептик, повел себя таким жалким образом? Чего стоило одно только обращение к священнику! Как объяснить такую блажь? Конечно, я обратился к нему как к официальному лицу, а он оказал на меня действие гипнотизера. Но для общественного мнения это будет выглядеть как обращение к богу. А может быть, даже решат, что мне надо было исповедаться в чем-то тайном, связанном с какими-нибудь сомнительными делами, короче, что-то вроде последней исповеди негодяя на смертном одре. Какой отличный повод для сплетен я дал местным жителям, которые, конечно, поддерживают непосредственную связь с горожанами! Будет о чем посудачить торговкам на рынке.
Единственный способ спасти положение – уехать за границу, и как можно скорее. Разыгрывая роль потерпевшего кораблекрушение, я провел утро, расхаживая по веранде, и то и дело постукивал по барометру, наблюдая движение стрелки, так что время пролетело довольно быстро, и пароход появился в горловине пролива прежде, чем я успел решить, отправиться ли мне на причал или остаться тут. Но, поскольку я не хотел стать посмешищем для людей, посвященных в мои обстоятельства, я все же не вышел из комнаты. После недолгого ожидания я услышал взволнованный голос баронессы, расспрашивающей хозяйку гостиницы о моем здоровье. Я поспешил ей навстречу, и она едва не кинулась мне на шею на глазах у всех. Исполненная состраданья, она громко сетовала на болезнь, которая случилась в результате переутомления, и горячо упрашивала меня вернуться в город, отложив поездку до весны.
В тот день она была удивительно хороша. Ее шуба, ниспадающая мягкими складками, напоминала одежду тибетского ламы, а крупные завитки каракуля эффектно подчеркивали стройность фигуры. От резкого морского ветра кровь прилила к ее щекам, а ее глаза, увеличившиеся от охватившего ее волнения, выражали бесконечную нежность. Как я ни пытался умерить ее тревогу насчет моего здоровья, уверяя, что уже вполне поправился, все было тщетно. Она уверяла, что я выгляжу как покойник, что мне противопоказаны малейшие усилия, – словом, обращалась со мной, как с малым ребенком. И эти материнские заботы ее необычайно красили. Интонации ее стали певуче-ласковыми, она шутки ради стала говорить мне «ты», закутала в свою шаль, а за столом повязала мне салфетку вокруг шеи, следила, чтобы мой стакан не был пуст, что-то разрешала, что-то запрещала. Она воистину была воплощением материнства! Если бы она могла быть так беззаветно предана своему ребенку, как была предана мне – затаившемуся самцу, преследующему самку, зверю в период осеннего спаривания! В роли больного дитяти, окутанный ее шалью, я чувствовал себя серым волком, улегшимся в постель бабушки, чтобы сожрать Красную Шапочку.
Мне стало стыдно. Стыдно перед ее мужем, наивным, открытым, заботившимся обо мне и тщательно избегавшим мучительных объяснений. И все же вины на мне не было, сердце мое замкнулось, и я принимал все знаки внимания, которые оказывала мне баронесса, прямо с оскорбительной холодностью.
Во время десерта, незадолго до отправления парохода, барон предложил мне вернуться с ними в город и занять комнату в их квартире – они готовы были мне ее предоставить. К чести своей должен сказать, что на это предложение я ответил решительным отказом. Ведь я прекрасно понимал, насколько опасно так играть с огнем, и поэтому объявил им свое твердое, не подлежащее отмене решение остаться здесь еще на неделю, чтобы окончательно прийти в себя, а потом вернуться в город и жить там в своей старой мансарде.
Так я поступил, несмотря на повторные протесты моих друзей. Странная вещь, но как только я становился непреклонным, как только проявлял волю и мужественность, баронесса разом теряла ко мне дружеское расположение. А чем больше я был растерян, чем больше уступал всем ее капризам, тем больше она меня боготворила и осыпала похвалами за мудрость и кротость. Она меня подавляла, подчиняла себе, а если я начинал оказывать ей хоть малейшее сопротивление, полностью отстранялась и проявляла ко мне неприязнь, граничащую с жестокостью.
Так, обсуждая вопрос о совместной жизни, она потеряла всякое хладнокровие, перечисляя взаимные выгоды, которые ожидают нас в этом случае. Особо важным тут было, по ее мнению, то обстоятельство, что таким образом мы имели бы удовольствие постоянно видеться, не приглашая друг друга в гости.
– Но помилуйте, баронесса, – возразил я, – что скажут люди, узнав, что в доме молодоженов поселился некий молодой человек?
– Что нам до людей и до их болтовни!
– Но ваша матушка и ваша тетушка… К тому же моя гордость не может смириться с тем, чтобы со мной обращались как с несовершеннолетним.
– К черту мужскую гордость! Вот погибнуть, не проронив ни слова, это вы считаете поступить по-мужски, да?
– Конечно, баронесса, мужчина должен быть сильным.
Тут она пришла в бешенство и с гневом принялась отрицать, вопреки очевидности, различие полов. Ее женская логика до того запутала меня, что я был вынужден обратиться за помощью к барону, который лишь усмехнулся в ответ, однако в усмешке этой я уловил глубокое презрение к женскому уму.
Около шести вечера пароход отчалил, увозя моих друзей, и я в одиночестве вернулся в гостиницу.
Вечер выдался великолепный. Оранжевый закат, дьявольски синяя вода с белесыми разводами, а над горизонтом, зубчатым из-за верхушек елей, висела медная луна.
Я сел за столик в ресторане, подперев голову руками, отдался своим переменчивым мыслям, то смертельно печальным, то веселым, и тут ко мне подошла хозяйка.
– Скажите, сударь, молодая дама, которую вы только что проводили, ваша сестра?
– Нет, не сестра.
– Просто удивительно, до чего вы похожи друг на друга! Можно поклясться, что вы брат и сестра.
Так как я не был расположен поддерживать этот разговор, он тут же иссяк, однако дал новый толчок моим раздумьям.
Возможно ли, спрашивал я себя, что сосредоточенность всех моих мыслей в эти дни на баронессе как-то изменила черты моего лица, а может быть, дело просто в том, что выражение наших лиц стало сходным за эти полгода интенсивной духовной близости? Стремление понравиться друг другу во что бы ни стало привело, видимо, к бессознательному отбору наиболее привлекательной мимики, к наиболее обаятельной манере держать себя, все же иное постепенно исчезало. Вполне возможно, что так оно и было, во всяком случае, поскольку произошло взаимопроникновение двух душ, мы отныне действительно стали зависеть друг от друга. Судьба, а говоря проще, инстинкт сыграл, как всегда, свою низменную и неизбежную роль, камень покатился с горы, сметая со своего пути все и вся – честь, разум, счастье, верность, добродетель, целомудрие!
Какое изумительное простодушие! Она, видите ли, задумала поселить под своей крышей пылкого молодого человека, находящегося в том самом возрасте, когда все желания порождаются плотскими вожделениями. Кто же она, в конце концов, тайная распутница или женщина, которой любовь помрачила разум? Распутница? О нет! Тысячу раз нет!… Я боготворил ее за естественность поведения, за душевную чистоту, за искренность и материнскую нежность. Да, что и говорить, она эксцентрична, даже, если угодно, взбалмошна, что, впрочем, она и сама за собой знает, трезво оценивая свои недостатки, но она не злодейка! И даже когда она прибегает к своим наивным хитростям, чтобы растревожить меня, она ведет себя как уверенная в себе женщина, которая забавляется тем, что смущает робкого юношу, а не как заядлая кокетка, стремящаяся вызвать плотскую страсть у заинтересовавшего ее мужчины.
Теперь я должен был укротить пробудившихся демонов и, чтобы навести всех на ложный след, сел за письменный стол и набросал письмо, в котором снова оседлал своего старого конька и витиевато распространялся о своей несчастной любви, приписывая этот приступ отчаяния успеху певца, навеки лишившему меня всяких надежд. И в виде литературного доказательства приложил к письму два стихотворения «К НЕЙ», исполненных как бешеного темперамента, так и двойного смысла. Если они ранят баронессу, то что ж, я не против! Однако ни на письмо, ни на стихи ответа не последовало; то ли мой прием уже не произвел на них должного действия, то ли эта тема их уже не интересовала.
Тихие, спокойные дни, которые я провел в деревне, помогли мне восстановить силы. Окружавшая меня природа была одухотворена образом обожаемой мною женщины, даже лес, в котором я провел такие страшные часы, будто в чистилище, казался мне теперь веселым, и когда я гулял по утрам, эти места, где я насмерть сражался со всеми демонами, заключенными в человеческом сердце, уже не внушали мне ни капли ужаса. Встреча с ней и уверенность, что вновь ее увижу, вернули мне жизнь и разум!
Хорошо зная по личному опыту, что нежданный гость никогда не бывает по-настоящему желанным, я вошел в дом баронессы лишь после больших колебаний. Еще на улице меня неприятно поразили голые деревья, отсутствие скамеек в садике, неогороженные клумбы, танец сухих листьев на ветру – печальные приметы зимы. А войдя в гостиную, я испытал чувство подавленности, вдохнув спертый воздух, согретый высокими белыми изразцовыми печами, встроенными в стены, – казалось, они свисали с потолка, словно простыни. Вторые рамы были уже вставлены, и щели заклеены белой бумажной лентой. Из-за ваты, лежащей между рамами и изображающей снег, казалось, что эту комнату приспособили для умирающего. Я постарался мысленно убрать из нее все предметы дворянского быта и восстановить ее в прежнем виде, когда она была столовой в буржуазном доме с суровым укладом: голые стены, дощатый пол, не покрытый ковром, обеденный стол из мореного дуба на восьми ногах, похожий на паука, а над ним – строгие лица отца и мачехи.
Баронесса встретила меня радушно, но вид у нее был печальный, словно она пережила какое-то разочарование. У них в гостях были свекор и дядя, они играли с бароном в карты в другой комнате. Я пошел с ними поздороваться, а потом оказался наедине с баронессой. Она села в кресло у лампы и принялась за вязание. Молчаливая, угрюмая, некрасивая, она предоставила мне вести разговор, который вскоре превратился в монолог, поскольку она не подавала реплик. Я примостился у печки и глядел на нее: склонившись над своей работой, она вязала, не подымая головы. Таинственная, ушедшая в себя, она, казалось, временами совершенно забывала о моем присутствии, и я решил, что пришел некстати и что мое возвращение в столицу произвело дурное впечатление, как, впрочем, я и ожидал. Вдруг я невзначай опустил глаза, и в полутьме, под столиком, покрытым ковровой скатертью, меня ослепила ее ножка, обтянутая белым чулком, перехваченным подвязкой с пестрой вышивкой. Видно, садясь, она приподняла юбку, и эта ножка, сразившая меня безупречностью линий, предстала моему взору во всей своей красе. Жар ударил мне в голову, ибо по ней мое воображение сразу же воссоздало все ее тело. Ах, эта крошечная ножка с крутым подъемом, обутая в башмачок Золушки!








