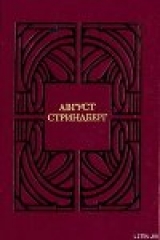
Текст книги "Слово безумца в свою защиту"
Автор книги: Август Юхан Стриндберг
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
В канун отъезда баронессы в Финляндию я отправился попрощаться. Стоял теплый июньский вечер, когда я вошел к ним во двор. Баронессу я застал в саду среди кустов кирказона [10]10
Кирказон – род многолетних трав или деревянистых лиан семейства кирказоновых.
[Закрыть]. Она была в белом и из-за садовой ограды показалась мне неземным существом, ослепляющим какой-то невообразимой красотой. Ее белоснежное платье из пике, отделанное русскими кружевами – чудо мастерства какой-нибудь крепостной, – являлось подлинным Шедевром. К тому же на ней были ожерелья, серьги и браслеты из алебастрового стекла, излучавшего какой-то особый свет, напоминающий мерцание свечи в стеклянном шаре, разукрашенном вытравленным царской водкой орнаментом. Этот теплый свет буквально озарял ее лицо с блестящими, черными как антрацит глазами, в то время как отсветы зеленых листьев трагическими тенями подчеркивали белизну ее щек и лба.
Да, ее облик потряс меня до глубины души, словно виденье. Жажда обожествления, так присущая мне, но загнанная на самое Дно моего сознания, вдруг вырвалась наружу и заполнила зияющую пустоту моей души. Религиозность была мною теперь изжита, но потребность в преклонении осталась, хоть и обрела новую форму. Бог был предан забвению, но его место заняла женщина, девственница и мать одновременно. Глядя на дочку баронессы, которая стояла рядом, я не мог себе представить, что девочка рождена этой женщиной. Интимные отношения барона и его супруги я никогда не воспринимал как чувственные, связь их представлялась мне бестелесной. Вот с этой минуты баронесса и предстала предо мной воплощением чистого и недоступного духа, обитающего в теле редкостного совершенства. Я обожал ее такой, какой она была – женой и матерью, женой именно этого мужа и матерью этой девочки. Но чувство мое было чисто платоническим. Поэтому присутствие барона во время наших встреч казалось мне совершенно необходимым, без него я не испытал бы всей полноты счастья обожания. Ведь без мужа она была бы подобна вдове, а я решительно не уверен, что и тогда обожал бы ее с той же силой.
А будь она моей, иначе говоря, если бы она стала моей женой? Нет! Прежде всего, такая святотатственная мысль не могла даже родиться в моей голове. А кроме того, став моей женой, она перестала бы быть женой своего мужа, матерью своего ребенка, хозяйкой этого дома. Нет, она должна быть только такой, какой она была, либо вообще никакой!
Короче, дело ли здесь в суровости воспоминаний, связанных с домом, в котором она жила, или в моих инстинктах выходца из низшего сословия, восхищающегося высоким происхождением, чистотой голубой крови и теряющего уважение к обожаемому предмету, если он упадет со своего пьедестала, но ясно одно – благоговение, которое я испытывал к этой женщине, во всех отношениях смахивало на мою старую веру, от которой я только-только освободился. Благоговеть, жертвовать собой, страдать, не имея при этом и тени надежды получить за это что-либо, кроме радости от благоговения, от готовности приносить жертвы и страдать.
Я стал для нее чем-то вроде ангела-хранителя, но при этом решил наблюдать за ней по возможности тайно, чтобы сила моей любви не увлекла бы ее в конце концов. Я тщательно избегал оставаться с ней наедине, чтобы между нами не возникло доверительного разговора, который мог бы нанести ущерб ее мужу.
Однако когда я увидел ее в саду, в канун отъезда, она была одна. Мы обменялись какими-то незначительными словами. Но внезапно мое волнение передалось ей, взгляд моих пылающих глаз, видно, вызвал у нее желание открыться мне. Она будет сожалеть, это она предчувствовала и, не таясь, мне поведала, что разлучилась, пусть и на такой короткий срок, с мужем и дочкой. Она заклинала меня проводить с ним все мое свободное время, да и о ней не забывать в те дни, когда она будет защищать мои интересы перед молодой финкой.
– Вы любите ее всем сердцем, не правда ли? – спросила она, не спуская с меня пытливого взгляда.
– Не спрашивайте меня! – ответил я, совершенно подавленный необходимостью лгать.
С того дня я уже не сомневался, что мое весеннее увлечение было не любовью, а выдумкой, капризом – словом, ничем.
Из страха замарать ее моей так называемой любовью, боясь невольно завлечь ее в паутину своих чувств, желая хоть как-то оградить ее от себя, я резко оборвал наш разговор и спросил, где барон. Она надула губки, должно быть поняв, что скрывается за моей резкостью. Возможно даже, теперь я подозреваю, что так оно и было, ее забавляло волнение, которое охватило меня при виде ее красоты. Возможно также, что именно в этот момент она осознала, какой страшной волшебной властью обладает над этим Иосифом, таким с виду холодным и вынужденным быть целомудренным.
– Вам скучно со мной, – сказала она. – Сейчас позову на помощь барона.
И звонким голосом она позвала мужа.
Окно их квартиры на втором этаже распахнулось, и в нем показалось крупное, мужественное лицо барона, который с улыбкой глядел на нас. Минуту спустя он уже стоял с нами в садике. В парадной форме королевской гвардии, в темно-синем, расшитом серебряным галуном и желтым шелком мундире он был поистине великолепен и прекрасно дополнял эфемерную ослепительно белую фигурку стоящей рядом жены. Как привлекательно выглядела эта чета, когда каждый лишь подчеркивал достоинства другого! Это было подобно блестящему спектаклю, истинному произведению искусства!
После ужина барон предложил мне проводить на следующий день баронессу, которая отправлялась на пароходе в Финляндию. Мы могли бы немного проплыть с ней и сойти на последней пристани перед таможней. Предложение это было мною принято, и баронесса, как мне показалось, обрадовалась, предвкушая удовольствие провести всем вместе летнюю ночь на палубе парохода, огибающего шхеры.
Таким образом, вечером следующего дня мы втроем оказались на пароходе, который в десять часов отошел от пристани. Ночь была светлой, море синим и спокойным, на небе еще не погасло оранжевое зарево. Мы проплывали мимо берегов, покрытых лесом и освещенных этим странным полудневным светом, и, глядя на небо, трудно было решить, что это – закат или рассвет.
После полуночи в наших восторгах, которые подогревались все меняющимися пейзажами и пробужденными воспоминаниями, наступила пауза, сон валил нас с ног, хотя мы и не хотели ему подчиниться. Лица, освещенные чуть брезжущим светом рождающегося дня, были бледными, а от утреннего ветерка нам стало зябко. Нами вдруг овладела сентиментальность, мы решили, что будем навеки друзьями, что нас соединила сама судьба, и у всех троих возникло ощущение нерасторжимости нашей исполненной тайного смысла связи. Я был в то время хрупкого здоровья вследствие перенесенной лихорадки, выглядел, видимо, плохо из-за бессонной ночи, и они стали со мной обращаться как с больным ребенком. Баронесса укутала меня своей шалью из альпака, приказала пересесть, чтобы укрыться от ветра, налила мне из фляжки мадеры, разговаривала со мной, будто играя в дочки-матери, а я не возражал. От усталости я потерял всякий контроль над собой, мое сердце, до этого наглухо закрытое, вдруг распахнулось, и я, не привыкший к проявлениям женской нежности, секретом которой обладает только женщина-мать, принялся импровизировать, почтительно выражая свое обожание в поэтических грезах, которые могли родиться лишь в воспаленном от бессонницы мозгу. Все мои затаенные мечты этой ночи нашли вдруг свое воплощение, но воплощение туманное, расплывчатое, мистическое, а моя художественная фантазия, столь долго не имевшая выхода, порождала переменчивые, воздушные видения. Я говорил без умолку, час за часом, черпая вдохновение в жадно устремленных на меня глазах, улавливающих каждое движение моей души. Я чувствовал, как мое слабое тело пожирается бешено работающим мозгом, и постепенно терял ощущение своего телесного существования.
Встает солнце, и тысячи озаряемых им островков будто начинают плыть по глади залива, желтые, цвета серы, лучи отражаются в окнах прибрежных домишек и заставляют вспыхивать сосновые ветви яркой медью. Дымы из труб свидетельствуют о том, что кофейники уже стоят на плитах, рыбаки поднимают паруса на своих баркасах, чтобы отправиться к выходу из залива и вытянуть сети, и истошно орут чайки, чуя приближающиеся косяки салаки.
На пароходе все еще царит тишина, пассажиры спят в трюме, и только мы трое по-прежнему стоим на задней палубе. За нами из рубки наблюдает полусонный капитан, видимо, его разбирает любопытство, о чем это люди могут говорить столько часов кряду.
В три часа утра из-за мыса появляется лодка лоцмана, которая нас разлучит.
Залив отделен от открытого моря лишь несколькими продолговатыми островами. Море бушует, и это уже чувствуется на пароходе, да и доносился гул волн, разбивающихся о последние крутые рифы.
Настала минута прощания. Они обнялись так горячо и порывисто, что невозможно было не разделить их печали. Потом она со слезами на глазах страстно сжала мою руку своими двумя, прося мужа обо мне позаботиться и одновременно умоляя меня утешать его во время его двухнедельного «вдовства».
Я наклонился и, не думая ни о неуместности этого жеста, ни о том, что невольно раскрываю свои тайные чувства, поцеловал ей руку. Тем временем машина заглохла, пароход остановился, и к его борту пришвартовалась лодка лоцмана. Я сделал два шага по сходням и оказался в лодке рядом с бароном.
Над нами возвышалась громада парохода, и мы увидели прелестную головку, склоненную над перилами палубы, ее детские глаза, полные слез, выражали печаль, но она одарила нас прощальной улыбкой.
Снова заработал корабельный винт, гигант двинулся вперед, на корме его развевался русский флаг. Нас начало качать на волнах, но мы продолжали махать платками, влажными от только что утертых слез.
А личико баронессы все уменьшалось, прелестные черты сливались, и нам видны были только ее огромные глаза, их взгляд, но потом и это исчезло. Секунду спустя мы различали лишь легкую синюю вуаль на японской шляпе и трепетавший на ветру батистовый платочек, потом – одно белое пятнышко, наконец, точечку, и все, – от нас удалялось бесформенное чудовище, окутанное вонючим дымом.
Мы с бароном поднялись на причал, где находились контора лоцманов и таможня. Летом эту пристань переоборудовали под купальню. Деревня была еще погружена в сон, и на дебаркадере не было ни души. Мы постояли, провожая глазами пароход, пока он не повернул направо и не исчез за мысом, служащим бухте последней защитой от моря.
В тот миг, когда пароход окончательно скрылся, барон судорожно обнял меня, сотрясаясь от слез, и мы простояли так некоторое время, ни слова не говоря.
Бессонная ли ночь вызвала эти слезы? Или мрачные предчувствия? Или просто сожаление по поводу разлуки? И теперь еще я не в силах ответить на эти вопросы.
Молча, не проронив ни слова, уныло добрели мы до деревни в надежде выпить кофе. Но харчевня была еще закрыта, и нам пришлось пошататься по улицам. Двери всех домов были тоже заперты и жалюзи опущены. В конце концов мы вышли из деревни и оказались в пустынной местности на берегу узкого залива. Вода в нем была прозрачная, и мы решили умыться. Тогда я раскрыл свой несессер и вынул из него чистый платок, мыло, зубную щетку и флакон с одеколоном. Барон с насмешкой наблюдал за моими приготовлениями, однако был благодарен за удовольствие, которое я ему доставил, одолжив все необходимое, чтобы свершить свой туалет в таком неприспособленном для этого месте.
Когда же мы вернулись в деревню, я уловил запах дыма в прибрежном ольшанике. Жестом я указал барону, что это последний привет, который принес нам морской ветер от давно уже скрывшегося с глаз парохода. Но барон оставил это без внимания.
В харчевне на моего друга было жалко смотреть: он клевал носом, лицо отекло от бессонной ночи, вид у него был печальный. Между нами возникла какая-то натянутость, он был погружен в свои мысли и упорно молчал. Однако время от времени он дружески прикасался к моей руке, просил извинить его рассеянность и снова впадал в необъяснимую прострацию. Я делал все, что мог, чтобы привести его в чувство, но настоящего контакта так и не получалось, то, что нас прежде объединяло, вдруг исчезло. Крупные черты его, еще недавно казавшиеся мне такими привлекательными, на глазах обретали непредполагаемую вульгарность и грубость. Лицо его больше не освещалось прелестью и красотой обожаемой им женщины, и он постепенно принимал неприятный облик солдафона.
О чем он думал, я не знаю. Возможно, он разгадал мою тайну. Судя по неровности его поведения, он, видимо, был раздираем противоречивыми чувствами, он то пожимал мне руку и называл своим лучшим и единственным другом, то с неприязнью отворачивался от меня.
Я с ужасом понял, что оба мы можем жить только в ее присутствии, только для нее. Но стоило нашему солнцу зайти, как мы тут же поблекли.
Когда мы вернулись в город, я хотел было проститься с бароном, но он, помимо моей воли, упросил меня пойти вместе с ним, и я подчинился.
Мы вошли в их опустевшую квартиру, и нам показалось, что оттуда только что вынесли покойника. И мы снова не смогли сдержать слез. Я был смущен и понял, что спасти меня может только юмор.
– Смешно, не правда ли, господин барон? Гвардейский капитан и королевский секретарь рыдают…
– Слезы облегчают душу, – сказал он и кликнул дочку, но приход ее лишь обострил боль разлуки с баронессой.
Пробило девять. Сил у нас больше не было, и он предложил мне лечь спать тут, в гостиной, на диване, сам же он ляжет в спальне. Он сунул мне под голову подушку, накрыл своей шинелью и пожелал спокойного сна, сердечно поблагодарив за то, что я не бросил его в одиночестве. В его братской нежности, несомненно, был отзвук отношения ко мне баронессы, которая полностью занимала все его мысли. Почти мгновенно погрузился я в тяжелый сон, но все же успел отметить, что он еще раз на цыпочках подошел ко мне, чтобы проверить, удобно ли мне спать на диване.
Проснулся я около полудня. Барон уже был на ногах. Одиночество его страшило, и он предложил отправиться вместе в парк и там пообедать. Так мы и сделали и провели весь день, говоря о разных разностях, но больше всего о том дорогом существе, без которого жизнь каждого из нас теряла всякий смысл.
В течение следующих двух дней я избегал встречи с бароном и уединился в библиотеке, полуподвалы которой представляли убежище, как нельзя более соответствующее состоянию моего духа. В просторном рокальном зале с окнами, выходящими во Двор Львов, некогда было размещено собрание скульптур, а теперь хранились древние манускрипты. Вот там я и скрылся от всего света. Я брал с полок первые попавшиеся рукописи, лишь бы текст был достаточно старым, чтобы отвлечь меня от недавних событий. Но по мере того, как я углублялся в чтение, современность проникала в прошлое, и пожелтевшие буквы письма королевы Кристины [11]11
Кристина Августа (1626 – 1689) – королева Швеции с 1632 по 1654 г. Тайно перейдя в католичество, отреклась от престола, чему способствовало также осложнение внутриполитического и международного положения Швеции. Одна из образованнейших женщин своего времени. Образ Кристины интересовал Стриндберга, посвятившего ей одну из своих исторических драм («Кристина», 1903).
[Закрыть] шептали мне признания баронессы.
Я не посещал своего обычного ресторана, чтобы не встречаться с друзьями. Я не хотел осквернять рта разговорами с еретиками, которые не должны были узнать о моей новой вере. Я ревновал себя к ним, поскольку отныне я весь, целиком, должен был принадлежать только ей. Когда я бродил по городу, мне хотелось, чтобы передо мной шли певчие и звонили бы в колокольчики, оповещая уличную толпу о появлении новой святыни, заключенной в дароносице моего сердца. Я воображал, что ношу траур по королеве, и готов был просить прохожих снять шляпы перед покойницей – моей мертворожденной любовью, не имевшей ни малейшей надежды на жизнь.
На третьи сутки около часу дня меня вывела из оцепенения барабанная дробь во время смены караула гвардейцев, и вдруг зазвучал траурный марш Шопена. Я подбежал к окну и увидел барона, марширующего впереди расчета гвардейцев. Он приветствовал меня кивком головы и озорной улыбкой. Ведь это он приказал оркестру играть любимый марш баронессы, и музыканты не знали, что играют в ее честь для нас двоих перед собравшейся толпой зевак, которые и подавно ни о чем не подозревали.
Полчаса спустя барон пришел ко мне в библиотеку. Я повел его по темным коридорам, уставленным книжными шкафами, в подвал, в рукописный зал. Вид у него был бодрый, и он первым делом изложил мне содержание письма, полученного от жены. Все у нее складывалось как нельзя лучше. В письмо была вложена записочка и для меня, которую я тут же прочитал, стараясь при этом скрыть свое волнение. Тон записки был дружеский, естественный, баронесса благодарила меня за заботу о ее «старике» и признавалась, что была весьма тронута нашим прощанием. Сейчас она гостила У моей «спасительницы», которую еще больше полюбила, и отзывалась о ней самым лестным образом, уверяя меня, что я могу серьезно надеяться. Вот и все.
Значит, она любит меня! Однако теперь я считал ее чудовищем, одно воспоминание о котором вызывало у меня отвращение, но я был вынужден, сам того не желая, изображать влюбленного, и этой ужасной комедии не было видно конца. А с любовью, как известно, не шутят. Я попал в ловушку и, охваченный бешенством, старался вывести на чистую воду эту тварь с чуть раскосыми глазами, серым цветом лица и красными руками, которая заставила меня себя полюбить. Испытывая дьявольское удовольствие, я вспоминал теперь все ее уловки обольщения, ее весьма сомнительную манеру держать себя, которая дала повод моим друзьям спрашивать меня с нехорошим смешком, как зовут эту шлюху, которую я водил гулять в предместье. Со злорадством я перечислял себе ее претенциозные выходки, убеждался в упрямстве, с которым она делала все возможное, чтобы меня подцепить. Вот, например: она всегда вытаскивала часики из-за корсажа так, чтобы при этом чуть выглядывало кружево ее лифа. А в то воскресенье, когда мы с ней гуляли в парке и ходили по аллеям, она вдруг предложила углубиться в чащу. Когда я это услышал, у меня прямо волосы встали дыбом, потому что сходить с аллеи в этом парке считалось абсолютно неприличным. Я возразил, сказав, что это неудобно, но моя спутница не нашла ничего лучшего, чем воскликнуть: «Плевать на приличия!»
Ей, видите ли, захотелось нарвать анемонов, которые росли в орешнике, и, не раздумывая, она чуть ли не бегом бросилась в кусты. В смущении я двинулся вслед за ней. Найдя весьма укромное местечко, надежно скрытое от глаз прохожих, она уселась под крушиной, подобрав при этом юбку так, чтобы видны были ноги, к слову сказать, довольно стройные, но со следами обморожения. Возникла напряженная пауза, во время которой мне невольно пришла на ум история коринфских дев, взбешенных тем, что их почему-то заставляют ждать изнасилования, на которое они рассчитывали. Она смотрела на меня с глупым видом, и даю честное слово, только ее уродство и мое отвращение к легким победам сохранили ей невинность.
Все эти подробности, которые я старался забыть, как недостойные внимания, всплыли в моей памяти, поскольку возникла реальная опасность, что она снова свалится мне на голову, и я стал страстно желать удачи певцу в его любовных начинаниях. Мне же ничего не оставалось, как покорно носить маску.
Пока я вчитывался в записку баронессы, барон сидел у большого стола, заваленного книгами и рукописями, и вертел в руках свой офицерский жезл из резной слоновой кости. Он рассеянно глядел по сторонам, и, казалось, чувствовал свою некомпетентность, конечно только в области гуманитарных наук, по сравнению с какой-то штатской крысой вроде меня, и на все мои попытки развлечь его моими учеными изысканиями отвечал одной лишь фразой:
– Несомненно, это должно быть весьма поучительно!…
А я, в свою очередь ощущая свое ничтожество рядом с великолепием его офицерских регалий, знаков различия, портупеи, его парадного мундира, выхвалялся, чтобы установить между нами хоть некоторое равновесие, своими знаниями, но ничего, кроме некоторой растерянности, у него не вызвал.
Шпага и перо! Дворянин плывет вниз по течению, разночинец – вверх! Быть может, женщина, бессознательно, но с присущей ей прозорливостью, предвидела, кому принадлежит будущее, раз в дальнейшем она выбрала в качестве отца своих детей представителя не наследственного, а нового, духовного дворянства.
Так или иначе, между бароном и мной воцарилась какая-то неловкость, в которой мы не желали себе признаться, хотя он и делал большие усилия, чтобы обращаться со мной как с ровней. Иногда он даже выказывал мне большое уважение, вызванное моими знаниями, и тем самым признавал, что в этой области стоит на более низкой ступени, нежели я. Когда же он принимался кичиться своей родословной, достаточно было одного слова баронессы, чтобы поставить его на место. Для нее наследственные гербы не имели цены, и парадный мундир капитана в ее глазах явно проигрывал рядом с сюртуком, осыпанным ученой пылью, разве он сам этого не признал, надев в свое время блузу художника? Все это так, но тем не менее ему никуда было не уйти от дворянского воспитания, от приверженности традициям. Ревнивая ненависть между студентами и офицерами вошла в кровь, и никому никуда от нее не деться.
Но в данном случае я был ему нужен как аудитория для демонстрации своего горя, и он пригласил меня к себе на обед.
Когда мы выпили кофе, барон предложил написать баронессе письмо и протянул мне перо и бумагу. Таким образом, я оказался вынужденным написать ей и ломал себе голову, сочиняя банальные фразы, могущие заглушить голос сердца.
Написав письмо, я протянул его барону, чтобы тот его пробежал.
– Я никогда не читаю чужих писем, – сказал он мне с подчеркнутым высокомерием.
– А я никогда не пишу чужим женам без того, чтобы завизировать письмо у мужа, – парировал я.
Он бросил беглый взгляд на листок и с какой-то невнятной улыбкой сунул его в конверт вместе со своим.
В течение целой недели я его не видел, и вдруг как-то вечером мы случайно столкнулись на перекрестке. Он был как будто мне очень рад, и мы отправились в кафе, чтобы он смог, как уже повелось, исповедаться.
Оказывается, он провел несколько дней за городом, у той самой кузины его жены, о которой уже было столько разговоров. Я еще ни разу не видел этой завлекательной особы, но следы встречи барона с ней было бы трудно не заметить. От обычного для него выражения надменности и печали не осталось и следа, в лице появилось что-то жизнерадостное и чувственное, а словарь пополнился рискованными выражениями сомнительного вкуса. Даже интонации его голоса явно изменились. «Какая, однако, податливая личность, – подумал я, – до чего же он восприимчив, подвластен любому впечатлению. Он – tabula rasa [12]12
Букв.: чистая доска (лат.). В переносном смысле – нечто чистое, нетронутое.
[Закрыть], и самая слабая женская рука может начертать там с равным успехом как глупость, так и гениальное прозрение».
Человек у меня на глазах превратился в опереточного персонажа, он острил, сплетничал, громко хохотал. В гражданском платье он терял всю свою значительность. А когда после обеда, захмелев, захотел поехать к проституткам, он показался мне просто отвратительным. Оказывается, весь он исчерпывался расшитым мундиром, перевязью и знаками различия. А помимо этого – ничего!
Все больше пьянея, он собрался было посвятить меня в свои интимные отношения с женой. Я оборвал его на полуслове и, возмущенный, встал, хотя он все еще продолжал мне твердить, что жена разрешила ему во время своего отсутствия воспользоваться свободой. Мне это показалось, кстати, очень человечным и лишь подтвердило мои догадки о целомудренности баронессы. Расстались мы рано, и я вернулся домой, совершенно потрясенный откровенными признаниями барона, которые мне пришлось выслушать.
Чтобы женщина, влюбленная в своего мужа, предоставляла ему полную свободу, не требуя при этом тех же прав для себя! Мне это казалось в высшей степени странным! Таким же противоестественным, как любовь без ревности, как лицевая сторона без изнанки. Такого не бывает. «Она целомудренна», – признался он мне. Еще одна странность. Выходит, я угадал насчет матери-девственницы. А целомудрие – это качество, свойственное высшей расе, чистой душе, присущее цивилизованным нравам благовоспитанных людей.
Это, к слову сказать, вполне соответствовало моим юношеским представлениям, когда девица из высшего общества вызывала у меня только чувство благоговения, никогда не возбуждая моей чувственности.
Детские мечты, полное незнание женщины. На самом же деле это куда более сложная проблема, чем она представляется холостяку.
Но вот баронесса вернулась. Как замечательно она выглядела, как помолодела от нахлынувших на родине воспоминаний и общения с друзьями юности!
– Вот голубка, которая принесла вам оливковую ветвь, – сказала она, вручая мне письмо моей пресловутой невесты.
Я читал бесцветную, претенциозную болтовню, которую могло написать только бездушное существо, этакий синий чулок, жаждущий с помощью брака, не важно с кем, освободиться от родительского гнета.
Прочитав это письмо и весьма неубедительно изобразив при этом радость, я все же решил до конца разобраться в этой скучной истории.
– Не можете ли вы мне объяснить, – спросил я баронессу, – является ли эта барышня все же невестой певца?
– И да и нет!
– Но она дала ему согласие?
– Нет!
– Она хочет выйти за него замуж?
– Нет!
– Ее отец и мать настаивают на этом браке?
– Они ненавидят певца!
– Почему же она так упорно хочет продать себя этому человеку?
– Потому что… Я не знаю!
– А меня она любит?
– Быть может!
– Значит, она просто жаждет выйти замуж. И выйдет за того, кто больше даст, как на торгах. Ничего она не понимает в любви!…
– А как вы понимаете любовь?
– Любовь?… По-моему, это чувство подавляет все остальные, оно, как сила природы, все крушит на своем пути, вроде обвала, или прилива, или грозы…
Она поглядела мне в лицо и не стала говорить тех слов, которые приготовила, чтобы защитить свою подругу.
– И вы ее так любите? – спросила она.
В ту минуту я был готов ей во всем признаться, но в каком положении я оказался бы потом? Всякая связь между нами порвалась бы. Нет, только ложь – моя защита от преступной любви, – только ложь мне необходима!
Чтобы не давать баронессе утвердительного ответа на ее вопрос, я попросил не говорить больше об этом. Она, жестокая красавица, отныне умерла для меня, заверил я баронессу, и мой долг, хоть это и нелегко, в том, чтобы забыть ее.
Баронесса пыталась меня утешить, но при этом не скрывала, что певец опасный соперник, поскольку он имеет постоянный доступ к объекту своих воздыханий.
Барон, устав от нашей болтовни, вступил в разговор, заявив, что с огнем шутки плохи, он обжигает, и дал тем самым понять, что не следует впутываться в чужие любовные дела.
Это было сказано довольно резко, и баронесса с досады вся залилась краской, так что мне пришлось вмешаться, чтобы не дать разыграться надвигающейся буре.
Камень катился с горы, набирая скорость, ложь, которая поначалу была скорее игрой воображения, стремительно разрасталась. Стыд и страх вынуждали меня к самообману, я стал даже сочинять стихи и сам уже был готов поверить в свой вымысел. Я придумал себе роль несчастного влюбленного, и играть ее мне было нетрудно, поскольку я ведь и в самом деле это переживал, только по отношению к другому предмету.
И вот я чуть не угодил в мною же расставленные сети. В одно прекрасное утро я нашел у себя дома визитную карточку господина X., секретаря таможенного управления, а иными словами – законного отца моей «спасительницы». Я тотчас же отдал ему визит. Этот маленький старичок, невероятно похожий на свою дочь, так сказать, карикатура на карикатуру, разговаривал со мной как с будущим зятем, расспрашивал о родителях, о сбережениях, о перспективах на продвижение по службе. Дело начинало принимать угрожающе серьезный оборот. Как быть? Я старался изобразить из себя маленького человечка, как можно более ничтожного, чтобы он отвернул от меня свой отеческий взгляд. Цель его поездки в Стокгольм была мне ясна. Либо он хотел отделаться от ненавистного ему певца, либо сама красавица решила остановить свой выбор на мне после того, как ее папаша, посланный ею в качестве эксперта, оценит меня по достоинству. Но я решил стать недоступным, всякий раз уклонялся от встречи, не пришел даже на званый обед к баронессе, объясняя все срочной работой в библиотеке, и так измучил бедного тестя своими выходками, что в конце концов он уехал раньше предполагаемого срока.
Догадывался ли потом певец, кому он обязан теми муками, которые обрушились на него, когда он женился наконец на своей мадонне? Нет, этого он так и не узнал и гордился своей победой надо мной.
Едва эта история была завершена, как возник новый инцидент, который тоже оказал влияние на нашу судьбу. Баронесса, взяв с собой дочку, неожиданно уехала из города. Это произошло в начале августа. Ссылаясь на свое здоровье, она отправилась на воды в маленький городок, расположенный на берегу озера Меларен, где жила и ее юная кузина со своими родителями.
По правде говоря, столь поспешный отъезд баронессы, последовавший вскоре после ее возвращения из долгого путешествия по Финляндии, меня несколько удивил, но, поскольку меня это, строго говоря, не касалось, я этого не высказал. Три дня спустя меня вызвал барон. Что-то явно беспокоило его, он нервничал и объявил мне с таинственным видом, что баронесса на днях возвращается.
– Почему? – спросил я, на этот раз не сумев уже скрыть своего изумления.
– То ли она волнуется… то ли климат ей не подходит… Я получил от нее весьма путаное письмо, которое, признаюсь, меня крайне встревожило. Вообще-то я никогда ее не понимал. Ее голова полна каких-то диких мыслей, в частности она вообразила, что ты на нее сердишься.
Представляете, какое мне надо было сделать усилие, чтобы казаться спокойным.
– Это просто нелепо, не правда ли? Во всяком случае, – продолжал он, – я сердечно тебя прошу ничем не обнаружить своего удивления, когда она вернется, потому что она стыдится своей неуравновешенности. А так как она одержима дьявольской гордыней, то способна на любое безрассудство, если заподозрит, что ты не одобряешь ее капризов.
«Вот труп и завонял», – сказал я себе. И с этой минуты я стал готовиться к бегству, боясь оказаться втянутым в любовную историю, развязки которой долго бы ждать не пришлось.
Получив от них очередное приглашение, я под малоубедительным предлогом отказался прийти. Это их обидело, и барон, разыскав меня, попросил объяснить ему действительные причины моего странного поведения. Я не знал, что ответить, и тогда он, воспользовавшись моим смущением, заставил меня согласиться поехать вместе с ними за город.
Баронесса выглядела плохо, на ней, как говорится, не было лица, а глаза лихорадочно блестели. Я тут же замкнулся, разговаривал ледяным тоном, был более чем сдержан. Мы добрались на пароходике до модного кабачка, где было назначено свидание с дядей барона. Ужин прошел невесело. Мы сидели на дворе под сенью столетних лип с черными от старости стволами, а нашему взору открывался мрачный вид на черную гладь озера, окаймленного черными же горами.








