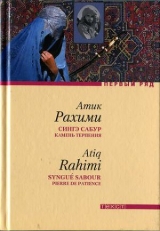
Текст книги "Сингэ сабур (Камень терпения)"
Автор книги: Атик Рахими
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
В городе снова стреляют. Вдалеке, поблизости, единичными выстрелами.
В комнате все утопает во мраке.
Сказав «я хочу есть», она встает и на ощупь выходит в коридор, потом на кухню поискать чего-нибудь съестного. Первым делом зажигает лампу, которая освещает часть коридора, отбрасывая в комнату слабый отблеск. Потом, звякнув дверцами стенных шкафов, возвращается. В одной руке у нее явно долго лежавшая краюха черствого хлеба и луковица, в другой – ветрозащитная лампа. Усаживается на обычное место рядом с мужем, возле зеленой занавески, которую она отдергивает, чтобы в мертвенном свете лампы убедиться, что ее сингэ сабуреще не прорвало. Нет. Сидит как сидел. Нерушимым монолитом. Глаза открыты. Даже с трубкой капельницы, высовывающейся из жалобно приоткрытого рта, у него насмешливый вид. Непостижимо, но его грудь по-прежнему разбухает и сдувается в том же ритме, что и прежде.
«И сейчас меня приютила эта самая тетя. Она любит моих детей. И малышки ее любят. Вот поэтому у меня теперь меньше забот». Она очищает луковицу от кожуры. «Она рассказывает им много всяких сказок… как раньше. Я ведь тоже выросла на ее сказках». Кладет одну луковичную чешуйку на краешек хлеба и запихивает себе в рот. Ее нежный голос то и дело прерывается хрустом засохшего хлеба: «Однажды вечером она хотела рассказать особенную сказку, которую нам рассказывала ее мать. Я умолила ее не делать этого при моих девочках. Это очень страшная сказка. Жестокая. Но силы она магической! Мои малышки еще слишком маленькие, чтобы понять такое». Она отпивает глоток воды из стакана, который принесла, чтобы умыть мужа.
«Ты знаешь, что у нас в семье были одни девочки. Семь девчонок! И ни одного мальчугана! Родителей это приводило в ярость. Вот потому-то бабушка и рассказала нам такое, мне и сестрам. Я долго была уверена, что она это все придумала нарочно для нас. Но тетя сказала мне, что сама впервые услышала эту историю еще от своей прабабушки».
Вторая чешуйка луковицы на другом краешке хлеба.
«Ну, как ни гадай ни ряди, а наша бабушка первым делом наказала нам навострить ушки, сказав, что ее история – это сказка волшебная, которая может принести нам в жизни как счастье, так и несчастье. Эдакое предостережение нас напугало, но также и возбудило любопытство. И тогда ее сильный голос зазвучал в согласии с биением наших сердец: « Было однажды, или вовсе не бывало, но жил как-то один царь. Красивый царь. Храбрый царь, которому, однако, был дан пророческий запрет, единственный, зато наистрожайший: никогда не иметь дочери. В брачную ночь звездочеты предсказали, что, если когда-нибудь жена родит ему дочь, этой дочери суждено обесчестить корону. Но надо же так случиться, что его жена рожала одних дочерей. И каждый раз, когда рождалась очередная девочка, царь отдавал палачу приказ тотчас убить новорожденную!»
Погруженная в воспоминания, она становится похожа на старуху – наверное, свою бабушку, – которая рассказывает эту сказку маленьким внучкам.
« Палач убил первую дочку и убил вторую. Когда он собирался убить и третью, его остановил едва слышный голосок новорожденной. Она умоляла его предостеречь ее мать – пусть не убивает ее, и тогда у царицы будет собственное царство! Смущенный этими словами, палач тайно пришел к правительнице и рассказал ей все, что видел и слышал. Царица, не сказав ни слова царю, тотчас же отправилась взглянуть на новорожденную с чудесным даром речи. И там, охваченная и ужасом, и восхищением, она приказала палачу приготовить паланкин, чтобы бежать подальше от этой страны. Ровно в полночь царица, ее дочь и палач тайно бежали в далекие края».
Ничто не способно отвлечь ее от рассказа, даже выстрелы, которые уже приближаются к дому. «„ Царь, разгневанный этим нежданным бегством, отправился на завоевание далеких земель, чтобы вернуть себе жену. – На этом самом месте бабушка всегда прерывалась. И неизменно задавала вопрос: – Он хотел вернуть жену или скорей уж расправиться с ней?“»
Она улыбается. Должно быть, так же улыбалась ее бабушка. И продолжает:
« Прошли годы. После очередного набега маленькое царство, которым управляла справедливая, смелая и миролюбивая царица, не пожелало сдаться ему. Народ дал отпор вторжению чужеземного царя. И какого чванливого! Тогда царь пригрозил сжечь ту страну. Визири посоветовали царице встретиться и договориться с ним. Но царица отказалась от такой встречи. Она заявила, что скорей уж сама подожжет собственное царство, чем пойдет на переговоры. Тогда ее дочь, которую и при дворе и в народе очень любили не только за несказаннную красоту, но еще и за невиданные доброту сердца и рассудительность, попросила мать разрешить пойти к царю ей. Услышав это от дочери, царица словно повредилась в уме. Она рыдала, истошно проклиная весь белый свет. Она лишилась сна. Она бродила по дворцу. Запретила дочери выходить из спальни и вообще вмешиваться. Никто не понимал, что с ней такое. С каждым днем положение царства становилось все ужаснее. Запасы воды и пищи подходили к концу. Тогда дочь, которая не больше всех остальных понимала, что происходит с ее матерью, решилась, нарушив запрет, пойти к царю. Однажды ночью, с помощью верной служанки, она явилась прямо к нему в шатер. Узрев такую небесную красу, царь влюбился в царевну до безумия. Он сделал ей предложение: он снимет осаду и откажется от этого царства, если она станет его женой. Царевна не осталась равнодушной к его чарам и согласилась. Ночь они провели вместе. На заре она, уже вкушая торжество победы, возвратилась во дворец, чтобы рассказать матери о свидании с царем. К большому счастью, она не призналась ей, что провела ночь у него в шатре. Но, даже просто услышав, что ее дочь встречалась с царем, царица сделалась словно затравленный зверь. Все несчастья на свете была она готова снести, но только не это! Раздавленная, она принялась стенать: «Рок! Проклятый рок!» И упала без чувств. Дочь, все еще не понимавшая, что случилось с ее матерью, спросила у мужчины, который был спутником всей жизни царицы, что с нею такое. Тогда он поведал ей вот что: «Дорогая царевна, ты ведь знаешь, что я тебе не отец. На самом деле ты дочь этого царя-завоевателя! А я был его палачом…» Он открыл ей всю правду, а под конец сказал загадочные слова: «Так нам предначертано судьбой, о царевна моя. Если царю рассказать правду, по закону нас всех приговорят к повешению. И все подданные нашего царства станут его рабами. Если мы не выполним его требования, наше царство будет предано огню. А если ты выйдешь за него замуж, вы совершите кровосмешение, и такому греху нет прощения! За него мы все будем прокляты и наказаны Господом». На этом месте бабушка умолкала. Мы просили ее досказать, а она отвечала нам: « Увы, девочки мои, я не знаю, чем кончается эта сказка. И никто не знает этого по сей день. Сказывают, что у того или у той, кто отыщет конец сказки, жизнь пройдет безо всяких горестей». Я тогда не поверила и возразила ей, что если никто не знает конца этой сказки, то нельзя знать и того, какой конец был бы для нее хорошим. Она грустно засмеялась и поцеловала меня в лоб: « Вот это и называют тайной, малышка. Любой конец возможен, а вот узнать, какой был бы хорошим и справедливым… Именно в этом и заключается тайна». Потом я спросила ее, быль это или сказка. Она ответила: «Ведь я сказала: „ Было ли, не было…“» Этот вопрос она ведь тоже задавала своей бабушке, и та на него отвечала: « Вот именно в этом и заключается тайна, малышка, в этом вся тайна и есть». Долгие годы меня неотступно преследовала эта история. Она не давала мне заснуть. Каждую ночь, в кровати, я молилась, чтобы Господь нашептал мне конец этой сказки! Счастливый конец, чтобы я смогла прожить счастливую жизнь! Я сочиняла всякую всячину. Стоило только какой-нибудь мысли прийти мне в голову, как я бежала рассказать ее бабушке. Она пожимала плечами и отвечала: „ Может, и так, дитя мое. Может. Вот поживешь и сама увидишь, правильно ты придумала или нет. Твоя жизнь тебе сама это и скажет. Но если что и отыщешь, никогда и никому не говори. Никогда! Потому что, как в любой сказке, все, что ты говоришь, может сбыться. Так что берегись и храни этот конец для одной себя“».
Она ест. Кусок хлеба, чешуйка лука. «Однажды я спросила у твоего отца, знает ли он эту историю. Он сказал – нет. Тогда я рассказала ему. Когда я закончила, он долго молчал и наконец мягко сказал мне: „ Но, девочка моя, думать, что можно отыскать счастливый конец для этой истории – это ведь иллюзия. Его не существует. Раз кровосмешение совершилось, трагедия неизбежна“».
С улицы слышно, как кто-то кричит: «Стой!» Потом раздается выстрел.
И топот убегающих ног.
Женщина продолжает: «Короче говоря, твой отец лишил меня иллюзий. Но еще через несколько дней, ранним утром, когда я принесла ему завтрак, он попросил меня присесть рядом, чтобы поговорить об этой сказке. Чеканя каждое слово, он сказал по-другому: « Доченька моя, я много размышлял. И правда – счастливый исход есть». Я готова была броситься к нему на шею, целовать ему руки и ноги, только бы он открыл мне этот конец. Но я, понятное дело, сдержалась. Забыв о твоей матери и о ее завтраке, я села перед ним. В это мгновение все мое тело превратилось в одно гигантское ухо, для которого не существовало никаких других голосов, никаких иных звуков. Существовал только дрожащий и мудрый голос твоего отца, который, звучно отхлебнув чаю, поведал мне: « Для счастливого конца, дитя мое в этой сказке, как и в жизни, нужна жертва. То есть кто-нибудь должен остаться несчастным. Всегда помни: любое счастье – оно всегда стоит на двух несчастьях». – « Но почему?!» – наивно изумилась я. Вот как просто он ответил мне: « Дитя мое, к несчастью ли, а может, и к счастью, абсолютно все не могут стать счастливыми, ни в жизни, ни в сказке. Счастье одних порождает несчастье других. Как ни печально, но это так. И в этой сказке тебе тоже нужны несчастье и жертва, чтобы ты могла добраться до счастливого конца. Но твоя любовь к себе самой и к твоим близким мешают тебе даже помыслить об этом. Эта сказка требует убийства. Убийства кого? Прежде чем ответить, прежде чем кого-то убить, ответь самой себе на другой вопрос: кого ты хочешь видеть счастливым, живым? Царя-отца? Царицу-мать? Или царевну-дочь? Стоит тебе только найти ответ, как все изменится, дитя мое. И в тебе самой, и в этой сказке. А для этого тебе нужно освободиться от тройной любви: любви к самой себе, к твоему отцу и к твоей матери!» – « Зачем?» – спросила я у него. Он долго и безмолвно разглядывал меня светлыми глазами, блестевшими из-под очков. Наверное, подыскивал слова, понятные мне: « Если ты на стороне дочери, то любовь, которая живет в тебе, помешает тебе представить, что девушка может покончить с собой. Так же и любовь к отцу не позволит тебе предвидеть, что дочь может согласиться на замужество для того, чтобы в первую брачную ночь убить своего отца на супружеском ложе. Наконец, любовь материнская запретит тебе помыслить о том, чтобы убить царицу и дать ее дочери возможность жить с царем, полностью скрыв от них истину». Он дал мне несколько минут подумать. Сделал еще один большой глоток чаю и продолжал: « Так же и я, сам отец, пожелай я придумать финал для этой сказки, предпочел бы строгое соблюдение закона. Я приказал бы отрубить головы царице, царевне и палачу, чтобы наказать предателей и навеки похоронить тайну кровосмешения». Я спросила его: « А мать, что сделала бы она?» С легкой улыбкой, очень красившей его, он ответил мне: « Дитя мое, я ничего не знаю о материнской любви и не могу предложить тебе решение. Ты сама теперь мать; вот и скажи мне, какой тут выход. Однако мой жизненный опыт подсказывает мне, что такая мать, как царица, скорей предпочла бы, чтобы ее царство сгинуло, а народ попал в рабство, чем раскрыть свою тайну. Мать действует по правилам морали. Она запрещает дочери выходить замуж за собственного отца». Господи Боже, как взволновало меня произнесенное слово мудрости. И я, так желавшая найти финал милосердный, спросила у него, существует ли он вообще. Сначала он ответил, что да, – и это утешило меня, – но потом сразу же резко спросил: « Дитя мое, скажи мне, кто в этой сказке обладает правом прощать?» Я, не задумываясь, ответила: отец. Покачав головой, он возразил: « Но, дитя мое, отец, который убил собственных детей, который во время своих походов истребил множество народов и разрушил множество городов, совершил кровосмешение, виновен так же, как и царица. А что до нее, то она, конечно, предала и царя, и закон, однако не забывай, что и сама была обманута новорожденной дочерью и палачом». В отчаянии, уже встав чтобы уйти, я сделала вывод: « Значит, счастливого финала нет!» Он ответил: « Есть. Но, как я уже тебе сказал, при условии безропотного принесения в жертву самого себя и троекратного отречения: от себялюбия, от закона, данного отцом, и от морали матери». Сбитая с толку, я спросила его, возможно ли такое вообще. Он ответил совсем просто: « Нужно пытаться, дитя мое». Взволнованная этим спором, я долгие-долгие месяцы не могла думать ни о чем другом. И я догадалась, что причиной моей душевной смуты было только одно – он сказал истину. Твой отец правильно понимал, как устроена жизнь».
И опять кусок хлеба и луковичная чешуйка, которые она проглатывает с трудом.
«Стоит мне подумать о твоем отце, как я все сильнее ненавижу твою мать. Она держала его взаперти в крохотной, насквозь сырой каморке, где он спал на циновке. Твои братья считали его за блаженненького. Только потому, что он достиг высокой мудрости. Никто не понимал его. Сначала и я тоже, я боялась его. Не из-за той чепухи, которую насчет него вечно талдычили твоя мать и братья, а просто помнила я про то, что довелось пережить тете с ее свекром. Но мало-помалу я все-таки сблизилась с ним. Преодолевая сильный страх. Но в то же время чувствуя смутное любопытство. Необъяснимое. Оно, это любопытство, меня почти возбуждало! Должно быть, меня толкала к нему часть моей души, неотступно думавшая о тете. Желание пережить то же, что пережила она. Это ужасно, да?»
Взволнованная и задумчивая, она доедает черствую краюху с луковицей.
Шумно задувает лампу.
Ложится, вытягивается.
И спит.
Когда орудия устают и замолкают, восходит заря. Серая и безмолвная.
Через несколько вдохов-выдохов после призыва к молитве на грязной дорожке во дворе слышатся чьи-то нерешительные шаги. Кто-то подходит к дому и стучит во входную дверь, ведущую в коридор. Женщина открывает глаза. Ждет. Снова стучат. Она встает. Сонная. Подходит к окну посмотреть, кто же это не решается войти без стука.
Сквозь свинцовый рассветный туман она различает тень вооруженного человека с тюрбаном на голове. «Да?» женщины – и вот силуэт уже у самого окна. Лицо скрыто под повязкой, голос, он еще тоньше, чем силуэт, лопочет: «Ммможно ммне… зайти?» Это ломающийся тенор подростка, похожий на тот, вчерашний. Женщина пытается представить себе черты его лица. Но слабые серые сумерки не дают разглядеть его. Утвердительно кивнув головой, она добавляет: «Не заперто». А сама, сама так и стоит у окна, следя взглядом, как силуэт, передвигаясь по стене, в коридоре, наконец вырастает на пороге. В той же одежде. Так же застывает в выжидательной позе в дверном проеме. С той же боязливостью. Это он. Сомнений нет. Тот самый мальчуган, что приходил накануне. Она вопросительно ждет. Ему как будто стоит большого труда сделать шаг в комнату. Словно пригвожденный к пространству в проеме двери, он пытается спросить: «Скккк…колько?» Но так тихо бормочет, что женщина не слышит ни слова.
– Чего тебе надо?
– Скккк… – Голос хрипнет. Речь ускоряется, «сккк…коль…кко?», все равно выходит невнятно.
Затаив дыхание, женщина делает шаг к мальчишке. «Послушай, ведь я не то, что ты думаешь. Я…» Ее перебивает крик мальчугана, сперва истошный: «Мммол…чччать!», а потом потише: «Сккколь…кко?» Она хочет попятиться назад, но не дает дуло винтовки, упертое ей прямо в живот. Стараясь утихомирить мальчишку, она мягко произносит: «Я – мать…» Но его палец уже на спусковом крючке, и ей приходится замолчать. Уступая, она спрашивает: «У тебя с собой сколько?» Дрожа, он вынимает из кармана несколько бумажек и бросает их ей под ноги. Женщина отступает на шаг и незаметно оборачивается, чтобы окинуть быстрым взглядом тайник. Зеленая занавеска немного отдернута. Но из-за темноты невозможно заподозрить, что там кто-то есть. Она опускается на пол. Лежа на спине и глядя в сторону мужа, вытягивается, раздвигает ноги. И ждет. Мальчишка словно в столбняке. «Ладно, давай и кончай побыстрее!» – раздраженно говорит она.
Он кладет оружие на пол возле двери, потом неуверенно подходит и встает прямо над нею. Дыхание у него прерывистое, в нем слышна дрожь. Женщина закрывает глаза.
Он резко, рывком бросается на нее. «Осторожней!» – женщина задыхается. Перевозбудившийся мальчуган неумело хватает ее за ноги. Она словно окаменела, застыла под содроганиями этого неуклюжего юного тела, пока он, зарывшись лицом в ее волосы, безуспешно пытается стянуть с нее штаны. В конце концов она делает это сама. Спускает штаны с него. И едва его член касается ее бедер, как у него вырывается глухой стон, задохнувшийся в волосах женщины, которая, мертвенно побледнев, так и остается лежать с закрытыми глазами.
Он больше не двигается. Она тоже.
Он тяжело дышит. Она тоже.
Целый миг абсолютной неподвижности – пока налетевший легкий ветерок не начинает колыхать занавески. Теперь женщина открывает глаза. Слабым, но сочувственным голосом шепчет: «Ну, все?» Яростный вопль мальчугана ошеломляет ее: «Ммол… чччать!» Он не смеет открыть лицо, все еще спрятанное в черных кудрях женщины. Дыхание его явно утрачивает свою неистовость.
Женщина, не произнося ни слова, бросает в сторону зеленой занавески взгляд, полный бесконечной печали.
Два сплетенных тела, простертые на полу, еще долго лежат не шевелясь. Наконец новое дуновение ветерка словно сообщает лежащей массе плоти легкое движение. Это дрогнула рука женщины. Она потихоньку ласкает мальчишку.
Тот не возражает. Она продолжает гладить его. С материнской нежностью. «Ничего страшного», – утешает она. От него никакого ответа не слышно. Она настойчиво повторяет: «Такое с каждым может случиться». Осторожно: «Ведь это… впервые?» После долгого молчания и трех выдохов, очень медленных, он в знак согласия тихонько и отчаянно трясет головой, все еще зарывшейся в волосы женщины. Ее рука поднимается к голове мальчишки, касается его тюрбана. «Хорошо денек начался, нечего сказать». Она быстро осматривается вокруг, ища взглядом оружие. Оно далеко. Снова смотрит на него, лежащего так же неподвижно. Потихоньку сдвигает ноги. Никакого противодействия. «Ну, так встаем?» Он не отвечает. «Я же сказала, ничего страшного… сейчас я тебе помогу». И она потихонечку приподнимает его правое плечо, чтобы вылезти из-под опустошенного тела мальчугана. Когда это ей удается, она, сперва обтерев ему ляжки подолом своего платья, безуспешно пытается поддернуть на нем штаны, и наконец садится. Теперь зашевелился и мальчуган. Избегая смотреть на женщину, он подтягивает штаны сам и тоже садится к ней спиной, его взгляд прикован к ружью. Повязка на голове развязалась. Все лицо видно. Глаза большие, ясные, их чернеющие контуры подведены сурьмой. Он красив. Лицо тонкое, очень чистое. Почти безбородый. Или уж совсем желторотик. «Родные-то у тебя есть?» – беззвучно спрашивает женщина. Мальчуган отрицательно качает головой и быстро натягивает повязку, сразу скрывающую пол-лица. Потом рывком вскакивает, поднимает свое оружие и со всех ног пускается наутек из этого дома.
Женщина продолжает сидеть на том же месте. Еще долго она сидит так. Не глядя на зеленую занавеску. Ее глаза полны слез. В теле надломленность. Она сжимает руками колени, прячет голову внутрь и кричит. Единственный, душераздирающий вопль.
Словно в ответ на крик, врывается легкий ветерок, он задирает занавески, и всю комнату наполняет серый туман.
Женщина медленно оправляет на себе одежду. Она не встает. И по-прежнему не поднимает взгляда к зеленой занавеске. Ей не хватает духу.
Она неотрывно смотрит на скомканные банкноты, разлетевшиеся от ветра.
От холода или от волнения, от слез или от ужаса у нее перехватывает дыхание. Ее трясет.
Вот наконец она встала и поспешно исчезает в коридоре, в душевой комнате. Моется, меняет платье. Опять входит. Нарядившаяся в зеленое и белое. Выглядит заметно спокойнее.
Она подбирает деньги и направляется к своему месту возле тайника. Поплотнее закрывает щелку, избегая смотреть в отсутствующие глаза мужа.
После нескольких безмолвных вздохов из самого нутра нежданно вырывается горький смешок, от него дрожат губы. «Ну вот и все… такое случается не только с другими! Раньше ли, позже, а вот и с нами тоже…»
Она считает банкноты, «бедненький», прячет их в карман. «А я иногда думаю, все-таки трудно быть мужчиной. Нет?» Она выдерживает паузу. Для размышления или чтобы дождаться ответа. И снова, с той же вымученной улыбкой: «Этот мальчик напомнил мне, как было поначалу и у нас с тобой… прости, что я тебе это говорю. Ты ведь знаешь меня… воспоминания всегда приходят, когда я их совсем не жду. Или больше не жду. Нападают в любой момент, когда за чем застанут меня. Добрые или злые. И смешные тоже бывают. Например, вот сейчас… когда этот мальчик лежал тут весь разбитый и сам не свой, я вдруг словно увидела наши с тобой первые ночи после запоздалой свадьбы… Клянусь, я вспомнила о тебе невольно. Ты был такой же неумелый, как этот пацаненок. Разумеется, в то время я ничего не поняла. Я считала, что это так и надо делать, как ты это со мной делаешь. Но часто я ловила себя на мысли, что ты недоволен. Тогда я чувствовала себя виноватой. Я твердила себе, что это из-за меня, потому что я не знаю, как за это взяться. Надо было, чтоб почти год прошел, тогда только я поняла, что нет, дело в тебе. Ты не умел ничего давать. Ничего. Помнишь, сколько ночей ты имел меня, а потом оставлял в полной… в полном раздрае чувств… Моя тетя была права, когда говорила, что на войну уходят те, кто не умеет любить». Она осекается, запретив себе продолжать.
Молчит долго-долго. И вдруг: «Ну, скажи мне, что для тебя наслаждение? Увидеть, как фонтаном бьет твоя жижа? Увидеть, как брызнет кровь из разорванной завесы добродетели?»
Она опускает голову, прикусив нижнюю губу. В ярости. Гнева полна ее рука, сжатая в кулак, она с силой бьет ею в стену. Она рыдает.
Молча.
«Прости!.. Это… это впервые я так с тобой разговариваю… мне стыдно. Я правда не знаю, откуда во мне все это. Раньше я никогда ни о чем таком и не думала. Поверь. Никогда!» Проходит несколько минут, и она опять говорит: «Даже если я видела, что кончаешь только ты, ты один, без меня, это меня совсем не обижало. Наоборот, я этому радовалась. Я говорила себе, что такова наша природа. В этом различие между нами. Для вас, мужчин, радость жизни – в наслажденье, а для нас, женщин, – в веселом угожденье. Это меня удовлетворяло. А уж мне можно самой, одной доставить себе удовольствие, если себя… трогать». Ее губа кровоточит. Ее безымянный палец стирает кровь, потом это место облизывает язык. «Однажды ночью ты застукал меня. Ты спал. А я, лежа к тебе спиной, ласкала себя. Ты проснулся от моего прерывистого дыхания. Вскочив в постели, ты спросил, чем это я занимаюсь. Разгорячившись, я вся дрожала… И пришлось тебе сказать, что у меня температура. Ты поверил. И все-таки отправил спать в другую комнату, к детям. Вот сволочь!» Из страха или стыда она умолкает. Появившийся на щеках багрянец понемножку спускается к шее. Взгляд прячется за ресницы, которые смыкаются мечтательно.
Она легко встает. «Ладно, мне надо идти. Дети и тетя, наверное, беспокоятся!»
Прежде чем уйти, она наполняет сладко-соленой водой кружку капельницы, прикрывает мужа, надевает чадру и, заперев двери, исчезает на улице.
Комната, дом, сад, все, затягиваясь туманом, скрывается под его серой и мрачной мантией.
Ничего не происходит. Ничто не шелохнется, кроме паучихи, которая уже несколько мгновений ждет среди гнилых потолочных балок. Вялая. Квелая. Сделав небольшой круг по стене, возвращается к своей паутине.
Снаружи:
Временами стреляют.
Временами молятся.
Временами – тишина.
В сумерках кто-то стучит в дверь, ведущую в коридор.
Ничей голос не приглашает его войти.
Стучит настойчиво.
Ничья рука не отворяет ему.
Вот его уже нет.
Ночь приходит и уходит. Она уносит с собой тучи и туман.
Снова солнце. Женщина опять в комнате, она вошла вместе с его лучами.
Обшарив комнату взглядом, она вынимает из сумки новую кружку для капельницы и новый флакон с глазными каплями. Сразу идет отдернуть зеленую занавеску, чтобы взглянуть на мужа. Его глаза полуоткрыты. Она вынимает у него изо рта трубку, кладет ее подальше от него и закапывает ему в глаза. Одну, две; одну, две. Потом выходит из комнаты, возвращается, неся в руках пластмассовый тазик с водой, полотенце и одежду. Она моет мужа, меняет ему белье, устраивает поудобнее.
Аккуратно засучив ему рукав, она сперва обмывает подмышку, куда вставляет катетер, настраивает капельницу, потом выходит, унося все отходы, которым не место в этой комнате.
Слышно, как она стирает белье. Развешивает его на солнцепеке. И возвращается со щеткой. Она подметает ковер, чистит матрасы…
Она еще не закончила, как вдруг кто-то стучит в дверь. Окруженная пыльной тучей, она приоткрывает. «Кто там?» Опять бессловесный силуэт мальчугана, закутанного в пату. Руки женщины устало падают вдоль тела. «Чего тебе еще надо?» Мальчишка протягивает ей несколько банкнот. Женщина стоит молча. Не двигаясь. Мальчуган проходит в коридор. Женщина догоняет его. Они что-то неслышно шепчут друг другу и проскальзывают в одну из комнат.
Сперва ничего не слышно, царит тишина, потом мало-помалу шепот… и наконец несколько приглушенных стонов. Снова тишина. Некоторое время. Потом открывается дверь. Слышны убегающие шаги.
А женщина отправляется в душевую, подмывается и спокойно возвращается в комнату. Заканчивает уборку, потом опять выходит.
Ее шаги цокают по кафелю кухни, откуда доносится нарастающий гул газовой плиты, чье звонкое гудение понемногу заполняет весь дом.
Приготовив себе завтрак, она приходит в комнату, чтобы съесть его здесь, прямо из сковороды.
Она тиха и свежа.
Едва заморив червячка, она ни с того ни с сего говорит: «Жалко мне его стало, этого парнишку! Но я не поэтому его пустила… А что, сегодня я задела-таки его за живое и почти что выставила, бедненького! Как же я хохотала. Он подумал, что это я над ним… разумеется, немножко оно и так… но все из-за этой тети, будь она неладна! Вчера вечером она сказала мне ужас какую гадость. Я рассказала ей про этого пацаненка, что он заика и кончает слишком быстро. И вот…», она смеется, но в самой глубине души, неслышно, «и вот она сказала мне, что ему надо посоветовать…». Ее снова душит смех, на сей раз во все горло. Она говорит: «…скажи ты ему: язык дан, чтоб не говорить, а целоваться – тогда и хер не будет заикаться!» – она хохочет, вытирая слезы, «и я подумала об этом в такой момент, вот кошмар… А что делать?! Как он начал заикаться-то… я и вспомнила, у меня вся душа перевернулась. И я засмеялась. А он-то, он перепугался… я попробовала было сдержаться… Но это было выше моих сил. Еще хуже вышло… к счастью», помолчав, «а может, и к несчастью, но вдруг разом мои мысли куда-то улетучились совсем далече…», еще помолчав, «тут я вспомнила тебя… и веселье вдруг как рукой сняло. А то могло получиться очень страшно… не надо обижать молоденьких… смеяться над их агрегатом… ведь они-то думают, что стоит только ихнему херу встать и протянуться во всю длину на то время, пока он извергает семя, – вот они уже и мужчины, да только это…» Машет рукой, не закончив. Щеки у нее сейчас совсем пунцовые. Она глубоко дышит. «Ладно, проехали… я все-таки избежала беды… одной из многих».
Она доедает завтрак.
Отнеся на кухню сковороду, она возвращается и растягивается на матрасе. Закрыв рукой глаза, она дает времени спокойно течь в наполненной мыслями тишине, чтобы сделать еще одно признание: «Ах да, этот мальчишка, он снова навел меня на мысли о тебе. В который раз могу повторить тебе, что он такой же неопытный, как и ты. Это если не считать того, что он только начинает и быстро учится! А вот ты – ты навсегда остался каким был. Ему я могу подсказать, что делать и как. А попроси я обо всем этаком тебя… Господи Боже мой! Ты бы из меня разом дух вышиб! А ведь это такие обычные дела… надо только слушаться своего тела, вот и все. Но ты-то никогда его не слушал. Вы слушаете только вашу душу». Она поднимается и неистово кричит в сторону зеленой занавески: «Вот до чего тебя довела твоя душа! Живой мертвец!» Подходит к тайнику: «Это твоя распроклятая душа пригвоздила тебя к земле, мой сингэ сабур!», дыхание у нее перехватывает, «и это не твоя дерьмовая душонка сейчас защищает меня. Это не она кормит детей». Она отдергивает занавеску. «Ты хоть знаешь, как она там, душа твоя, вот в этот самый момент? Где она есть? Здесь, вот, она висит точнехонько над тобой». Показывает на кружку капельницы. «Да, вот она, в этой сладко-соленой бурде, и больше нигде». Она надувает грудь: « Душа моя опорою чести моей, и да охраняет честь моя душу мою». Какой бред! Да погляди, погляди, вот твою честь и оттрахал шестнадцатилетний молокосос! Вот твоя честь и поимела твою душу!» Она стремительным движением хватает его за руку, поднимает ее и говорит ему: «Теперь тебя судит твое тело. Оно судит твою душу. Вот почему тебе не дано телесных мук. Потому что страдаешь ты душой. Этой подвешенной душой, которая все видит, все слышит, но ничего не может, и телом она больше не управляет». Она выпускает его руку, которая одеревенело валится на матрас. Приступ сдавленного смеха заставляет ее прижаться спиной к стене. Она сдерживается. «Теперь твоя честь – просто жалкий кусок мяса! Это ведь твое выражение. Когда ты требовал, чтобы я оделась, ты орал: Прикрой свое мясцо! А я и правда только и была что куском мяса, в который ты совал свой вонючий хер. И только чтобы вытоптать, разорвать там все до крови!» Задохнувшись, она умолкает.
Потом она вдруг встает. Выходит из комнаты. Слышно, как она ходит взад-вперед по коридору и говорит: «Да что на меня нашло? Что я говорю? Зачем? Зачем? Это не нормально, нет, не нормально…» Она входит. «Это не я. Нет, это не я говорю… Это кто-то другой говорит из меня… моим языком. Он вселился в мое тело… Я бесноватая. Во мне и правда сидит дьяволица. Это она говорит. Это она занимается любовью с мальчишкой… это она берет его трясущуюся руку и кладет мне на грудь, потом на живот и между бедер… это все она! Это не я! Мне нужно изгнать ее из себя! Я должна пойти к мудрецу Хакиму или к мулле и во всем признаться им. Пусть они выгонят из меня эту дьяволицу, затаившуюся во мне!.. прав был мой отец. Это все тот кот, он приходил, он являлся мне. Тот самый, что подзуживал меня открыть клетку с перепелом. Я бесноватая, и вот уже как давно!» Она кидается в тайник, к мужу, и плачет. «Это не я говорю!.. Я в когтях дьяволицы… это не я… где Коран?» Ей страшно. «Она даже Коран украла, дьяволица! Ее рук дело!.. Да, все она, и перо, проклятое перо тоже украла она!»





