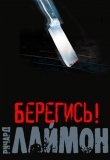Текст книги "Aestas Sacra"
Автор книги: Асар Эппель
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Шакал сидел в своей вольере, презираемый остальными узниками Уголка Дурова, сегодня не обращавшими на него внимания, ибо за стенами что-то лило, грохотало, шумело, а позванивать продолжало и сейчас.
И забытый всеми шакал, вылизывая на кислой соломе свой пах, вылизывал еще и выставлявшийся из паха малиновый конус.
А в одной их клеток ходил тигр. Он знал, что за стенкой есть какая-то кошка, что она – львица, он не знал, а она знала, что он тоже кошка, но не знала, что – тигр. Вот уже много лет они знали друг о друге понаслышке, по запаху, но ни разу еще не повидались – на сцену выводили их в разное время. На представлениях, кстати, тигр держал на носу маленькую птичку, ни разу ее не сожрав; львица же, раскинув лапы, просто ложилась на спину, отчего дети радостно визжали.
Был тут и маленький слон, старательно обрывавший помпоны со своей сценической попоны, за что его ненавидела старуха, помпоны потом пришивавшая; был еще и верблюд, от которого пахло аммиаком.
Некоторые звери происходили из южного полушария. Например, эму, и все его не понимали, потому что на родине он почему-то клал яйца. Но на родине он знал что делал, и потому теперь противно улыбался, держа рот узкогубой полоской и не заботясь даже приподнять уголки нездешнего своего клюва.
А в южном полушарии, между прочим, дело шло к весне – ver sacrum, поэтому в полной тишине и полупотемках (между клеток в коридоре горела одна только восьмисвечовая лампочка), когда совсем не ко времени неправдоподобно правдоподобно и поблизости загорланил петух, он, эму этот австралийский, в тот день от непонятной тоски даже не улыбавшийся, сразу же истерично закричал. И во всех клетках вздрогнули. Львица первая, требовательно хрипя, кинулась на бетон перегородки и так невозможно замяукала, что тигр зажег свои глаза, и в коридорчике прибавилось свету, словно бы чиркнули спичкой. И, зная, что стенку к львице не проломить (он много раз пытался), тигр, горя зрачками, кинулся на решетку – кинулся так, как нигде, никогда и никто из тигров ни на что не кидался, – но решетка и н е т а к о е в и д а л а! и тигр заходил взад-вперед, слыша ноздрями, как совсем рядом, но за перегородкой, мяукая рокочущим голосом, заметалась требовательная львица. Воздух от страшных этих метаний всколыхнулся по всему проходу и, насыщенный в ту ночь влагой, донес слабый, но чудовищный запах от стоящего в тупичке коридора старого, с облезлой позолотой кресла, безупречного шедевра мастерской француза Споля – конфискованной сидячей мебели происхождением из дворца, находившегося в тех краях, куда шли четверо. На кресло это, чтобы ввинтить восьмисвечовую лампочку, влезал сегодня надзирающий за зверями одноногий инвалид и окончательно прорвал конической своей деревяшкой неразличимый гобелен обивки, на котором простушка пастушка внимала игравшему на жалейке пастушку Васе Пестравкину, настолько теперь покрытому слоем времени и серой грязи, что не слышно было ни звука быстро обезоружившей ее Васиной дудки, зато стал слышен запах конского волоса, обнаружившегося в прорыве просевшей обивки и сильно разопревшего к вечеру от влаги воздуха. Запах этот сперва ощутила давно ожидавшая его, но ни разу в жизни еще не чуявшая красивая кобылка. Клочки сбившегося в лепешки волоса хоть и принадлежали жеребцу конца семнадцатого – начала восемнадцатого века, но, очевидно, жеребцу столь небывалому, что смирная обычно кобылка, перебиравшая на представлении стройными ножками, покачивавшая плюмажем и сиявшая расчесанным в шашечки шелковым гладким крупом, так откровенно и бесстыже заржала, так сладострастно взвизгнула, что конский волос испустил еще одну, куда более мощную золотую волну запаха, от которой заголосил уже маленький шакал, и заголосил так, что тигр, не понимая, как вообще теперь быть, снова метнулся на решетку, – но решетка и н е т а к о е в и д а л а! – требуя хотя бы мяса – мяса целого жеребца, мяса неоторванной единственной ноги кормильца-инвалида, мяса всего мира – мяса, мяса, мяса – горячей кровавой плоти, которая, возникнув когда-то жизнью, стала впредь повторять себя в виде мяса, мяса, мяса...
А кобыла ржала, а львица, устав от невозможности невозможного, опрокинулась на спину и раскинула все лапы, а эму, единственный претендент на канун священной весны южного полушария, запросовывал-запросовывал головку свою с горизонтально улыбающимися губами в ячейку вольерной сетки, но головка никак не просовывалась, а маленький вонючий шакал плакал на голос, точь-в-точь пастушка, сдуру отсопевшая под обольстившим ее неопытность жалейкой-сопелкой пастушком... А тигр клокотал глоткой, желая мяса, мяса, мяса...
Мяса!..
– Во как кукарекать надо! – ликовал взбудораженный мальчишка.
– Ой рыжий! Ой смеху полны трусики! – сладостно заходилась она, а Влажнорукий с Сухоладонным, осклабясь, уставились на зазаборные строения Уголка Дурова, где от дурацкого кукареканья проснулись, дураки, разные звери. Красивый почему-то оказался от нее всех ближе, а может, она оказалась ближе к нему, звон над головами их стал тоньше, причем стрела, торчавшая вверх оперением, вздернулась еще круче.
Под тополиным листом на далеком бульваре ухмылявшийся пухлый младенец высвободил руку из-под теплого птичкиного крыла (та спросонок озабоченно пискнула), зажмурил хитрые глаза, покрутил указательные пальцы вокруг друг друга, развел их, потом свел, и пальцы, хотя и при зажмуренных глазах, встретились. Тут Красивый и она оказались совсем рядом.
Стрела напряглась до невероятности и яростно клюнула Красивого, а потом – ее, причем она от смеха чуть не падала и как бы на него оперлась, а он, то ли сохраняя равновесие, то ли чтобы ее придержать, выставил руку, и в руке оказалась ее грудь. Он почему-то совсем не удивился своему движению, не удивившись и тому, что она тоже не удивилась, а сделала все, чтобы через преграду платья и лифчика отдать грудь его ладони. Зато он удивился, что впервые та, которой касаешься, не засопела, а внятно и медленно сказала:
– Ишь прямо тут ему! Подол же на мостовой продерем... – И мягко приложила свои губы к его губам, и поерзала в них языком, привстав на пальцах босых ног. – Вас вон четверо! – медленно отняв губы, сказала она и загадочно засмеялась, меж тем как остальные трое, глядя в сторону, сглотнули комки в горлах. – С такими продерешь! – вовсе развеселилась она от их тройной немоты. – Чего встали? Пошли тогда!
И пошла, взяв под ручку Красивого и прижимаясь к нему, а в отдалении, в метрах теперь четырех, пошли остальные.
– Ё-ё-ё-о-о... – маялся Влажнорукий, все еще лишенный возможности от души удивиться.
– Во влипли... – сказал грубиян Сухоладонный. – Во уже под ручку теперь...
Мальчишка же занервничал, заметался, разозлился как-то даже и еще звонче, чем в первый раз, прогорланил по-петушиному, а зачем, неясно.
Стрела, словно ей тут наскучило, повернула, откуда прилетела, и звеня унеслась. А поскольку осталась она теперь без дела, то, залетая в дома спящие и дома дремлющие (был уже час ночи), колола кого ни попало, и уколотые, если были вдвоем, обнимались, а если в одиночестве, теряли сон в летнюю ночь или садились писать стихи эолийским ладом. Господь же сердито и неодобрительно поглядывал из церковных развалин на вольноперую стрелу, но, воплощенный в мелкие и шевелящие усиками тихие существа ночи, не прибегал к великому своему и суровому завету, не прекращал полета языческой тростинки и, хотя оставался хмур, в доброй душе радовался, что хоть что-то, хоть что-то не разбазарили его творения, первенцы и возлюбленные чада. "Пусть летает, пусть плодятся и размножаются... какие глупые, какие глупые!.." бормотал он, снова принимаясь ощупывать кирпичики и зареванную труху своих поруганных святилищ...
Тигр ревел и ревел, однако наружу долетал тихий, погашенный стеной и забором рык. А тигр хотел хотя бы мяса, недовыданного ему ввинтившим лампочку инвалидом, и даже сожрал бы сейчас вонючего и плачущего дурачка шакала...
Мясо, между прочим, является окончательным продуктом, в каковой, при известных обстоятельствах, превращается Божье творение, кем бы оно ни было и как бы себя ни выражало: молчало бы как рыба, ревело бы белугой, скулило бы, как шакал, мычало бы чьей-то коровой или сочиняло бы оратории а cappella (последнее, кстати, какая-никакая, а гарантия от преждевременной и против воли мясопереработки). Создается мясо с помощью разных болезненных и безболезненных орудий путем забоя, отстрела, заклания. Источник полагается быстро обработать – освежевать, то есть ободрать от шкуры и разделить на подбедерки, оковалки, кострецы, грудинные части, коровьи ноги, свиные ножки и бараньи ребра. И тут уж никому нет дела до ПРА-ЛИВНЯ, когда великий воды мириад и тепло, и теплынь такая, и гром, и хляби разверзаются, и сорок дней и сорок ночей... Да чего там сорок дней и сорок ночей! – мы-то знаем, насколь грандиозней возникали сосуды духа – поедатели, хотя и резервы, мяса.
А оно создается и добывается вот как:
На рынке или в лавке стоит колода – обрубок громадного дерева, хорошо если не теревинфа или мамврийского дуба, но тоже огромного, когда-то живого, а теперь предоставившего свою мертвую плоть для расположения на ней другой мертвой плоти, освежеванной и малиновой с желто-белыми стеариновыми слоями тука. Подставляет себя колода, чтобы топор разделил эту пока еще форму в куски, которые потом даже в мертвый облик не собрать, потому что каких-то кусков недосчитаемся.
Обыкновенное мясо – это мышцы. Мы едим мышцы животных. "Положи мя, яко печать, на мышце своей!" – цитирует глумливый топор окоченелой и ободранной туше, лишенной уже прочей своей съедобности: мозга, печени, сердца, почек, каковые – даже мозг! – именуются требушиной или субпродуктами. "Положи мя, яко печать, наложенную рыночным контролером, лиловую на малиновом, положи мя, яко печать, на мышце своей!" – глумливо переиначивает мясницкий топор трепетные стихи, сочиненные пылким царем для возлюбленных, для любовников, для любови их неуемной и великой, умащенной такими благовониями, таким елеем драгоценным, что только и хватит дыхания, чтобы в дурмане запахов и прикосновений воскликнуть: "Ибо я изнемогаю от любви! Ну положи меня, яко печать..."
"Ну-ка положи-ка меня, яко печать", – чванится топор и – хрясь! отсекает плоть от плоти твоей или моей, или овечьей – не важно. Хрясь! отсекает. И делает еще странное мелкое движение, словно что-то куда-то сдвигает, откидывает, ибо – хрясь! – широкая спина мясника целиком загораживает колоду от угодливого мужичонки, привезшего тушу; а тот радуется, что удалось поладить с царем и богом – мясником рыночным, и сейчас мясник разделает ему бычка и получит в лапу что ни то, а мужичонка – муж податливой крестьянки, какими славится, как известно, Валдай, – станет взвешивать бывшую жизнь на гнусных весах, которые качаются не от гирь и не от веса, а оттого, что кач у них такой ненормальный. Но это – потом, а сейчас – хрясь! – рубит одноногий мясник и куда-то что-то топором откидывает. Куда и что? Лучшие куски за колоду, ибо круглая колода вдвинута в угол. Так в здешних местах решается квадратура круга – за колодой же пространство, куда, как фокусник, скидывает при разрубе и разделе туш килограмма три лучшего мяса громадный мясник. И смотри ему мужичонка хоть под топор, хоть сядь на этот топор верхом, не увидит он быстрого движения, как не увидит уже мяса, завалившегося в кровавую, грязную и смердящую тесноту за круглой молчаливой колодой.
Оттого и не собрать потом бывшую тушу.
Вот как создается оно, мясо – окончательный продукт веры (даже в мясника!), искусства (даже Песни Песней!) и божественной любви.
Она шла, держа под ручку Красивого, и шептала, но так слышно, что трое позади не только не подслушивали, но даже и не вслушивались, а просто внимали этому, теперь как бы шепчущему, но еще более сладостному го-лосу.
– Что, черняшка? – Она потерлась об него, мягко привалясь, чтобы не сбился с ноги. – Понравилось? Вона потрогал... – и потерлась, чтобы он сбился с ноги, – а всё торчат... У меня всех сильней. Если б не лифчик, ой...
– А ты сыми! – выпалил мальчишка, и ему как бы не пришлось даже набираться духу. На самом же деле сердце в нем так заметалось, он так обмер, что липкие от повидла руки в момент то ли испарили, то ли напрочь впитали бордовый пирожочный клей.
То же самое немедленно случилось и с ладонями остальных.
– Падла поела всю повидлу, – от неожиданности пробурчал Сухоладонный Влажнорукому. – В рот меня тиля-потя жареными пирожками! Трепак – это уж точно!
– Ё-ё-ё-о-о... – блеял разговорчивый заика.
– А сыму! – счастливо отозвалась она. – Тепло же! Полезай за шиворот, черняшка, счас не туго будет! – И свела лопатки. – Чего ты дергаешь? Ой оборвал... Ой умора... Чего это вы расстегиваете, а сами дрожите и дергаете? – приговаривала она и, забравшись за пазуху, из чего-то высвободилась, а потом достала из ворота лифчик и помахала им, отчего под платьем вразнобой зашевелились груди, выставившие сквозь материю два мягких столбика.
– Ё-ё-ё-о-о-о...
– Только я не понесу, мне и так босоножки (они висели у нее на плече) обжиматься с черняшкой мешают. Кто возьмет, говорите, а то чайник повешу! Ты – лифчик, – она обратилась к Сухоладонному, – а ты босоножки, – сказала она мальчишке. – А ты ё-ё-ё-о-о... Ой умора!.. Ой не могу!..
– На голову себе надень! – огрызнулся Сухоладонный. – Или гамак из него сделаем! – попер он вовсе неуместные вещи, но мальчишка, бывший ко всему еще и великим миротворцем, всё уладил, хотя сердце у самого толпилось прямо в горле.
– Давай я в карман... А босоножки, ладно! Понесу. Плата – натурой... Видали мы колбасные обрезки...
Из созданного за день мяса одноногий мясник со своими домашними производил во дворе колбасу. Двор этот сильно отличался от остальных: его окружал сплошной высокий забор, а за забором росли единственные плодоносившие в окрестности яблони и бегала на проволоке немецкая овчарка, порода, известная лишь по рассказам о пограничниках да по статуям в Парке культуры и отдыха имени Дзержинского. Еще тут всегда ели мясо, причем такое, какого не знали даже у Елисеева, то есть во времена, когда у тамошних витрин не торговали пирожками с повидлом.
Теперь вдобавок ко всему в этом дворе впервые надумали коптить колбасу.
В запущенном саду с уже висевшими на ветках зелеными кислыми яблоками была устроена коптильня. Двор и сад заросли высокой травой, так что загляни кто-нибудь из соседей в щелку глухого забора, он только бы увидел сизый дым да почуял напряженный коптильный дух совершавшейся колбасы. В щелку, однако, заглядывать было необязательно – дым все равно стоял над садом, а запах и так расползался по улице.
Обычно мясник делал зельц, который жрал полусырым. Но семье его, жене и дочкам, зельц осточертел, и они давно просили накоптить твердой колбасы. Запасти такую колбасу на зиму, даже имея каждодневный мясной прибыток, не мешало; кстати, можно угостить возбужденных соседей, чтоб разговоров не было.
Коптить мясник умел. Будучи из Полесья, он сидел мальчишкой у тамошнего мясоторговца и научился многому такому, о чем люди давно позабыли и о чем, похоже, вспоминать не хотели, потому что все равно бесполезно.
В лопухах, наплевав на лютую крапиву, нестрашную каменным его рукам, он быстро сложил печку из кирпичей, почему-то всегда валявшихся под тамошними водостоками и сохранявших на себе пласты какой-то вечной штукатурки, не размокавшей и не крошившейся. Не отлетала же штукатурка, надо думать, потому, что были это обломки какого-то пресветлого храма, которые после разорения Господь по кирпичику припрятал по разным тихим дворам и положил под водосточные трубы, дабы омывать своими слезами – чистой водой небес, ибо полагал, что придет время и кирпичики соберут, сложат, и воздвигнется храм, и будут в нем принесены жертвы всесожжения, и агнцы заколоты будут, и запахнет жертвенным дымом на всю Московскую землю, и до Касимова даже долетит благоухание, и тамошние татаре-погане повалятся на свои коврики, но уже не к Мекке обратятся, а к Святой Земле, и жертвенный сладкий дым единственно праведной коптильни поползет по всему свету. И пусть кирпичики пока тяжелы и сыры от летних ливней, пусть пообколоты-пооббиты, но штукатурка с них не отваливается...
Сложил он своими темными руками печку, от нее в лебеде (две доски на ребро, сверху – вдоль – третья, накрываем от дождя толем, приваливаем старыми кирпичами) проложил долгий дымовод, чтобы дым, пока ползет, остывал, а дымовод этот за неимением необходимого сарая привел к собачьей будке, которую, когда крышу будки под неодобрительное, но сдержанное рычание овчарки сняли, сперва чисто вымыла и выскребла жена. На ребра стенок положили перекладины, крышу поставили опять, а к отверстию лаза подвели дощатый дымовод. Вот и всё. На перекладинах были развешаны заранее набитые сладостным мясным и туковым фаршем с благовонными приправами, хорошо отмытые бараньи кишки.
Недовольная отторжением будки, но целый день жравшая коровьи мозги собака улеглась сторожить добро своей норы, хотя из щелей будки и дымовода полз холодный серо-голубой дым, от которого она воротила морду.
В печке жгли ольховые чурки, потому что дым ольхи – самый из дымов лучший для многодневного и медленного прокапчивания.
С утра было жарко. Солнце весь день почему-то стояло высоко и пекло так, что само, похоже, гастрономизировало чью-то неживую уже плоть в чьих-то бывших кишках с помощью каких-то сожигаемых стволов, то есть, тратя многошумные растения, превращало многоголосых, блеющих, ржущих, мычавших и радовавшихся всякий раз, когда наступала ver sacrum, Божьих тварей в еду.
Правда, боговдохновенные создания не хотели уступать поля даже сейчас, даже будучи ободраны, расчленены, разрублены и промыты. Дух Божий, пребывавший в каждой их клеточке, пресуществлялся – хотя и на местном слободском уровне – в благовонный дым всесожжения и вскоре распространился, и на второй день, который выдался вовсе душным, разошелся по всей округе и так ошеломил сперва ближних ближних, потом дальних ближних, никогда прежде такого благоухания не обонявших, что поверг всех в молитвенное настроение и, порождая равнодушие к насущному продмаговскому хлебу, полз дальше и дальше...
Разные сорта мяса, тука и пряностей, прокручиваемые через мясорубку и рубившиеся невдалеке от печки на дощатом садовом столе, привлекать собаку скоро перестали. Она, как сказано, обожралась быстро и, сытая, лежала возле будки, уложив свою овчарочью голову на передние лапы и глядя исподлобья на коптильное действо. Не раздражал ее даже котенок, который приплелся с соседнего двора, – маленькое кошачье дитя, но уже без матери и без какого-либо кормового молока. То, чем он пробавлялся, было едой не кошачьей, однако с голоду он все же не помирал, а ото дня ко дню рос и набирался своего опыта. Привлеченный запахом, он прополз под забором и, качающийся по причине недоедания и малости своей, объелся так, что от тяжести в раздувшемся животе повалился в траву. Когда он, клянча мясо, вставал на цыпочки и царапал ногу садового стола, на его раздутом рахитичном животе в реденьком детском пуху делалась видна крупная блоха, ходившая по розовой его кожице, и выкусывать ее было некогда, ибо колбасные ароматы помрачили инстинк-ты кошачьего младенца, хотя по летам ему полагалось молочное, а не мясное.
А запах копчения полз и уже к вечеру дополз пусть не до Касимова, но Крестовского путепровода достиг.
Они продвигались по этому тогда нескончаемому путепроводу, и было уже около двух часов темной и теплой ночи. Она шла в обнимку с Красивым под непрерывный клекот Влажнорукого, под раздраженные реплики Сухоладонного и неугомонную суетню мальчишки.
– Чувствуешь, пахнет? – спрашивал, чтобы что-то говорить, Красивый. Он уже истрогал ее груди, хотя идти при этом было затруднительно – мешали ноги. – Чувствуешь, колбасой копченой?.. Это тут вот – коптят, а тут – наш сарай...
– Чувствую, – смеялась она. – Ой чувствую! Чего же ты боком-то идешь? Вы там все колбасники, что ли?
– Ё-ё-ё-о-о-о...
– Тебе шпанскую мушку подсыпали? – интересовался мальчишка. – А то девки звереют.
– Чего ее подсыпать? Я и так хожу и таю. Зачем звереть, если таю? Пошли уж скорей... Сарай не сарай, полежать бы где-нибудь! – дышала она в шею Красивому.
– Ё-ё-ё-о-о-о...
– Бабон как пить дать... – остерегал мученика-заику Сухоладонный.
– Во поезд! – крикнул вдруг мальчишка. – Вагонов сто, сука буду!
Под Крестовский путепровод втягивался странный поезд. Длинный, тягучий и цельный, словно бы не из отдельных вагонов, поезд медленно вбирался по слизистым колеям рельсов, растягиваясь, как червь, выгнанный из норы недавним ливнем, и словно бы снова заползал в нее обратно, и совершал это, неслышно и слепо пресмыкаясь на извивах осклизлой стези.
Глядя с моста, они ощущали потаенность странного движения, имевшего целью как бы исчезновение, уползание, то есть – небытие. И затихли, свесившись через перила...
А поезд все не кончался...
– Босоножки, гляди, не урони... – сказала она мальчишке исчезающим голосом, ибо по ее согнувшейся над перилами спине ползла рука стоявшего справа Влажнорукого – это Красивый, склонясь слева над перилами и не извлекая свою из теплых повисших ее грудей, переглянулся с Влажноруким, и тот медленно, куда медленнее поезда, повел влажную руку все ниже и ниже, а она истаивала и в самом деле превращалась в ночную теплынь, но живую и желанную осязанию ласкавших ее нелепых со ступнями сорок второго размера зверей...
А поезд куда-то полз и втягивался, вползал и втягивался...
Мальчишка, не защищенный в отличие от Сухоладонного грубиянством, изводившийся от невозможности коснуться этой не потроганной им еще ни разу, хотя уже истроганной в мучительных наваждениях теплыни, растерявшись от паузы и самолюбиво не желая видеть тройственную истому, хотя исподволь глядел, слыша ее шепот, молчание Красивого и какой-то утробный теперь речитатив Влажнорукого – ё-ё-ё-о-о... – а в ответ тихий смех и "чегой-то он все время матерится? ой какие вы горячие...", – когда рука Влажнорукого подворачивалась под ситцевый крупик, вдруг схватил с асфальта случайный булыжник...
Поезд был закупорен, и могучий запах коптильни, уже стоявший над Крестовским путепроводом, в него не проникал, а если бы и проник, то даже он не преодолел бы смрада, стиснутости и отчаяния.
Чрево червя, набитое нешевелящимися во сне внутренностями, было отъединено от мира цельнометаллическим туловом. Но и в этой тьме тьмы, перед которой темнота августа потерянно мерцала своими звездами, кто-то сопел, ибо в тесном нутре – у самой крыши – совершалось что-то похожее на объятия, здешний темничный отголосок священного лета, и, когда в крышу грохнул булыжник, брошенный с моста мальчишкой, – когда, значит, камень грохнул в крышу одного из вагонов, везущих небытие и отчаянье с Красной Пресни, неразмыкаемые, казалось, объятия двоих мужчин разом разомкнулись, и над вагонами вспыхнули прожектора, а по коридору затопали и заорали: "Что еще тут?! Шакалы! Твою мать!.."
Заголосили тормоза, ползучий гад, скрежеща, замер, словно бы во что-то уткнулся. Прожектора мазнули по перилам моста, но никого не осветили, потому что, едва булыжник ударил в крышу, Влажнорукий, вовсе к этому моменту одуревший от хотения, – рука его, подворачиваясь под крупик, почти коснулась уже устья расставленных ее ног, – в момент сообразив, ч е м грозит этот удар, безупречно выкрикнул торчавшее у него всю дорогу в гортани "твою мать!", причем выкрикнул вроде бы одновременно с внутривагонным окриком, а все, отскочив от перил и пригнувшись, побежали, чтобы с путей их не было видно.
Четверо мчались, колотя ботинками в тротуарный асфальт, а она едва поспевала за ними и всхлипывала от смеха. Так они добежали почти до остановки "Северный переулок", оставив позади мост, а когда остановились, она, глянув на тяжело дышавших, глотавших подфонарный воздух и вздымавших узкогрудые грудные клетки спутников своих, сама еле дыша, зажмурилась и зашлась хохотом:
– Ой сердца четырех! Ой ну и ну! Ой смеху полны трусики!
– Чего это... они у тебя... всю дорогу... полны? – переводя дыхание, разъярился Сухоладонный. – Переменила бы!
– Ой умора! Чего переменивать-то? Кто ж на танцы в трусах ходит?
– Забожись! – выпалил мальчишка.
– А это видал?! – И она задрала обеими руками подол, но лица им не закрыла, а поглядывала поверх то на одного, то на другого, то на третьего, то на мальчишку:
– Кому дать?
Кому дать?
Кому голову сломать?..
И стала потешаться:
– Видал, говорю, или нет?
А он не мог поверить в то, что только и чаял увидеть, не знал, как увидеть, где увидеть, когда увидеть, всегда видеть, только и видеть, и глядеть, чтобы потом начисто забывать, почему-то забывать и снова хотеть видеть, – но как увидеть, где увидеть, когда увидеть – опаловые от перламутрового свечения ноги на ракушке-конхоиде, от века переходящие в бедрышки – не в бедра, они пока ни к чему, – в бедрышки и круглый, как у котенка, живот?.. Грудей видно не было – платье же она подняла не так чтобы высоко! – зато, как блоха у котенка, на чуть выпуклом животе чернелся пупок... И все было бы как бы знакомо, когда б не рыжий меховой лоскуток, темневший во тьме на живой коже, и его почему-то хотелось ощутить, коснуться или на мгновение перестать видеть, чтобы снова увидеть, и она, откуда-то зная это, по-прежнему с задранным подолом повернулась, пляшущая, на мысках, один раз и другой, как бы возникая из витков ракушки. Но это было уже слишком, ибо ей вдруг почудилось, что вот-вот, вот сейчас, вот сию минуту сверкнут в воздухе ножи, за-хрипит прирезанный Влажноруким Сухоладонный, сам Влажнорукий ахнет на стилете Красивого, а беспомощный мальчишка, сперва размозжив голову Красивого булыжником, бросится к мосту и кинется, точно булыжник, на крышу ползущего поезда, и в прожекторной белизне будет, разбившись, выглядеть рубленой массой для набивки в колбасную кишку – мясной малиновой кровавой плотью...
Но она все же сделала еще поворот, еще раз появилось рыженькое, еще забелелся наивный круп, мягким изгибом переходивший в спину, а пониже в беспомощные и блаженные ноги – охранительницы выстилающего перламутра ракушки...
– Всё! За показ деньги плотят... – опустив платье, сухо и строго сказала она. – Во когда чайники вешать! – И прыснула. – Ну ладно же, миленькие, ну пошли быстрей, где он, сарай ваш? Мне же на работу вставать... Ой, бесстыдники, тепло как... Голая была, а тепло, как под курицей...
Была глубокая ночь, и давно полегли на доски клеток и вольер обманутые звери; тихо, чтоб никого не разбудить, всхлипывал маленький шакал; снова превратились в нешевелящиеся внутренности червя прервавшие объятие двое небритых, немытых и несуществующих для Божьего мира мужчин; под большим тополиным листом, прижавшись к птичке, спал на бульваре языческий младенец; вовсе просохла вода на Трубных стогнах, а впитавший ее асфальт стал темнее и чище; не спали поэт с композитором, срочно сочинявшие ораторию, причем взвинченный отчего-то (отчего – поэту было неизвестно) композитор то и дело бегал умывать руки (это еще даст рецидивы), особенно тщательно обрабатывая серым хозяйственным мылом указательный палец и платком протирая губы, но при этом напевая что-то, от чего человечество в который раз ахнет; котенок, не по возрасту евший мясо, переживал первую в жизни клиническую смерть – у него, как у всякого кота, впереди будет еще много клинических смертей: и от удара кирпичиной, и от недоповешения, когда малолетних вешателей изматерит и прогонит сердобольная какая-нибудь старушонка, неугомонная сторонница изгоя Бога, который сейчас бродил, обследуя труху когда-то бессчетных – с маковками да колоколами – московских своих алтарей; росли тихие яблоки жизни в яблоневом саду, опровергая запах повапляющей смерть коптильни; от проложенного в лебеде дымовода поднимался то ли дым, то ли пар просыхающей земли; будка, в которой висели грудинки и колбасы, тоже пускала изо всех щелей холодные коптильные дымки; ветра не было, а будь он – дым щекотал бы ноздри овчарке, спавшей неподалеку, и она бы чихала; полуспал мясник, потому что дождь (ливня здесь не было – был просто сильный дождь) мешал его сну, и он даже не стал отвязывать деревянную ногу – приходилось вставать, устраивать толь над печкой. Его мощный организм требовал сна, как требует сна организм хищника, объевшегося мясом, но погода мешала, и мясник был от этого в бешенстве, кляня домашних за то, что подбили на коптильную затею.
Когда дождь кончился и копчение оказалось вне опасности, он заснул, так и не отвязав деревяшки, но и во сне был разъярен и страшен.
К сплошному забору примыкал соседский сарай – хороший тихий сарай, обжитый крестовиками, за свою привязанность к месту всегда рисковавшими паутиной. По паутине просто ударяли палкой, и паук быстро уносил куда-то свой крест. Еще были там дрова, сарайная пыль и разный хлам, а у стены располагался большой столярный верстак, ничем в отличие от остального пространства не заваленный, – на нем подростки обычно играли в карты. Сарай был какой надо – нагретый за день, тепло свое не отдал, а стоял весь жаркий, и поленницы, заполнявшие до крыши его заднюю половину, источали запах прелой смоквы, который, смешавшись с жертвенным коптильным дымом, делал воздух наркотическим и густым.
– И яблоки у вас есть? А то без яблоков не годится... – сказала она тихо и странно. – Будь у меня яблоки, я бы всем по яблочку дала, продолжала она тихо и странно. – Даже ему, злюке такому. И ему, хоть он всю дорогу матерился. И ему бы тоже, хоть он малолетка совсем. И тебе... да вы за дверью погодите – я с ним сперва, дурачки... я бы дала яблоко, хотя тебе его не откусить, потому что дрожишь. Не дрожи и будь осторожней – в сарае грабли стоят разные, землю рыхлить, чтоб семена сеять, – продолжала она глухо, тихо и странно. – Не наступи смотри и не дрожи! А вот – верстак, я его вижу, потому что, когда нужно, я и в темноте вижу. А ты не дрожи и не торопись, я сейчас на этот верстак лягу. И не бойся, ведь я, когда лежу, ничего не боюсь... и хорошо, что это верстак, а не стол, ибо что на столе всегда мертвое: покойники лежат на столах мертвые и еда – она же из мертвого состоит: из теляток и овечек, из мертвого лука и мерт-вой чечевицы, из срезанного колоса и раздавленной крупы; и даже цветы, которые для красоты, тоже мертвые, потому что умрут в вазе... На столе все всегда мертвое: свеча мертвая – она сгорает, варенье – даже земляничное – из мертвой земляники оно... Но ты не дрожи, я не расхочу, и ты от меня никуда не денешься... Здесь же не стол... здесь – верстак, а на нем погибшее – ибо тоже мертвое дерево возрождают для новой жизни живые быстрые рубанки... долота здесь помучают доску, но сделают в ней отверстие, куда туго войдет плоть другой доски, и смолою своею они слипнутся, и получится потом неразделимое соитие еще многих – одиноких до того и мерт-вых – чурбаков; они так сладко съединятся, что породят табуретку или скамеечку... Они воскреснут, ибо что от плотника, тому воскреснуть, а что на столе, тому пропасть – и дальнейшее превращенье его позорно. И позор этот почему-то нужен жизни, зачем-то всегда нужен жизни позор, за столом же сидят живые... на живых табуретках живые... Ну не дрожи – ч т о сейчас, не позор, – и не торопись, и не думай, и не бойся – ты не тяжелый... А хоть и тяжелый – я могу для тяжести перестать быть, она же чтобы стиснуть кровь, беспечно бегавшую по жилкам моим, по прожилкам моим, пока ты не приводишь меня на верстак – он широкий какой... Ну не дрожи, не бойся... знаешь, я что знаю: мы – первенцы творенья; ты первенец, и я, и мы из ливня получились, когда жила под землей набухла, и они там, за дверью, – тоже из ливня, и получилось вас целых четверо; какие же вы... вчетвером! Но это пустяки, Господи! Мне же целый мир надо родить и еще накормить того, который на Третьей Мещанской заплакал... Но это тебя не касается, не думай об этом, ни о чем не думай, и обо мне не думай, чувствуй только, что тепло и что ты – муравей в ракушке... и вползи, и ползи, и ползи, и уткнись... в самый перламутр уткнись... и знаешь что купи ты мне когда-нибудь... в самый, в самый... да... да... эскимо... что ты делаешь?.. да!.. да!.. да!.. ну хоть эскимо...