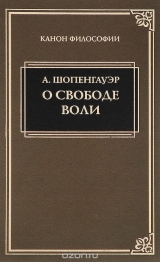
Текст книги "О воле в природе"
Автор книги: Артур Шопенгауэр
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Впрочем, интеллект повсюду зависит прежде всего от церебральной системы, а она находится в необходимом соотношении с остальным организмом; поэтому холоднокровные животные значительно уступают в этом отношении теплокровным, а беспозвоночные – позвоночным. Но организм – только ставшая зримой воля, к которой как на абсолютно первое все всегда сводится: ее потребности и цели определяют в каждом явлении меру для средств, а они должны соответствовать друг другу. Растение лишено апперцепции потому, что не обладает мобильностью; да и для чего бы была растению апперцепция, если она не может помочь ему находить полезное и избегать вредного? И наоборот, мобильность не могла бы помочь растению, поскольку оно не обладает апперцепцией, чтобы руководить ею. Поэтому в растении еще нет нераздельной диады чувствительности и раздражимости; они дремлют в его основе, способности воспроизведения, в которой здесь только и объективируется воля. Подсолнух, и вообще каждое растение, стремится к свету, но его движение к свету еще не отделено от его восприятия света, и оба они совпадают с его произрастанием. Рассудок человека, столь превосходящий остальные организмы и поддерживаемый данным ему разумом (способностью к несозерцательным представлениям, т. е. к понятиям: рефлексией, способностью мыслить), соотносится отчасти с его потребностями, значительно превосходящими потребности животных и возрастающими до бесконечности, отчасти с полным отсутствием у него естественного оружия и покрова и с его относительно небольшой мышечной силой, которая значительно уступает силе равных ему по величине обезьян, равным образом и с его неумением бегать, – ведь в беге его превосходят все четвероногие млекопитающие, и наконец, с его медленным размножением, длительным детством и долгой жизнью, требующими гарантии сохранения индивида. Все эти серьезные требования должны быть удовлетворены силами интеллекта: поэтому сила интеллекта здесь и преобладает. Но интеллект мы повсюду обнаруживаем как нечто вторичное, подчиненное, предназначенное служить только целям воли. Верный этому предназначению он, как правило, всегда остается на службе воли. Как он все–таки в отдельных случаях благодаря выходящему за пределы обычной нормы преобладанию церебральной жизни освобождается от этого служения, вследствие чего возникает чисто объективное познание, которое возвышается до гениальности, я подробно показал в третьей книге, в эстетическом разделе моей главной работы, и позже объяснил в Парергах (т. 2, § 50–57, а также § 206).
Если после всех этих наблюдений о точном соответствии между волей и организацией каждого животного мы с этой точки зрения ознакомимся с содержанием хорошего остеологического кабинета, то нам поистине покажется, что мы видим, как одно и то же существо (праживотное Ламарка, вернее, воля к жизни) изменяет в зависимости от обстоятельств свой образ и из одного и того же количества и порядка своих костей посредством их удлинения и укорочения, утолщения и утончения создает все многообразие форм. Это количество и порядок костей, который Жоффруа Сент–Илер («Principes de philosophic zoologique», 1830) назвал анатомическим элементом, остаются, как он убедительно показывает, по существу неизменным во всем ряде позвоночных и представляют собой константную величину, нечто заранее просто данное, бесповоротно установленное посредством непостижимой необходимости, неизменность чего мне хочется сравнить с постоянством материи при всех физических и химических изменениях: к этому я вскоре вернусь. Однако вместе с тем наблюдается величайшая изменяемость, пластичность, податливость этих костей по величине, форме и цели их применения; а это определяется, как мы видим, волей с исконной силой и свободой в зависимости от целей, которые ставят перед ней внешние обстоятельства: она делает из этого то, что в каждом данном случае вызывается ее потребностью. Если воля в качестве обезьяны хочет лазать по деревьям, она хватается четырьмя руками за ветки и чрезмерно вытягивает ulna и radius; a одновременно она удлиняет os coccygis (локтевая… лучевая кости… копчик (лат.).), превращая его в длинный, величиной в аршин, цепкий хвост, чтобы с его помощью повисать на деревьях и перепрыгивать с ветки на ветку. Те же кости на руках укорачиваются до неузнаваемости, если воля хочет в качестве крокодила ползать по илу, в качестве тюленя плавать или в качестве крота рыть; в последнем случае она увеличивает metacarpus и фаланги за счет всех остальных костей, превращая их в несоразмерно большие, лопатообразные лапы. Если же воля хочет прорезать воздух в качестве летучей мыши, то невероятно удлиняются не только os humeri (пястные кости… плечевая кость (лат.).), radius, ulna, но и обычно маленькие и подчиненные carpus, metacarpus phalanges digitorum (запястье, пястные и перстные кости (лат.).) растягиваются, как в видении святого Антония, до чудовищной, превосходящей длину тела животного длины, чтобы растянуть находящиеся между ними перепонки. Если воля, для того чтобы в качестве жирафа обгладывать кроны высоких африканских деревьев стала на беспримерно высокие передние ноги, то те же по своему числу всегда неизменные 7 шейных позвонков, которые были так сдвинуты у крота, теперь настолько удлиняются, что и здесь, как повсюду, длина шеи равнялась длине передних ног, чтобы голова могла опуститься до питьевой воды. Если же, когда воля принимает образ слона, длинная шея не может выдержать вес громадной, массивной и к тому же утяжеленной огромной длины зубами головы, то шея остается короткой, но выручает хобот, который опускается к земле, поднимая вверх корм и воду, и достигает также верхушки деревьев. Во всех этих изменениях мы видим, как в соответствии с ними одновременно растягивается, развивается, становится выпуклым череп, вместилище интеллекта, в зависимости от того, требуют ли более или менее трудно добываемые средства к существованию большего или меньшего интеллекта; различную степень рассудка опытный взор легко определит по выпуклостям черепа.
Правда, тот названный выше определенным и неизменным их анатомический элемент продолжает оставаться загадкой, поскольку он не входит в телеологическое объяснение, которое начинается только после того, как он допущен; ведь во многих случаях рассматриваемый орган мог бы быть столь же целесообразно создан и при другом количестве и порядке костей. Понятно, например, почему череп человека составлен из восьми костей, а именно для того, чтобы при рождении они могли сдвинуться посредством родничков; но почему у цыпленка, который пробивает скорлупу яйца, должно быть такое же количество черепных костей, мы не понимаем. Приходится поэтому допустить, что этот анатомический элемент, с одной стороны, основан на единстве и тождестве воли к жизни вообще, с другой – что первичные формы животных вышли одна из другой («Парерги», т. 2, § 91) и поэтому сохранился основной тип всего рода. Этот анатомический элемент есть то, что Аристотель понимает под своим αναγκαια φυσις изменяемость же его форм в зависимости от целей он называет την κατα λογον φισιν (См.: Arist. De partibis animalium III. c.2 sub finem: πως δε της αναγκαιας φυσεως κ.τ.λ. (необходимое природное свойство… целенаправленное природное свойство (др. – гр.)… Арист [отель]. О част [ях] животных, кн. III, гл. 2, в конце (лат.): целенаправленная вариация необходимого природного свойства и т. д. (др. – гр.). В рус. перев. 1837 г. эти слова отсутствуют.)) и объясняет, исходя из этого, что у рогатого скота материал верхних резцов использован для рогов: совершенно верно, так как верхние резцы есть только у не имеющих рогов жвачных животных, у верблюда и кабарги, у всех же остальных имеющих рога животных они отсутствуют.
Как поясненное здесь на примере костяка организмов точное соответствие строения животного его целям и внешним условиям жизни, так и удивительная целесообразность и гармония его внутренней структуры не могут быть сделаны ни одним объяснением или допущением, даже в отдаленной степени, столь понятными, как посредством уже установленной в других случаях истины, что тело животного есть только сама его воля, созерцаемая как представление, т. е. в мозгу, посредством форм пространства, времени и причинности, – следовательно, есть лишь зримость, объектность воли. Ибо при таком предположении все находящееся в этом теле и принадлежащее ему должно быть направлено на последнюю цель, на жизнь этого животного. Здесь не может быть ничего бесполезного, ничего лишнего, никакого изъяна, ничего противоречащего цели, ничего скудного или несовершенного для данного рода; все необходимое должно быть в наличии, но только поскольку оно необходимо. Ибо здесь творец, творение и материал одно и то же. Поэтому каждый организм – совершенное произведение. Здесь дело обстояло не так, будто воля имела сначала определенное намерение, познала цель, а затем применила соответствующие средства и овладела материалом; ее воление – непосредственно цель и непосредственно ее достижение; не было необходимости в чуждых средствах, которыми надлежало бы сначала овладеть: здесь воление, действие и достижение одно и то же. Поэтому организм предстает как чудо и не может быть сравнен с каким бы то ни было человеческим творением, ловко сработанным при искусственном свете познания066 .
Наше удивление перед бесконечным совершенством и целесообразностью в творениях природы объясняется, по существу, тем, что мы рассматриваем их, исходя из наших произведений. В них воля к творению и само творение – две разные вещи: между ними находятся еще два других обстоятельства: во–первых, чуждая воле самой по себе среда представления, через которую воля должна пройти, до того как она здесь осуществится; во–вторых, чуждый действующей здесь воле материал, которому должна быть навязана чуждая ему форма и которой он противится, так как уже принадлежит другой воле, а именно своей природной структуре, своей formae substantial, выраженной в нем идее (Платоновой): следовательно, материал должен быть сначала преодолен, но в своей внутренней глубине он всегда будет оказывать сопротивление, как бы глубоко ни проникла в него искусственная форма. Совершенно иначе обстоит дело с творениями природы – они не опосредствованное, как предыдущие, а непосредственное проявление воли. В них воля действует в своей первозданности, следовательно, бессознательно, воля и творение не разделены здесь опосредствующим их представлением: они составляют одно. И даже материал составляет с ними одно, ибо материя есть лишь зримость воли. Поэтому здесь материя полностью проникнута формой; вернее, их происхождение совершенно одинаково, они существуют лишь друг для друга и поэтому едины. То, что мы и здесь, как в произведении искусства, их разделяем, – только абстракция. Чистая, абсолютно лишенная формы и качеств материя, которую мы мыслим как материал в творениях природы, – только ens rationis (рациональная сущность (лат.).) и не может присутствовать в опыте. Напротив, материал произведения искусства есть эмпирическая, уже получившая форму материя. Тождество формы и материи – характерное свойство продукта природы, различие их – характерное свойство произведения искусства067 . Поскольку в продукте природы материя – только зримость формы, мы видим, что и эмпирически форма выступает просто как порождение материи, как вырывающаяся из ее глубин в кристаллизации, в вегетативном и животном generatione aequivoca (самозарождении (лат.).), причем наличие последнего по крайней мере не вызывает сомнения у эпидеонтов068 . На этом основании можно предположить, что нигде, ни на одной планете или спутнике, материя не будет находиться в состоянии бесконечного покоя; напротив, пребывающие в ней силы (т. е. воля, простой зримостью которой она служит) всегда будут прерывать наступивший покой, всегда будут пробуждаться, чтобы вновь начать свою игру в виде механических, физических, химических или органических сил, ибо они всегда только ждут для этого повода.
Если же мы хотим понять, как осуществляется деятельность природы, нам не следует прибегать для этого к сравнению с нашими произведениями. Истинная сущность каждого животного образа есть находящийся вне представления, следовательно, и вне его форм, пространства и времени, акт воли, которому поэтому неведомо пребывание друг после друга и друг подле друга, а присуще неделимое единство. Если же эта форма схватывается нашим церебральным созерцанием, и внутренность ее рассекает анатомический нож, то в свете познания оказывается то, что исконно и само по себе чуждо ему и его законам, но должно выступить в нем как соответствующее его формам и законам. Изначальное единство и неделимость упомянутого акта воли, этой поистине метафизической сущности, являет себя нам теперь разъединенным, в виде пребывания друг подле друга частей и последовательности функций, которые, однако, все–таки предстают как тесно связанные близким отношением для взаимной помощи и поддержки, как средство и цель друг для друга. Рассудок, постигающий это таким образом, приходит в изумление от глубоко продуманного устройства частей и комбинации функций, поскольку возникновению этой формы животного он непроизвольно приписывает способ, как из множества (которое привнесла лишь форма его познания) восстанавливается первоначальное единство. В этом смысл великого учения Канта, согласно которому целесообразность привнесена в природу лишь рассудком: рассудок дивится чуду, созданному им самим. То, что с ним происходит (если можно пояснить столь важную проблему тривиальным сравнением), подобно удивлению, что всякое число, помноженное на 9, дает в произведении число, сумма цифр которого равна опять 9 или же числу, кратному девяти; тогда как рассудок сам подготовил это чудо в десятичной системе счисления. Физико–теологическое доказательство предваряет реальное существование мира его существованием в рассудке и утверждает: для того чтобы мир был целесообразен, он должен, до того как он возникнет, существовать в представлении. Я же, следуя Канту, утверждаю: для того чтобы мир был представлением, он должен казаться нам целесообразным, – а это совершается в нашем интеллекте.
Из моего учения, правда, следует, что каждое существо создано им самим. Природа, которая никогда не лжет и в своей наивности подобна гению, говорит совершенно те же самое: каждое существо берет у другого, совершенно ему подобного, лишь искру жизни, а затем на наших глазах само создает себя, беря материал для этого извне, форму и движение – из самого себя, это и называют ростом и развитием. Таким образом, и эмпирически каждое существо предстает перед нами как собственное творение. Но язык природы не понимают, ибо он слишком прост.
ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ
Подтверждения проявлению воли в растениях, которые я считаю нужным привести, даны преимущественно французами; эта нация отличается несомненной склонностью к эмпирическому знанию и неохотно выходит за пределы непосредственно данного. К тому же эти подтверждения принадлежат Кювье, упорное внимание которого только к чисто эмпирическому знанию послужило поводом к знаменитому спору между ним и Жоффруа Сент–Илером. Поэтому нас не должно удивлять, что утверждения здесь не столь решительны, как в приведенных раньше немецких свидетельствах, и что каждое подтверждение делается с осмотрительностью и сдержанностью.
Кювье в своей «Histoire des progres des sciences naturelles depuis 1789 jusqu'a ce jour», vol. 1, p. 245 говорит: «Растения обладают способностью к известным, как будто самим собой возникающим (spontanes) движениям, которые они совершают при соответствующих обстоятельствах и которые подчас настолько похожи на движения животных, что из–за этого растениям хочется приписать своего рода ощущение и волю; к этому склонны особенно те, кто хотят видеть нечто подобное в движениях внутренних частей животных. Так, вершины деревьев всегда стремятся к вертикальному направлению, разве что они склоняются к свету. Их корни ищут хорошую почву и влагу и, чтобы найти их, отклоняются от прямого пути. Влиянием внешних причин эту различную направленность объяснить нельзя, если не допустить также наличие внутренней склонности, способной возбудиться и отличающейся от простой силы инерции неорганических тел…. Декандоль поставил замечательные опыты, которые показали, что у растений существуют своего рода привычки, которые можно преодолеть искусственным освещением только по истечении известного времени. Растения, помещенные в постоянно освещаемый лампами подвал, не переставали в первые дни закрываться при наступлении ночи и отрываться утром. Существуют и другие привычки, которые растения могут приобретать и терять. Цветы, закрывающиеся при сырой погоде, остаются, если она длится слишком долго, открытыми. Когда господин Дефонтэн взял с собой в коляску растение желтую недотрогу, она сначала сжималась от тряски, но затем опять распустилась, как при полном покое. Следовательно, и здесь свет, влага и т. п. действуют только в силу внутренней склонности, которая, осуществляя такую деятельность, сама может быть уничтожена или изменена: жизненная сила растений, как и животных, подвержена утомлению и истощению. Hedysarum gyrans отличается странными движениями, которые оно совершает днем и ночью своими листьями, не нуждаясь для этого в каком–либо поводе. Если в царстве растений какое–либо явление может обмануть и напомнить о свободных движениях животных, то несомненно именно это. Бруссонэ, Сильвестр, Цельсий и Халле069 подробно описали это явление и показали, что деятельность растения вызывается только ее хорошим состоянием.
В восьмом томе той же работы (1828, с. 166) Кювье говорит: «Господин Дютроше добавляет физиологические наблюдения, сделанные на основе поставленных им опытов, которые, по его мнению, доказывают, что движения растений спонтанны, т. е. зависят от внутреннего начала, непосредственно воспринимающего влияние внешних факторов. Однако поскольку он затрудняется приписывать растениям чувствительность, он заменяет это слово словом Nervimotilitat»070 . Я должен по этому поводу заметить, что все мыслимое нами в понятии спонтанность при более детальном исследовании всегда оказывается проявлением воли, синонимом которого она служит. Единственное различие заключается в том, что понятие спонтанности взято из внешнего созерцания, понятие проявления воли – из нашего собственного сознания. Достойный внимания пример силы стремления этой спонтанности, также и в растениях, дает нам «Cheltenham examiner», он напечатан также в «Times» от 2 июня 1841 г.: «В последний четверг три или четыре больших гриба совершили на одной из наших самых людных улиц невиданный героический подвиг; в своем жадном стремлении прорваться в зримый мир они подняли большой камень мостовой».
В «Mem. d. l'acad. d. sciences del'annEe» 1821, vol. 5, P., 1826 г. Кювье на с. 171 пишет: «В течение веков ботаники ищут ответ, почему семя, в каком бы положении его ни посадить, всегда посылает корни вниз, а стебель наверх. Это приписывали влажности, воздуху, свету, но ни одна из всех причин не дает необходимого объяснения. Господин Дютроше поместил семена в отверстия, просверленные в дне наполненного влажной землей сосуда, который он повесил на балку в комнате. Можно было бы предположить, что стебель будет расти вниз, ничего подобного. Корни опустились, повиснув в воздухе, а стебли удлинялись, проходя через влажную землю, пока не вышли на поверхность. По мнению господина Дютроше, растения принимают определенное направление, следуя внутреннему принципу, а отнюдь не притяжению тел, к которым они направляются. На острие свободно движущейся на втулке иглы прикрепили зернышко омелы, находящейся в процессе роста, и поставили близ него дощечку: зерно очень скоро направило свои корни к дощечке и за пять дней достигло ее, причем игла не совершила ни малейшего движения. Стебли репчатого лука и лука–порея, положенные в темное место вместе с луковицами, поднимаются, хотя медленнее, чем при свете; они поднимаются, даже если их положить в воду, что достаточно доказывает, что направление им сообщают не воздух и не влажность». – К. Х. Шульц в его премированной Acad. des sciences в 1839 г. конкурсной работе «Sur la circulation dans les plantes», однако, сообщает, что, посадив семена в темный ящик с отверстиями на дне, он с помощью помещенного под ящиком зеркала, отражавшего солнечный свет, достиг того, что растения стали расти в обратном направлении – венчиком вниз, корнями вверх.
В Dictionn. d. sciences naturelles, в статье «Animal» сказано: «Если животные проявляют в поисках пищи жадное стремление, а в выборе ее – способность к различению, то корни растений направляются туда, где почва наиболее плодородна и даже на скалах выискивают мельчайшие трещины, в которых может содержаться хоть немного питания; их листья и ветви поворачиваются в ту сторону, где они могут найти больше всего воздуха и света. Если согнуть ветку так, чтобы поверхность ее листьев оказалась внизу, то листья переворачивают даже свои стебли, чтобы вновь занять то положение, которое наиболее благоприятно для осуществления их функций (т. е. гладкой стороной сверху). Можем ли мы с уверенностью считать, что это происходит бессознательно?»
Ф. И. Э. Майен, посвятивший в третьем томе своей «Новой системы физиологии растений» (1839 г.) предмету нашего исследования очень подробную главу, озаглавленную «О движениях и ощущении растений», говорит на с. 585: «Мы нередко видим, что картофель, находящийся в глубоких, темных погребах, когда время близится к лету, пускает ростки, которые всегда обращены к отверстиям, служащим доступом света, и продолжают расти до тех пор, пока не достигнут того места, куда непосредственно падает свет. Согласно некоторым наблюдениям, такие ростки картофеля доходили до 20 футов длины, тогда как обычно это растение, даже в самых лучших условиях, выпускает ростки не длиннее 3—4–х футов. Интересно подробно проследить, каким путем следует побег такой прорастающей в темноте картофелины, чтобы наконец достигнуть отверстия, через которое поступает свет. Побег пытается приблизиться к свету кратчайшим путем; но так как он недостаточно крепок, чтобы расти, пересекая без опоры воздушное пространство, он падает на землю и стелется таким образом до ближайшей стены, по которой он затем поднимается». И этого ботаника (цит. соч., см. с. 676) полученные им данные заставляют признать: «Следя за свободными движениями осциляторий и других низших растений, мы вынуждены признать наличие у этих созданий своего рода воли».
Яркое доказательство проявления воли у растений дают вьющиеся растения; если вблизи от них нет опоры, за которую можно было бы уцепиться, то в поисках ее они растут всегда по направлению к самому тенистому месту, даже к окрашенной в темный цвет бумаге, куда бы ее ни положить; напротив, стекла они избегают, потому что оно блестит. Об очень интересных опытах такого рода, в особенности с Ampelopsis quinquefolia сообщает Thr. Andrew Knight, Philos. transact. 1812 (в переводе в BibliothEque britannique. Section sciences et arts. Vol. 52)071 , хотя сам он пытается объяснить происходящее механически и не хочет признать в этом проявление воли. Я ссылаюсь на его опыты, а не на его суждение. Следовало бы посадить ряд лишенных опоры вьющихся растений вокруг ствола дерева и проследить, не поползут ли они все к нему, как к центру. По этому вопросу 6 ноября 1843 г. Дютроше сделал в Academic des sciences доклад: Sur les mouvements revolutifs spontanes chez les vegetaux; невзирая на многословие, этот доклад, напечатанный в ноябрьском номере 1843 г. «Comptes rendu des sciences de l'Acad. d. sc.»072 , достоин всяческого внимания. В результате его опытов оказалось, что побеги pisum sativum (зеленого горошка), Bryonia alba (белого перитупая) и Cucumis sativus (огурца), на которых находится усик (la vrille), совершают в воздухе очень медленное круговое движение, которое в зависимости от температуры в течение от одного до трех часов описывает эллипс; с его помощью они наугад ищут прочное тело, а если таковое находят, усик его обвивает и поддерживает теперь все растение, ибо само по себе оно стоять не может. Эти побеги действуют так же, хотя и значительно медленнее, как лишенные глаз гусеницы, которые в поисках листа описывают верхней частью туловища круги в воздухе. В названной статье Дютроше сообщает и другие сведения о движениях растений, например, что Stylidium gramini–folium в Новой Голландии имеет в середине венчика столбик, на котором расположены пыльник и рыльце и который попеременно сгибается и выпрямляется. Этому близко то, что сообщает Тревиранус в своей книге «Явления и законы органической жизни», т. 1, с. 173: «Так, у Parnassia pahistris (болотного белозора) и Ruta graveolens (пухачей руты) пыльники склоняются к рыльцу друг за другом, у Saxifraga tridactylites (триперстной камнеломки) – попарно, и в таком же порядке выпрямляются». По этому же вопросу несколько раньше сказано: «Самые общие для растений движения, которые кажутся произвольными, это – стремление веток и верхней стороны листьев к свету и влажному теплу, а также обвивание вьющимися растениями опоры. В последнем явлении особенно проявляется нечто сходное с движениями животных. Предоставленное самому себе вьющееся растение описывает, правда, при росте концами веток, круги и достигает путем такого рода произрастания какого–либо находящегося поблизости от него предмета. Однако приводить свой рост в соответствие с формой предмета, которого оно достигает, заставляет его не просто механическая причина. Cuscuta (павилика) обивает не любую опору, не обвивает она части животного тела, мертвые растительные тела, металлы и другую неорганическую материю, а обвивает лишь живые растения, причем не все, – например, не обвивает мох, – а только те, из которых она может извлекать своими присосками (papilia) необходимое ей питание, и такие растения притягивают ее уже на некотором расстоянии»073 . Особенно большое значение имеет в этой связи следующее наблюдение, сообщенное в «Farmer's magazine» и перепечатанное в «Times» от 3 июля 1848 г. под заглавием «Vegetable instinct»074 : «Если поставить с любой стороны побега молодой тыквы или крупного садового гороха на расстоянии до 6 дюймов миску с водой, то за ночь побег приблизится к ней и утром мы обнаружим его плавающим с одним из своих листьев на воде. Этот опыт можно продолжать каждую ночь, пока растение не начнет завязывать плод. Если поставить на расстоянии в 6 дюймов от молодого Convolvolus (полевого вьюнка) подпорку, то он ее найдет, даже если ежедневно менять ее место. Если растение уже достигло, обвивая опору, известной высоты, и его разматывают и обвивают опору в противоположном направлении, то оно вернется к своему первоначальному положению или в своем стремлении к этому погибнет. Если же два таких растения растут близко друг от друга без опоры, вокруг которой они могли бы обвиться, то одно из них меняет направление своей спирали и они обвивают друг друга. Дюамель положил несколько бобов в наполненный влажной землей цилиндр; спустя некоторое время они стали прорастать и, конечно, пустили перышки (plumula) вверх к свету, а корешки (radicula) вниз в почву. Через несколько дней цилиндр был повернут на четверть своего объема, и это повторялось до тех пор, пока цилиндр не совершил круг. Когда бобы были вынуты из земли, оказалось, что то и другое, и перышки, и корешки при каждом повороте выгибались, чтобы прийти, в соответствии с ним, одна, стараясь подняться вертикально, другая уйти вниз, в результате чего они образовали полную спираль. Однако хотя естественное стремление корней ведет их вниз, они все–таки, если почва внизу суха, а выше назходится какая–либо влажная субстанция, поднимутся вверх, чтобы ее достигнуть».
В записках Фрорипса за 1883 г. в No 832 есть краткая статья о движении растений: некоторые растения, находясь в плохой почве, вблизи от хорошей, пускают побег в хорошую почву; растение засыхает, побег же растет и сам становится растением. Таким образом одно растение сползло со стены.
В той же газете за 1835 г., No 981 помещен перевод сообщения оксфордского профессора Добени (из Edinb. new philos. journ. Ap. – Jul.075 1835), где автор на основании новых и очень тщательно проведенных опытов доказывает, что корни растений обладают, во всяком случае до известной степени, способностью производить выбор между предложенными им видами почвы
И наконец, я не хочу оставлять без внимания, что уже Платон приписывает растениям вожделения ιπιθυμια, следовательно, волю (Tim., p. 403. Bip). Впрочем, учения древних, посвященные этому вопросу, я уже рассмотрел в моем главном сочинении (т. 2, гл. 23); эту главу вообще следует использовать как дополнение к данному разделу.
Нерешительность и сдержанность, с которыми упомянутые авторы приступают, как мы видим, к тому, чтобы признать присущую растениям волю, хотя она и обнаруживается эмпирически, объясняется тем, что и они находятся в плену старого мнения, будто сознание – требование и условие воли, а воли у растений, очевидно, нет. Что воля есть первичное и поэтому независима от познания, с которым в качестве вторичного только и появляется сознание, им не приходит в голову. Растения обладают лишь аналогом, суррогатом познания или представления, но волю они действительно имеют и совершенно непосредственно: ибо воля в качестве вещи в себе есть субстрат их явления, как любого другого. Оставаясь реалистичными и исходя из объективных данных, можно также сказать: когда то, что живет и действует в растительной природе и животном организме, постепенно доходит по лестнице существ до такой ступени, что на него непосредственно падает свет познания, оно предстает в возникшем теперь сознании как воля и познается здесь более непосредственно, следовательно, лучше, чем где–либо; поэтому такое познание должно служить ключом к пониманию всего, стоящего ниже его. Ибо в нем вещь в себе уже не скрыта никакой другой формой, кроме формы самого непосредственного восприятия. Это непосредственное восприятие собственного воления и есть то, что называют внутренним чувством. Воля в себе не воспринимается и таковой она остается в неорганическом и растительном царстве. Подобно тому как мир, несмотря на солнце, был бы погружен во тьму, если бы не было тел, отбрасывающих солнечный свет, или как вибрация струны нуждается, чтобы звучать, в воздухе, даже в резонаторе, так воля сознает самое себя только с появлением познания; познание есть как бы резонатор воли, а звук, возникающий благодаря этому, – сознание. Это самое–себя–осознавание воли приписывали так называемому внутреннему чувству, ибо оно – наше первое и непосредственное познавание. Объектом этого внутреннего чувства могут быть только различные побуждения собственной воли, так как представление не может быть вновь воспринято, разве что только в рефлексии разума, этой второй потенции представления, следовательно, in abstracto. Поэтому простое представление (созерцание) относится к подлинному мышлению, т. е. к познанию в абстрактных понятиях, как воление само по себе – к пониманию этого воления, т. е. к сознанию. Поэтому совершенно ясное и отчетливое сознание как собственного, так и чужого существования приходит только с разумом (способностью мыслить в понятиях), который так же возвышает человека над животным, как способность чисто созерцательного представления возвышает животное над растением. То же, что, подобно растению, лишено способности представления, мы называем бессознательным и мыслим его как мало отличающееся от несуществующего, поскольку оно существует, собственно, только в чужом сознании как его представление. Тем не менее оно лишено не первичного в существовании, воли, а лишь вторичного; нам же представляется, что без этого вторичного первичное, которое ведь есть бытие вещи в себе, уходит в ничто. Мы не умеем непосредственно отчетливо отличать бессознательное бытие от небытия, хотя глубокий сон учит нас этому на нашем собственном опыте.






