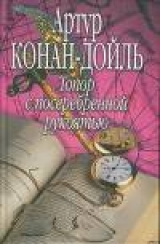
Текст книги "Топор с посеребренной рукоятью"
Автор книги: Артур Конан Дойл
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
Довольно скоро я убедился, что ее подозрения имели под собой почву и что человек из Архангельска все еще скрывается по соседству. Однажды ночью, страдая бессонницей, я встал и выглянул из окна. Погода была несколько пасмурная, и я едва различал линию моря и смутные очертания моей лодки на берегу. Однако, когда мои глаза привыкли к темноте, я заметил какое-то темное пятно на песках, напротив самой моей двери, которого я прежде не видел. Стоя у окна, я пристально вглядывался в расстилавшуюся передо мной местность, стараясь разглядеть, что это могло быть. Облака, закрывавшие луну, медленно разошлись, и поток холодного ясного света разлился по безмолвной бухте и длинной линии ее пустынных берегов. Тогда я понял, кто бродит по ночам у моего дома. Это был он, русский. Он скорчился, подобно гигантской жабе, поджав на монгольский лад ноги и устремив глаза, очевидно, на окно комнаты, где спали молодая девушка и экономка. Свет упал на его поднятое вверх ястребиное лицо, с глубокой морщиной на лбу и с торчавшей вперед бородой – отличительные признаки страстной натуры. Моим первым побуждением было выстрелить в него, как в злоумышленника, забравшегося в мои владения неизвестно с какой целью, но затем злоба сменилась состраданием и презрением.
«Бедный дурак, – мысленно сказал я. – Неужели же возможно, чтобы человек, так бесстрашно смотревший в глаза смерти, мог отдать все свои помыслы и забыть всякое самолюбие ради этой жалкой девчонки, – девчонки, которая к тому же бежит от него и ненавидит его? Любая женщина полюбит его, хотя бы из-за этого смуглого лица и высокой красивой фигуры, а он стремится как раз обладать той единственной, из тысячи ей подобных, которая не желает его знать!»
Когда я опять лег в постель, эта мысль долго забавляла меня. Я знал, что засовы в доме крепки и прутья решеток надежны.
Мне было совершенно безразлично, где проведет ночь этот человек – у моей двери, или в ста шагах от нее, лишь бы он ушел утром. Как я и ожидал, когда я встал и вышел из дома, не было ни его, ни каких-либо следов его ночного бдения.
Вскоре я опять увидел его. Однажды утром я отправился покататься в лодке, так как от действия вредного химического снадобья, которого я надышался ночью во время опытов, у меня болела голова. Я греб вдоль берега несколько миль, а потом, чувствуя жажду, высадился на берег у места, где, как я знал, впадал в море ручей с прекрасной свежею водою.
Этот ручеек проходил через мою землю, но устье его, где я был в тот день, находилось за пограничной чертой моих владений. Я смутился, когда поднявшись от ручья, у которого утолял жажду, очутился лицом к лицу с русским. Теперь я забрался, куда не следовало, так же, как и он, и я сразу заметил, что он об этом знает.
– Я хотел бы сказать вам несколько слов, – сказал он серьезно.
– Торопитесь! – ответил я, смотря на свои часы. – У меня нет времени слушать вашу болтовню.
– Болтовню! – повторил он сердито. – Ну конечно, вы, шотландцы, странный народ. Ваше лицо сурово, а ваши слова грубы, но таковы и те добрые рыбаки, у которых я сейчас живу. Однако я нахожу, что за напускной суровостью скрываются добрые, честные натуры. Несомненно, и вы – добрый и хороший человек, несмотря на свою грубость.
– Черт возьми, – сказал я, – говорите, что хотите сказать, и затем убирайтесь прочь! Вы надоели мне.
– Неужели я не могу ничем смягчить вас? – вскричал он. – А! Вот взгляните! – Он вынул небольшой греческий крест. – Взгляните! Наши религии могут различаться обрядами, но какая-нибудь общность мыслей и чувств должна проявляться у нас при виде этого символа.
– Не уверен, – ответил я. Он задумчиво посмотрел на меня.
Вы очень странный человек, – сказал он наконец. – Я не могу вас понять. Вы по-прежнему стоите между мною и Софьей. Вы ставите себя в опасное положение, сэр. О, поверьте мне прежде, чем будет слишком поздно. Если бы вы только знали, что я сделал, чтобы овладеть этой женщиной, как я рисковал своим телом, как я погубил свою душу! Вы – небольшое препятствие в сравнении с теми, которые я преодолел, один удар ножа или брошенный камень устранили бы вас навсегда с моего пути. Но спаси меня Бог от этого! – дико вскричал он. – Я и так уже низко пал.
– Вернулись бы вы лучше на родину, – сказал я, – чем прятаться в этих дюнах и отравлять мой досуг. Когда я удостоверюсь, что вы уехали, я отдам эту женщину под покровительство русского консула в Эдинбурге. До тех пор я буду охранять ее сам, и ни вы, ни какой иной московит не отнимет ее у меня.
– Какую же цель преследуете вы, разъединяя меня с Софьей? – спросил он. – Не думаете ли вы, что я буду обижать ее? Зачем же я стану это делать, когда я охотно отдал бы жизнь, чтобы избавить ее от малейшей неприятности? Зачем вам это?
– Я делаю это потому, что мне так того угодно, – ответил я. – Я не имею обыкновения объяснять свои поступки кому бы то ни было.
– Послушайте! – вскричал он, внезапно впадая в бешенство и приближаясь ко мне со сжатыми кулаками. – Если бы я думал, что у вас есть какое-нибудь бесчестное намерение по отношению к этой девушке, если бы я хоть на одно мгновение предположил, что у вас есть низменные причины, чтобы задерживать ее, то я вырвал бы сердце из вашей груди своими собственными руками! И это так же верно, как то, что есть Бог на небесах.
Одна мысль об этом, казалось, лишила его рассудка. Лицо его исказилось, а кулаки конвульсивно сжимались и разжимались. Я думал, что он схватит меня за горло.
–Прочь, – сказал я, кладя руку на пистолет. – Если вы прикоснетесь ко мне хоть пальцем, я убью вас.
Он опустил руку в карман, и одно мгновение я думал, что он также хочет достать оружие, но вместо этого он поспешно вынул папиросу и зажег ее, быстро вдыхая дым в легкие. Нет сомнения, он знал по опыту, что это был самый верный способ обуздать свои страсти.
–Я говорил вам, – сказал он более спокойным голосом, – что мое имя Урганев, Алексей Урганев. Я финн по рождению и провел жизнь в странствованиях по всему свету. Я принадлежу к числу беспокойных людей, не могущих удовлетвориться тихой жизнью. С тех пор, как у меня было свое судно, едва ли имелся порт от Архангельска до Австралии, куда бы я не заходил. Я был груб, необуздан и свободен; а там, на родине, жил человек изящный с белыми руками, с вкрадчивой речью, умевший угождать женщинам. Этот юноша своими хитростями и уловками украл у меня любовь девушки, которую я всегда считал предназначенной себе. До той поры она, казалось, склонна была отвечать на мою страсть. Я был в плавании в Гаммерфесте, куда я ездил за слоновой костью, и, неожиданно вернувшись, узнал, что она – моя гордость, мое сокровище – выходит замуж за этого юношу с изнеженным лицом и что свадебный поезд уже отправился в церковь. В такие минуты, сэр, что-то происходит в моей голове, и я едва сознаю, что делаю. Я высадился на берег со своею командой – все люди, которые плавали со мной годами и на верность которых можно было положиться. Мы пошли в церковь. Они стояли, она и он, перед священником, но обряд не был еще совершен. Я бросился между ними и схватил ее за талию. Мои люди оттолкнули испуганного жениха и зрителей. Мы снесли ее в лодку, привезли на корабль, а затем, подняв якоря, поплыли через Белое море, пока шпили Архангельска не скрылись за горизонтом. Я предоставил ей свою каюту, свою гостиную, всевозможный комфорт. Я спал вместе с людьми на баке. Я все надеялся, что с течением времени ее отвращение исчезнет и она согласится выйти за меня замуж в Англии или во Франции. Проходили дни за днями. Мы видели, как Нордкап исчез позади нас, мы плыли вдоль серых берегов Норвегии, но несмотря на все мое внимание, она не прощала мне того, что я вырвал ее из рук бледного возлюбленного. Затем случился этот проклятый шторм, который разбил и мой корабль, и мои надежды и лишил меня даже возможности видеть женщину, ради которой я так много рисковал. Может быть, она еще может полюбить меня. Вы, сэр, – сказал он задумчиво., – надо полагать, много повидали на своем веку. Как вы думаете, она забудет того человека и полюбит меня?
– Мне надоела ваша история, – сказал я, отворачиваясь. – Я полагаю, что вы большой дурак. Если вы думаете, что ваша любовь может пройти, то самое лучшее для вас – как можно больше развлекаться. Если же эта страсть неизлечима, то лучшее, что вы можете сделать, это перерезать себе горло – таков самый простой выход из подобного положения. У меня нет больше времени рассуждать с вами.
Сказав это, я отвернулся от него и спустился к лодке. Я ни разу не оглянулся, но слышал глухой звук его шагов по песку, так как он последовал за мною.
– Я рассказал вам начало своей истории, – сказал он, – когда-нибудь вы узнаете ее конец. Хорошо бы вы сделали, если бы отпустили девушку.
Я ничего не ответил ему, и лишь оттолкнулся от берега. Когда я отплыл на некоторое расстояние, я оглянулся и увидел его высокую фигуру. Он стоял на желтом песке и задумчиво смотрел мне вслед. Когда несколько минут спустя я оглянулся еще раз, его уже не было.
Долгое время после этого моя жизнь была так же монотонна, как и до кораблекрушения. Иногда я думал, что человек из Архангельска исчез совсем, но следы, которые я встречал на песке, и особенно маленькая кучка пепла от папирос, однажды найденная мною за холмиком, с которого был виден дом, доказывали, что, хотя и невидимый, но он все еще жил неподалеку. Мои отношения с русской девушкой не изменились. Старая Мэдж сначала несколько ревниво относилась к ее присутствию и, казалось, боялась, что она отнимет у нее ту маленькую власть, которой она пользовалась в моем доме. Постепенно, Мэдж уверилась в моем крайнем равнодушии к девушке и примирилась с нашим новым положением и, как я уже говорил, извлекала из него выгоду, потому что наша гостья выполняла за нее многие домашние работы.
Теперь я подхожу к концу своего рассказа, который начал скорее для своего собственного развлечения, чем для развлечения других. Конец этой странной истории, в которой участвовали двое русских, был такой же бурный и внезапный, как и ее начало. События одной-единственной ночи избавили меня от всех треволнений, и я остался наедине с книгами и моими занятиями, как и было прежде, до вторжения этих чужестранцев. Вот как это случилось.
Целый день я был занят тяжелой утомительной работой, так что вечером решил совершить длительную прогулку. Когда я вышел из дому, я был изумлен видом моря. Оно лежало передо мной, словно полоса стекла: ни малейшей ряби на его поверхности не было видно. Но воздух полнился тем не поддающимся описанию стонущим шумом – я уже упоминал о нем ранее, – словно души всех упокоившихся под этими предательскими волнами, шлют мрачное предостережение о грядущих бедах своим братьям во плоти. Жены рыбаков здесь знают последствия этого страшного шума и тоскливым взором ищут темные паруса, идущие к берегу. Услышав этот шум, я вернулся домой и посмотрел на барометр. Он опустился ниже 29 градусов. Тогда я понял, что нас ожидает бурная ночь.
У подножия холмов, где я прогуливался в тот вечер, было уже темно и холодно, но вершины их были облиты розово-красным светом, а море освещено заходящим солнцем. На небе не было видно сколько-нибудь значительных туч, глухой стон моря становился все громче и сильнее. Далеко к востоку я увидел бриг, шедший в Уик.
Было очевидно, что его капитан, как и я, принял к сведению указания природы и спешил укрыться в гавани. Позади брига низко стлалась длинная, мрачная полоса тумана, скрывая горизонт. «Надо торопиться, – подумал я, – иначе ветер может подняться раньше, чем я вернусь домой».
Я был по крайней мере в полумиле от дома, когда внезапно остановился и, затаив дыхание, стал прислушиваться. Мой слух так привык к звукам природы, к вздохам бриза, к рыданию волн, что всякий другой звук был слышен мне на большом расстоянии. Я ждал, весь превратившись в слух. Вот снова на побережье зазвучал протяжный вопль отчаяния, и вдруг, между холмами позади меня, ему, словно эхо, стал вторить жалобный призыв на помощь. Он слышался со стороны моего дома. Я повернулся и что было мочи побежал назад к дому, увязая в песке, перескакивая через камни. Мрачные мысли одолевали меня.
На расстоянии четверти мили от дома есть высокая дюна, с которой видна вся окрестность. Достигнув вершины этой дюны, я на минуту остановился. Вот старое серое строение, вот – лодка. Ничто не изменилось с тех пор, как я ушел. Но тут пронзительный крик повторился громче прежнего, и вслед за тем высокий мужчина вышел из моей двери – русский моряк. На его плече лежала девушка в белом платье. Даже теперь он, казалось, нес ее нежно и с благоговением. Я слышал дикие крики девушки и видел ее отчаянные усилия вырваться из его объятий. Позади них семенила моя старая экономка, стойкая и верная, как старая собака, которая не может больше кусаться, но все-таки огрызается беззубыми деснами на незваного гостя. Она еле-еле плелась вслед за похитителем, размахивая длинными тонкими руками и осыпая его, без сомнения, градом шотландских ругательств и проклятий. С одного взгляда мне стало ясно, что он направляется к лодке. В моей душе родилась внезапная надежда, что я могу успеть пересечь ему дорогу. Я помчался к берегу что было сил. По дороге я зарядил револьвер. Я решил, что это будет последнее вторжение чужеземца.
Но я явился слишком поздно. К тому времени, как я добежал до берега моря, он был в ста ярдах от него, лодка летела все дальше и дальше с каждым взмахом его мощных рук. Я закричал от бессильного гнева и заметался по берегу, словно безумный; ТУТ русский оглянулся и увидел меня. Привстав со своего сиденья, он сделал мне изящный поклон и махнул рукой. Это не был торжествующий или насмешливый жест. Даже в своей ярости и раздражении я не мог не заметить, что то было торжественное и вежливое прощание. Затем он опять сел за весла, и маленькая лодка быстро понеслась через бухту. Солнце уже зашло, оставив на воде темную красную полосу, слившуюся с пурпуровым туманом на горизонте. Постепенно лодка становилась все меньше и меньше. Потом она превратилась в простое пятно на поверхности пустынного моря. Это неясное туманное пятно также исчезло, и мрак опустился над ним, мрак, который никогда больше не рассеется.
Почему же я шагал по пустынному берегу, разгоряченный и сердитый, как волк, у которого отняли его детеныша? Потому ли, что я полюбил эту русскую девушку? Нет, тысячу раз нет! Я не из тех, которые из-за белого личика и голубых глазок способны изменять весь ход своих мыслей и своего существования. Сердце мое было не затронуто. Но гордость – гордость была жестоко уязвлена. Подумать только, я оказался не способен защитить беспомощное существо, умолявшее меня спасти его, полагавшееся на меня! Вот что заставляло болезненно биться мое сердце и кровь приливать к голове.
В ту ночь с моря поднялся сильный ветер, и бурные волны бушевали на берегу, словно хотели увлечь его за собою в океан. Шум и грохот бури гармонировали с моим настроением.
Всю ночь я бродил по берегу, весь мокрый от брызг волн и дождя, глядя на сверкавшую пену прибоя и прислушиваясь к шуму бури. Горькое чувство кипело в груди моей при мысли о русском. Я присоединил свой слабый голос к громкому завыванию бури. «Если бы он возвратился! – кричал я, сжимая кулаки. – Если бы только он возвратился!»
И он возвратился. Когда серый свет утра забрезжил на востоке и осветил громадную пустыню желтых волн с быстро несущимися над ними темными тучами, я вновь увидел его. В ста ярдах от меня на песке лежал длинный темный предмет, выброшенный на берег яростью волн. Это была моя лодка, сильно поврежденная. Немного дальше в мелкой воде колыхалось что-то неопределенное, бесформенное, запутавшееся в голышах и водорослях. Я сразу увидел, что это был русский, лежавший ничком, мертвый. Я бросился в воду и вытащил его на берег. Только после того, как я перевернул его, я увидел, что она была под ним; его мертвые руки обнимали ее, его искалеченное тело все еще стояло между нею и яростью бури. Казалось, что свирепое море могло отнять у него жизнь, но при всем своем могуществе было не в силах оторвать этого человека от женщины, которую он любил. Некоторые признаки указывали, что в течение страшной ночи ветреный ум женщины познал, наконец, цену верного сердца и сильной руки, которые боролись за нее и охраняли ее так нежно. Чем иначе можно было объяснить, что ее маленькая головка с такой нежностью приютилась на его широкой груди, посколькуее золотые волосы переплелись с его развевающейся бородой. Откуда также была эта светлая улыбка беспредельного счастья и торжества, которую сама смерть не могла согнать с его смуглого лица? Думаю, смерть оказалась для него светлее, чем вся жизнь.
Мэдж и я похоронили их на берегу пустынного Северного моря. Они лежат в одной могиле, глубоко вырытой в желтом песке. Странные вещи будут происходить на свете вокруг них. Пусть возникают и падают целые государства, гибнут династии, начинаются и прекращаются войны – эти два существа, равнодушные ко всему на свете, будут вечно обнимать друг друга в своей уединенной могиле на берегу шумного океана. Ни крест, ни какой иной символ не отмечают их место успокоения, но старая Мэдж иногда кладет на могилу дикие цветы, разбросанные по песку, а когда я прохожу мимо во время своей ежедневной прогулки, я думаю о странной чете, которая пришла издалека и ненадолго нарушила скучное однообразие моей мрачной жизни.
1889 г.
ЦЕНТУРИОН
Данный документ является отрывком письма Сульпиция Бальба, легата Десятого легиона, его дяде Луцию Пизону на виллу возле Байи и датируется календами месяца Августа 824 года от основания Рима{16}16
Основание Рима (согласно легенде) датируется по современному летосчислению 753/754 годом до Р.Х. Таким образом, указанная дата соответствует 70/71 году после Р.Х. Календамиу римлян назывались первые числа месяца в нашем календаре. Здесь, стало быть, идет речь о 1 августа. – Здесь и далее примеч. пер. П. Гелевы.
[Закрыть].
Я обещал тебе, дорогой дядюшка, сообщать обо всем мало-мальски интересном, что случится при осаде Иерусалима; но люди, которых мы воображали себе напрочь лишенными ратного духа, доставили нам кучу хлопот, и на письма просто не было времени.
Мы пришли в Иудею, полагая, что обыкновенного звука труб и одного выстрела будет достаточно, чтобы выиграть войну; мы предвкушали грандиозный триумф на via sacra{17}17
Via sacra – «Священная дорога» (лат.). Название улицы в Древнем Риме, по которой проходили триумфальные шествия.
[Закрыть] и как все девушки Рима станут осыпать нас цветами и поцелуями. Что ж, может, мы и заполучим победу, и поцелуи, вероятно, тоже; однако, смею заверить, что даже тебе, прошедшему суровую службу на Рейне, не довелось попадать в более жестокую переделку. Сейчас город уже наш, сегодня горит их храм, и я кашляю из-за дыма, проникающего в мою палатку, где я и пишу это письмо. Да, осада была ужасна, и думаю, никто из нас не захочет вновь оказаться в Иудее.
Когда сражаешься с галлами или германцами, перед тобой просто храбрые люди, воодушевленные любовью к своей стране. Однако сила этого чувства не у всех одинакова, и войско не охвачено единым патриотическим порывом. Иудеи же, помимо беззаветной любви к родине, еще преисполнены безумного религиозного пыла, который в битве наделяет их невиданной яростью. Они бросаются с криком радости на наши мечи и копья, как будто смерть – это все, о чем они мечтают.
Если же один из них проскользнет мимо часовых, то храни нас Юпитер: их ножи смертоносны, и в рукопашной эти люди опасны, как дикие звери, которые выцарапают глаза или перегрызут горло. Ты знаешь, что наши молодцы из Десятого легиона еще со времен Цезаря были такими же стойкими солдатами, как и все остальные, кто носит Орла{18}18
Имеются в виду так называемые «Орлы легионов» – официальные штандарты римских легионов, представлявшие собой укрепленное на древке золотое или серебряное изображение орла.
[Закрыть] на древке, но, клянусь, я видел, как они робели перед фанатиками. По сути, мы натерпелись меньше всех, поскольку должны были охранять перешеек полуострова, на котором и построен этот удивительный город. С других сторон его – крутые обрывы; таким образом, только через наш северный пост могут спастись беглецы или же подойти помощь. А тем временем Пятый, Пятнадцатый и Двенадцатый Сирийский легионы выполняли свой долг вместе с наемными войсками. Бедняги! Мы часто жалели их. Порой трудно было сказать, то ли мы атакуем город, то ли город нас. Они разбили камнями наши «черепахи», сожгли наши осадные башни и пронеслись прямо сквозь наш лагерь, чтобы уничтожить обоз. Если кто-нибудь заявит, будто еврей плохой солдат, не сомневайся, что он никогда не был в Иудее.
Однако все это не имеет ничего общего с тем, ради чего я, собственно, взялся за стило{19}19
Стило (или, правильнее, стиль) – палочка с одним острым концом для письма по воску и с другим тупым для стирания написанного
[Закрыть]. Наверняка, и на форуме{20}20
Форум – площадь, на которой происходили народные собрания и обсуждались все общественные дела. Термы (от греческого слова «термос» – теплый) – древнеримские общественные бани. Отличались большими размерами и роскошной отделкой.
[Закрыть], и в термах судачат о том, как наше войско под непревзойденным командованием царственного Тита брало укрепление за укреплением, пока не достигло храма. Он представляет собою – вернее, представлял, так как он догорает, – очень сильную крепость. Римляне понятия не имеют, какой это величественный храм! Он намного красивее тех, что у нас в Риме, и дворец их царя, построенный – я забыл кем – то ли Иродом, то ли Агрип-пой, тоже лучше. Каждая стена храма по две сотни шагов, а камни так плотно пригнаны, что между ними не войдет и лезвие ножа; солдаты говорят, внутри столько золота, что им можно наполнить карманы целого войска. Эта мысль, как ты понимаешь, придала атаке известную ярость, но, боюсь, в пламени большая часть добычи погибнет.
У храма произошло большое сражение, и поговаривают, что он сегодня будет взят ночным приступом, поэтому я поднялся на площадку, откуда весь город виден как на ладони. Интересно, дядюшка, доводилось ли тебе в твоих многочисленных походах вдыхать запах огромного осажденного города. Ночью ветер дул с юга, и оттуда до наших ноздрей доносилось отвратительное зловоние смерти. В городе находилось полмиллиона человек, уже начались всевозможные болезни и голод; трупы разлагались, грязь и ужас, и все это в небольшом замкнутом пространстве. Ты знаешь, как пахнут загоны для львов за цирком Максима – чем-то кислым и тухлым. Смрад от города похож на это, но к нему примешивается резкий, всепроникающий запах смерти, от которого замирает само сердце. Именно такой запах исходил от города сегодня ночью.
Стоя в темноте и завернувшись в свой алый плащ, так как вечера здесь прохладные, я вдруг осознал, что не один. Неподалеку оказался высокий человек, разглядывающий, как и я, город. При лунном свете я видел, что он одет как офицер; подойдя ближе, я узнал в нем Лонгина, третьего трибуна моего легиона, солдата бывалого, немолодого. Он странный и молчаливый, его уважают все, но не понимает никто, потому что он весьма замкнут и больше думает, чем говорит. Когда я подошел, первые языки пламени вырвались из храма, высоко взметнувшийся огонь озарил наши лица и заблестел на оружии. В красном огненном свете я увидел, что исхудалое лицо старого воина застыло как маска.
–Наконец-то! – прошептал он. – Наконец! Он говорил сам с собой и вздрогнул, смутился,
когда я спросил, о чем это он.
Я давно думал, что этот город постигнет несчастье, – сказал он. – И теперь вижу, что так и случилось. Вот я и сказал: «Наконец!»
Да и все мы думали, что с городом, который вновь и вновь отказывается признать власть Цезарей, случится несчастье.
В его проницательном взоре появилось вопрошающее выражение, и он обратился ко мне с такими словами:
– Я слышал, ты из тех, кто стоит за терпимость в делах веры, и считаешь, что каждый человек должен выбирать себе богов в согласии со своей совестью.
Я объяснил, что принадлежу к стоикам школы Сенеки, по учению которого наш бренный мир мало что значит, и что не следует стремиться к его благам, а должно развивать в себе презрение ко всему, кроме высшего.
Он как-то мрачно усмехнулся моим словам.
Насколько я знаю, – сказал он, – Сенека умер самым богатым человеком в Империи Нерона, так что он получил от земной жизни все, несмотря на свою философию.
А сам-то ты во что веришь? – поинтересовался я. – Может, тебе ведомы тайны Озириса, или ты допущен в общество последователей Митры{21}21
Митра – в религии Древней Персии и Древней Индии бог света, чистоты и правды. Культ Митры широко распространился в Римской империи. В конце IV века ожесточенная борьба культа Митры с христианством завершилась победой последнего. Но культ Митры оказал сильное влияние на последующее христианство, в частности из него были заимствованы обряд причащения хлебом и вином, миф о непорочном зачатии, праздник рождения Христа в день зимнего солнцестояния, празднование седьмого дня недели – воскресенья, учение о конце света
[Закрыть]?
Доводилось ли тебе слышать о христианах? – спросил он.
Да, – ответил я. – В Риме было несколько рабов и бродяг, которые так себя называли. Они почитали, насколько я понял, какого-то человека,умершего здесь, в Иудее. Полагаю, его казнили во времена Тиберия.
Верно, – подтвердил он. – А случилось это, когда прокуратором был Пилат – Понтий Пилат, брат старого Луция Пилата, правившего Египтом при Августе. Пилат оказался в большом затруднении, не зная, какое решение принять, но иудейская чернь и в те дни была точь-в-точь такой же дикой и варварской, как фанатики, с которыми мы бьемся. Пилат пытался отделаться от них, предложив им казнить преступника. Он надеялся, что, вкусив крови, они утихомирятся. Но иудеи предпочли предать казни другого человека, а Пилат оказался недостаточно тверд, чтобы им противостоять. Эх, как было жаль, просто ужасно!
Кажется, тебе много известно об этой истории, – заметил я.
Я был там, – сказал он и умолк. Мы оба смотрели на огромное зарево пожара, пожирающего храм. Яркие вспышки огня озаряли белые палатки войска и местность вокруг. За городом виднелся невысокий холм, и Лонгин указал на него.
Вон там это случилось, – сказал он. – Запамятовал, как зовется то место, но в те дни – более тридцати лет назад – там казнили преступников. Но Он не был преступником. Я не перестаю думать о Его глазах... о Его взгляде...
А что особенного в глазах?
Его взгляд преследует меня с той поры. Я и сейчас вижу Его глаза. Будто вся земная скорбь отразилась в них. Печальные-печальные, и вместе с тем в них такая глубокая, нежная жалость к людям! При взгляде на Его бледное, избитое, изуродованное лицо, ты бы сказал, что надо жалеть Его. Но
Он не думал о себе, в Его ласковых глазах была великая мировая скорбь. Нас стояла лишь манипула благородного легиона, и каждый был бы рад броситься на отвратительную толпу воющих фанатиков, волочивших Его на смерть.
– А ты что делал там?
Я был младшим центурионом, золотая виноградная лоза была только что возложена на мои плечи. Я стоял в карауле на холме, и не было в моей жизни службы тягостнее. Но дисциплина прежде всего, ведь Пилат отдал приказ. Но я думал тогда – и не я один, – что имя и дело Того человека не забудутся и что проклятие обрушится на город, в котором совершилось подобное. Была там старая женщина с седыми, распущенными волосами. Помню, она пронзительно закричала, когда один из наших парней взял копье и прекратил Его страдания. Несколько человек – мужчины и женщины, бедные, оборванные, – стояло возле Него. И видишь, все обернулось, как я и думал тогда. Даже в Риме, как ты сказал, появились Его последователи.
Полагаю даже, – ответил я, – что говорю с одним из них.
По крайней мере я ничего не забыл, – сказал он. – С той поры я не переставал бывать в походах и сражениях, и для учебы у меня времени не было. Но пенсия меня давно ждет, и я сменю сагум{22}22
короткий военный плащ (лат.).
[Закрыть] на тогу, а палатку – на какой-нибудь небольшой домик с садом и огородом вблизи Комо. Тогда-то я и постараюсь вникнуть в учение христиан, если, конечно, мне посчастливится найти наставника.
На том я и оставил его. Я затем, дорогой дядюшка, рассказываю тебе все это, что помню о твоем интересе к Павлу – человеку, которого приговорили к смерти за проповедь этой религии. Ты говорил мне, что христианство уже проникло во дворец Цезаря; я же могу сказать, что оно проникло также в души солдат Цезаря.
А помимо того, я хотел бы рассказать тебе о приключениях, недавно случившихся с нами, когда мы отправились на розыски провианта по холмам, что тянутся на юг до реки Иордан. В тот день...
(Здесь отрывок заканчивается.)
1922 г.







