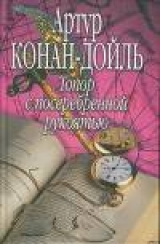
Текст книги "Топор с посеребренной рукоятью"
Автор книги: Артур Конан Дойл
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Но нет, Уорнер знал своего компаньона. По-пустому тот такой телеграммы бы не послал. Скрепя сердце, Уорнер снова направился на биржу и начал жестокую кампанию на понижение французских и прусских бумаг. Обстоятельства ему благоприятствовали, ибо как раз в этот момент на бирже было очень крепкое настроение, и недостатка в покупателях не было. Через два часа Уорнер вернулся к себе и подсчитал свои операции. Из этого подсчета явствовало, что не далее как завтра он и Доддс или разорятся окончательно, или же получат огромные деньги. Все зависело от Доддса. Весь вопрос, ошибся он или нет, посылая эту странную телеграмму.
Уорнер вышел на улицу. В нескольких шагах мальчик-рассыльный приклеивал к фонарному столбу листок с телеграммами. Около фонаря сразу собралась кучка людей. Одни махали шапками, другие перекликались через улицу. Уорнер бросился вперед. На листке красовались напечатанные крупным шрифтом слова:
ФРАНЦИЯ ОБЪЯВИЛА ВОЙНУ ПРУССИИ
– Так вот оно что! – весело крикнул Уорнер. – Стало быть, Доддс был прав!..{26}26
Рассказ (на это намекает и его название) служит как бы иллюстрацией к знаменитому изречению английского поэта Т. Кэмбелла (1777-1844): «Грядущее отбрасывает свою тень на настоящее». («Coming events cast their shadows before»).
[Закрыть]
1900 г.
СКВОЗЬ ЗАВЕСУ
Он был огромный шотландец, – буйная копна рыжих волос, все лицо в веснушках, – настоящий житель приграничной полосы, прямой потомок пресловутого клана лидсдейлских конокрадов и угонщиков скота. Такая родословная не мешала ему, однако, являть собой образец провинциальной добродетели, быть вполне степенным и благонравным гражданином – членом городского совета Мелроуза, церковным старостой и председателем местного отделения Христианской Ассоциации молодых мужчин. Браун была его фамилия, и ее можно было прочесть на вывеске «Браун и Хэндисайд», что висела над большими бакалейными лавками на Хай-стрит. Жена его, Мэгги Браун, до замужества – Армстронг, родилась в старой крестьянской семье в глухом Тевиотхеде. Невысокого роста, смуглая, темноглазая, с необычайной для шотландки нервною натурой. Казалось, не найти большего несоответствия, чем этот рослый, рыжеволосый мужчина и маленькая смуглая женщина, а ведь оба уходили корнями в прошлое этой земли так далеко, насколько вообще хватало человеческой памяти{27}27
Карл Дюпрель в «Открытии души потайными науками» говорит, что «способность второго зрения чаще всего наблюдается среди жителей Шотландии и Вестфалии ». Так что данная национальность для героев рассказа у Конан-Дойля не случайна.
[Закрыть].
Однажды – то была первая годовщина их свадьбы – они отправились поглядеть на только что отрытые развалины римской крепости в Ньюстеде. Место это само по себе было малопримечательное. С северного берега Твида, как раз там, где река делает петлю, простирается пологий склон пахотной земли. По нему-то и шли прорытые археологами траншеи, с обнаженной то тут, то там старинной каменной кладкой – фундаментом древних стен. Раскопки были обширные: весь лагерь занимал пятьдесят акров, а сама крепость – пятнадцать. Браун был знаком с фермером – хозяином этого бескрайнего поля, что сильно облегчило им всю затею, так как тот с радостью вызвался быть их провожатым. Бредя следом за своим проводником, они провели долгий летний вечер, изучая траншеи, ямы, остатки укреплений и множество разнообразных диковин, дожидавшихся своего отправления в Эдинбургский музей древностей. Именно в тот день нашли пряжку от женского пояса, и фермер, увлекшись, принялся было рассказывать о ней, но взгляд его вдруг упал на лицо миссис Браун.
–Э, да ваша женушка притомилась, – сказал он. – Передохнем-ка малость, а там еще походим.
Браун посмотрел на жену. Она и в самом деле была очень бледна, темные глаза ярко сверкали, во взгляде сквозило что-то диковатое.
Что с тобой, Мэгги? Ты устала? Пожалуй, пора возвращаться.
Нет, нет, Джон, давай еще походим. Тут так интересно! Словно мы попали в страну грез. Все мне кажется здесь таким странно-знакомым и таким близким. А римляне долго жили тут, мистер Каннингэм?
Порядочно, мэм. Сами судите: чтоб набить доверху такие помойные ямы, немалый потребен был срок.
А отчего они все-таки ушли?
Как знать, мэм. Видать, пришлось. Окрестному люду стало невмоготу терпеть их. Вот народ и поднялся, да и запалил их крепость, нагло торчавшую среди местных лачуг. Вон они, следы пожара, – на камнях, сами видите.
Невольная дрожь охватила Мэгги Браун.
Дикая ночь... Страшная... – как-то глухо проговорила она. – Все небо было красным от огня... И даже эти серые камни тоже покраснели...
Да уж, и они, надо думать, были красные, – подхватил муж. – Странное дело, Мэгги. Может, причиной тому твои слова, да только я словно сейчас вижу все, что тут творилось. Зарево отражалось в воде...
Да, зарево отражалось в воде. Дым перехватывал дыхание. И варвары истошно кричали!
Старик-фермер рассмеялся:
–Вот так да! Леди напишет теперь рассказ про старую крепость! Многих водил я здесь, показывал что да как, а такого, честно скажу, не слыхал ни разу. Уметь красиво сказать – это не иначе, как дар Божий.
Они оказались на краю траншеи, справа зияла яма.
–Эта яма четырнадцати футов в глубину, – объявил фермер. – Что б, вы думали, там нашли? Скелет мужчины с копьем в руке, вот что! Думаю, он так и помер там, вцепившись в свое копье. Как, спрашивается, человек с копьем попал в яму четырнадцати футов глубиной? Это ведь не могила: мертвецов своих они сжигали. Как растолкуете, мэм?
Он спасался от варваров и сам прыгнул вниз, – сказала Мэгги Браун.
Гм... Похоже на то... Профессора из Эдинбурга и те не объяснят лучше. Эх, вам бы бывать здесь почаще, чтоб отвечать на всякие такие хитрые вопросы. А вот между прочим алтарь, его отрыли на прошлой неделе. И надпись на нем. Сказывают, по-латыни, и будто значенье у ней такое, что, мол, люди из этой крепости благодарят Бога, который за них заступается.
Они оглядели старый, местами выкрошившийся от времени камень. Вверху виднелись глубоко врезанные латинские буквы – «V.V.».
Что ж это значит? – поинтересовался Браун.
Да кто его знает? – откликнулся провожатый.
–Валериа Виктрикс{28}28
Valeria Victrix – «Валериев Победоносный» (лат.). Такого рода названия римляне давали своим легионам.
[Закрыть], – чуть слышно промолвила женщина. Лицо ее было бледнее прежнего, глаза устремлены в безмолвную даль, точно она вглядывалась в смутные пространства громоздящихся веков.
Что это? – недоуменно спросил муж. Она вздрогнула, будто очнувшись ото сна.
О чем мы говорили?
Об этих буквах на камне.
–Ах да... Я уверена, что это инициалы легиона, который воздвиг алтарь.
–Да, но ты, мне кажется, назвала какое-то имя?
Да нет, что ты! Какое имя? И откуда мне знать, какие у них там имена!
Ты сказала что-то вроде «Виктрикс», так, кажется?
Я, наверное, пробовала угадать. Задумалась о чем-то и наугад сказала. Странное какое это место... Как-то не по себе мне здесь. Словно я не я, а кто-то еще.
Да, вот и мне то же чудится. Что-то здесь не то, место и впрямь жуткое, – согласился муж, и в его смелых серых глазах промелькнула едва уловимая тень страха. – Ну да ладно! Пора, пожалуй, прощаться, мистер Каннингэм. Нам надо домой засветло.
Вернувшись домой, Брауны не могли отделаться от странного впечатления, какое произвела на них эта прогулка по раскопкам. Словно ядовитые миазмы поднялись со дна сырых траншей и проникли в кровь. Весь вечер супруги были задумчивы и молчаливы, – лишь изредка обменивались замечаниями: как видно, на уме у обоих были одни и те же невеселые мысли.
Браун спал тревожно и видел странный, но вполне связный сон, видел так живо, что проснулся весь в поту, охваченный дрожью, словно испуганный конь. Утром, когда сели завтракать, он попытался пересказать сон жене.
Все было очень отчетливо, Мэгги, – начал он. – Гораздо отчетливее, чем что-нибудь наяву. Мне и сейчас все мерещится, будто мои руки липкие от крови.
Расскажи мне... расскажи по порядку, – попросила она.
Сперва я был на каком-то склоне. Я лежал, распластавшись на земле. Земля была твердая, неровная, поросшая вереском. Вокруг темнота, хоть глаз выколи, но я слышал шорохи и дыхание. Казалось, что вокруг меня люди, множество людей, но я никого не видел... Временами глухо звякала сталь, и тогда несколько голосов шептали: «Т-с-с!» В руке я держал узловатую дубину с железными шипами на конце. Сердце в груди у меня бешено колотилось, я чувствовал, что близится миг великой опасности и напряжения всех сил. Раз я выронил дубину, и снова в темноте вокруг меня зашептали голоса: «Т-с-с!» Я протянул руку и коснулся ноги человека, лежавшего спереди. По обе стороны от меня, локоть к локтю, тоже были люди. Но все молчали.
Потом мы поползли. Казалось, весь склон холма ползет вниз. Внизу была река и горбатый деревянный мост, а за мостом – частые огни – факелы на стене. Люди, крадучись, ползли к мосту. Ни шороха, ни скрипа, глубокая тишина. Вдруг в темноте раздался предсмертный вопль – крик человека, пронзенного внезапною болью в самое сердце. Длилось это одно мгновение – вопль умирающего перерос в рев тысячи разъяренных голосов. Я пустился бегом. Все вокруг меня тоже бегут. Засиял яркий красный свет, и река превратилась в багровую полосу. Теперь я увидел своих товарищей. Дикие лица с развевающимися на ветру длинными волосами и бородами, фигуры, одетые в звериные шкуры – они походили скорее на дьяволов, чем на людей. От ярости все обезумели, то и дело подпрыгивали на бегу и неистово размахивали руками, а красные отблески плясали на лицах, искаженных криком. Я бежал в толпе и выкрикивал проклятия, как и все. Раздался оглушительный треск дерева, и я понял, что частокол рухнул. В ушах у меня стоял пронзительный свист; я знал, что это стрелы: они проносились мимо. Я скатился на дно рва и увидел руку, протянувшуюся сверху, схватил ее – и меня втащили на стену. Глянув вниз, я увидел там серебряных людей, державших поднятые вверх копья. Несколько человек, те, кто бежал впереди, прыгнули вниз – прямо на копья, а вслед за ними и остальные. Мы перебили солдат прежде, чем они успели высвободить свои копья и вновь наставить их на нас. Они громко кричали на каком-то чужом языке, но пощады не было никому. Мы накрыли их подобно волне, повергли наземь и растоптали, потому что их оказалось мало, а нас – без числа.
Затем я очутился среди домов. Один из них был охвачен пламенем, языки огня били сквозь крышу. Я побежал дальше и оказался между зданиями. Вокруг никого, потом кто-то промелькнул передо мной. Оказалось, женщина. Я поймал ее за руку, взял за подбородок и повернул лицом к себе, чтобы рассмотреть при свете. И кто, ты думаешь, это был, Мэгги?
Жена облизнула пересохшие губы.
–Это была я, – сказала она. Он изумленно глянул на нее.
–Ты догадлива. Да, это была ты, именно ты. Понимаешь, не просто похожая на тебя. Это была ты, ты сама. Я увидел ту же самую душу в твоих испуганных глазах. Ты была бледна и удивительно красива в зареве пожара. У меня тут же возникла неотвязная мысль: увести тебя отсюда, чтобы ты была моей, только моей, в моем доме, где-то у подножия холмов. Но ты вцепилась ногтями мне в лицо. Я вскинул тебя на плечо и стал искать пути назад, подальше от этого дома, объятого пламенем – назад, в темноту.
И тут случилось то, что я запомнил лучше всего... Тебе плохо, Мэгги? Дальше не рассказывать? Боже! у тебя тот же взгляд, что и ночью, в моем сне! Ты пронзительно кричала. Он примчался в свете пожарища. Голова его была непокрыта, волосы черные и курчавые, в руке сверкал меч, короткий и широкий, чуть длиннее кинжала. Он бросился с ним на меня, но споткнулся и упал. Одной рукой я держал тебя, а другой...
Жена вскочила на ноги, лицо ее перекосилось от боли и ненависти.
– Марк! – вскричала она. – Мой ненаглядный Марк!.. Ах ты животное! Зверь! Зверь!
Зазвенели чашки, и она без чувств упала на обеденный стол.
* А *
Они никогда не говорили об этом странном происшествии, случившемся на заре их супружеской жизни. Тогда, на мгновение, отдернулась завеса прошлого, и некая мимолетная картина забытой жизни предстала перед ними. Но завеса тут же задернулась, чтобы не открываться уже никогда. Жизнь Браунов проходила в довольно узком кругу – для мужа он ограничивался магазином, для жены – домом; и все же с того летнего вечера новые и более широкие горизонты смутно обозначились перед ними благодаря посещению развалин римской крепости.
1911 г.
РУКА-ПРИЗРАК
Посещают ли тени умерших наш материальный мир?
Даже скептичный и несклонный к сентиментальности д-р Джонсон{29}29
Имеется в виду Самюэль Джонсон (1709-1784) – знаменитый английский писатель, публицист, литературный критик и филолог, автор первого толкового словаря английского языка в двух томах.
[Закрыть] полагает, что утверждать обратное – значит оспаривать многочисленные свидетельства, ведь во все времена самые разные народы – как варварские, так и цивилизованные – независимо друг от друга постоянно сообщали о призраках и верили в них. «Разве что придиры подвергают это сомнению, – добавляет он, – но едва ли они способны умалить значение общепризнанных фактов, тем более что отрицающие появление призраков на словах, нередко подтверждают его своими страхами на деле».
В августе прошлого года, путешествуя по Северной Европе в обществе трех друзей, я оказался в «Отель де Скандинави» в самом центре Христиании{30}30
Христиания – старое название города Осло, столицы Норвегии.
[Закрыть]. Не прошло и двух дней, как мы досыта насмотрелись на достопримечательности небольшой норвежской столицы: посетили королевский дворец, величественное белое здание, охраняемое сутулыми норвежскими стрелками в долгополых мундирах и шляпах с широкими полями и зеленым плюмажем; огромное кирпичное здание Стортинга{31}31
Стортинг – название норвежского парламента.
[Закрыть] – где повсюду натыкаешься на красного льва, начиная с королевского трона и кончая угольным ведерком в привратницкой; наконец замок Аггеруис и его скромную оружейную, состоящую из одного одинокого рыцарского доспеха да длинных мушкетов шотландцев, павших в битве при Ромсдале. После этого уже и смотреть не на что; и когда в десять часов вечера маленькие Тивольские сады закрываются, вся Христиания погружается в сон до рассвета.
Должно заметить, английские экипажи совершенно бесполезны в Норвегии; мы заказали себе к отъезду четыре одноколки, так как были полны решимости отправиться в дикий горный район, именуемый Доврефельдом. Однако задержка с прибытием важных писем вынудила меня остаться в Христиании еще на пару дней; друзья уехали, обещав дожидаться меня в Роднэсе, что расположен поблизости от величественного Ранс-фьорда. Если бы не эта задержка и связанная с нею необходимость путешествовать в одиночестве по совершенно незнакомым местам при моем плохом знании языка, я бы не узнал истории, которую и собираюсь теперь поведать.
В роскошных гостиницах Христиании обед заканчивается к двум часам пополудни, поэтому лишь к четырем часам вечера мне удалось выехать из города, улицы и архитектура которого сильно напоминали лондонскую Тотенгэм-Корт-роуд, сдобренную старым Честером. В моей одноколке – весьма, надо сказать, комфортабельной – разместились также мой чемодан и футляр с ружьем; все это вместе с моей персоной и самим средством передвижения было покрыто огромным брезентом, какой поставляет в стэндгейтский магазин английская кабриолетная компания.
Едва я оставил позади город красных черепиц и медных шпилей, позеленевших от времени, зарядил сильный дождь, весьма обыкновенный для Норвегии. Но он не помешал мне восхищаться удивительной красотой пейзажа. Низкорослая выносливая лошадка неспешной рысью везла мой легкий экипаж по неровной горной дороге; по сторонам тянулся дремучий лес, состоящий из темных, торжественных сосен, среди которых порой мелькали островки стройных белых берез. Зелень деревьев ярко контрастировала с голубизной узких фиордов, то тут, то там открывавшихся по обеим сторонам дороги, а также с ярким цветом, казалось, игрушечных деревенских домиков с белоснежными бревенчатыми стенами и огненно-красными крышами, покрытыми дранкой. Даже у некоторых деревенских шпилей был такой же кровавый оттенок, являя собой как бы характеристическую черту норвежского пейзажа.
Дождь припустил, сделавшись совершенно невыносимым; казалось, день превратился в сумрачный вечер, а вечер, в свою очередь, раньше обычного сменился ночью; плотные массы тумана скатывались по крутым бокам лесистых холмов; поверх тумана повсюду, насколько хватало глаз, возвышались мрачные ели, из-за чего пространство, открывавшееся до самого горизонта, походило на море конусообразных вершин. Дома попадались все реже; не встретилось ни одного прохожего. Путеводителем мне была всего лишь карманная карта в моем «Джони Мюррее». Сверившись с нею, я вскоре убедился в том, что еду не в сторону Роднэса, а плутаю где-то на берегах Тири-фьорда, заехав по меньшей мере на три норвежские мили (т.е. на 21 английскую) в противоположную сторону. Лошадка моя притомилась, дождь по-прежнему стоял стеной, близилась ночь, и со всех сторон меня обступали величественные громады гор. Дорога пошла по глубокому ущелью, около места, носившего – как я потом узнал – название Крогклевен. Миновав его, я очутился в почти круглой долине, посреди холмов.
Из-за крутизны дороги и изношенности упряжи моего наемного экипажа постромки разошлись, и я оказался – с бесполезными теперь лошадью и кабриолетом – вдали от какого бы то ни было жилища, где я смог бы починить свою одноколку или найти приют; дождь лил не утихая, вокруг меня высились дремучие непроходимые леса норвежских сосен, и необычайная мрачность ночи делала их тени еще чернее.
Невозмутимо оставаться в экипаже для человека со столь беспокойным, как у меня, нравом было решением неприемлемым. Я оттащил одноколку с дороги, накрыл брезентом свой скромный багаж и ружье, привязал поблизости пони и – окоченевший, злой и усталый – поплелся искать подмогу; хотя я был вооружен всего лишь норвежским ножом, воров или чьего-либо нападения я не опасался.
Я продолжал так идти по дороге, дождь хлестал в лицо и слепил глаза. Единственной моей защитой были теперь шотландский плед и дождевик; вскоре я различил ограду и небольшую дорожку, что явно указывали на близость жилья. Пройдя еще ярдов триста, я увидел, что лес поредел, впереди замелькал свет. Он горел, как я понял, в нижнем окне небольшого двухэтажного деревянного особняка. Створки окна оказались не только незапертыми, но даже распахнутыми, как будто приглашали войти. Зная гостеприимство норвежцев, я не стал утруждать себя поисками входной двери и шагнул в дом прямо через низкий подоконник. В комнате никого не оказалось. Я огляделся, ища глазами звонок, но затем вспомнил, что у норвежцев нет каминов и звонок обычно помещается за дверью.
Крашеный, коричневый пол, разумеется, ничем не был устлан; в углу на каменной подставке, подобно черной железной колонне, высилась продолговатая немецкая печка; дверь, ведущая, по-видимому, в другие комнаты, была двустворчатая с поворачивающейся ручкой, столь распространенной в деревенских домах. Мебель из простой норвежской сосны была прекрасно отполирована; единственную роскошь составляли две оленьи шкуры: одна – постеленная прямо на полу, другая – накинутая на мягкое кресло. На столе лежали номера «Иллюстрет тидене», «Афтонблат» и других утренних газет, а также пенковая трубка с кисетом. Все указывало на то, что комнату покинули совсем недавно.
Едва я успел осмотреться, в комнату вошел высокий худой мужчина благородной наружности. Одет он был в грубый костюм из твида и ярко-красную рубашку с расстегнутым воротом – наряд простой и непринужденный, каковой он, казалось, носил с врожденным изяществом, а надо сказать, не каждому дано в таком облачении сохранить облик, исполненный достоинства. Остановившись в нерешительности, хозяин удивленно и выжидательно воззрился на меня, в то время как я извинился по-немецки и начал объяснять причину своего вторжения.
–Taler de Dansk-Norsk?{32}32
Вы говорите по-датски или по-норвежски? (норв.)
[Закрыть] – отрывисто спросил он.
Я не могу бегло говорить ни на том, ни на другом, но...
Что ж, добро пожаловать, постараюсь сделать все, чтобы вы продолжили путешествие. А пока не угодно ли коньяку? Я старый солдат, и мне известны прелести хорошего стола и индийского табака в промокшем бивуаке. К вашим услугам также и трубка.
Я поблагодарил его и, пока он отдавал слугам распоряжение сходить за лошадью и одноколкой, внимательно разглядывал его, так как что-то в его голосе и облике вызвало во мне некие смутные воспоминания.
Он был весьма красив собой, в чертах лица его проглядывало что-то орлиное, но вместе с тем на них запечатлелись следы глубокой меланхолии, скрытой, неизбывной печали, какая исходит от разбитого сердца. Лицо было бледное, изможденное, волосы и усы очень густые, но поседевшие добела, хотя ему, судя по всему, едва минуло сорок. Голубизна глаз была лишена мягкости, свойственной этому тону, отчего взгляд делался проницательным и грустным, по временам же он становился тревожным, и тогда в нем читались то страх, то боль, то безумие, а быть может, и все смешение этих чувств. Столь неприятное выражение в значительной мере сводило на нет правильность черт, благодаря которой лицо бесспорно выглядело бы привлекательным. Но когда я сбросил свое промокшее одеяние, лицо хозяина словно озарилось изнутри, и он воскликнул:
–Да ведь вы говорите по-датски, и по-английски тоже, я знаю! Неужели вы совсем забыли меня, герр капитан? – добавил он, сжав мне руку в дружеском порыве. – Неужели вы не помните Карла Гольберга из датской гвардии?
Голос был тем же, что и у моего давнего знакомца – молодого датского офицера, жизнерадостного и общительного, чей неуемный нрав и удаль снискали ему репутацию сорви-головы и повесы. Он имел обыкновение устраивать ужины в Клампенборгских садах, с одинаковой щедростью угощая шампанским как первых дам двора, так и театральных танцовщиц. Многие прекрасные датчанки отдали ему свое сердце, и, как рассказывали, он имел дерзость флиртовать даже с наследной принцессой, находясь в карауле в Амалиенборгском дворце. Но как я мог соотнести с ним этого преждевременно состарившегося человека?
–Я прекрасно помню вас, Карл, – ответил я, пока мы обменивались рукопожатиями, – хотя много времени прошло со дня нашей последней встречи. Прошу прощения, я даже не мог поручиться, живы ли вы или уже на том свете.
Странное выражение, которое я не берусь определить, появилось на лице его, когда он тихо и печально произнес:
Бывают минуты, когда я и сам не знаю, жив ли я или уже на том свете. Прошло двадцать лет с той счастливой поры, когда мы были вместе, двадцать лет, как я был ранен в битве при Идштедте{33}33
Имеется в виду один из эпизодов австро-датско-прусской войны 1864 г.
[Закрыть], – а кажется, будто прошло двадцать веков.
Старина, ты даже не представляешь себе, как я рад тебя видеть.
Да... ты и впрямь можешь теперь называть меня «стариной», – промолвил он с грустной и усталой улыбкой, проводя дрожащей рукой по поседевшим волосам, некогда бывшим, как я помню, темно-каштановыми.
Церемонную сдержанность как рукой сняло, мы живо припомнили наши бесчисленные шалости и забавы, в основном периода гольштейнской кампании, в Копенгагене, в этом самом веселом и восхитительном из всех северных городов. Под влиянием воспоминаний изнуренное лицо Карла прояснилось и на нем постепенно проступило прежнее беззаботное выражение.
Ты здесь рыбачишь или охотишься? – спросил я.
Ни то, ни другое. Тут мое постоянное пристанище.
В таком уединенном сельском уголке? Э, да ты, небось, наконец женился, живешь себе в любовном домашнем гнездышке... Постой-ка, я что-то не вижу твоей...
Тише! ради Бога! Ты понятия не имеешь, кто слышит нас, – прервал он меня, и ужас исказил его лицо. Тут он отдернул руку, дотоле покоившуюся на столе; движение было резким, нервным, будто ее коснулось раскаленное железо. Все это показалось мне странным.
Но почему? – удивился я. – Разве нельзя спросить у старого друга о его...
Навряд ли стоит говорить об этом, уж во всяком случае я бы не хотел, – невнятно пробормотал он. Затем, подкрепившись немалой порцией коньяка и пенящейся сельтерской, добавил:
Ты ведь знаешь, что моя помолвка с кузиной Марией-Луизой Виборг была расторгнута, хотя это была прелестная женщина. Она, возможно, осталась такою же красавицей и доныне – думаю, что и двадцать лет не могли уничтожить очарование и выразительность ее прекрасного лица, но ты, похоже, никогда и не знал, почему это случилось?
–Я думаю, ты скверно обошелся с нею. Это и в самом деле было безумием с твоей стороны.
Судорога пробежала по его лицу. Он снова отдернул руку, словно его ужалила оса, или коснулось нечто незримое:
Она была очень горда, надменна и ревнива – промолвил он.
Вполне естественно: она негодовала, что ты открыто носил кольцо с опалом, которое тебе бросила из дворцового окна принцесса...
Кольцо, кольцо! Ах, прошу тебя, не говори мне о нем! – произнес он замогильным голосом. – Это было безумием, говоришь ты? Да, я и в самом деле был безумен, потому что испытал, да и теперь испытываю то, что разбило бы сердце любого датского удальца! Ну да ты сейчас все узнаешь, если только мне удастся связно и без помех рассказать о причине, заставившей меня спешно покинуть большой свет, отгородиться от мира и на все эти двадцать несчастных лет похоронить себя здесь, в этом горном безлюдье, где леса нависают над фиордом и где мне не улыбнется ни одно женское лицо!
Так, после продолжительного размышления и нескольких непроизвольно вырвавшихся вздохов, после моих настоятельных просьб и некоторых колебаний Карл Гольберг наконец поведал мне историю, столь невероятную и единственную в своем роде, что если б не его печальная серьезность или чрезвычайная торжественность повествования и вместе с тем исходившая из него глубокая убежденность, я счел бы, что друг мой полностью лишился рассудка.
– Как ты помнишь, мы с Марией-Луизой должны были пожениться. Я надеялся, что этот брак исцелит меня от шалостей и мотовства. Уже был назначен день свадьбы, тебе предстояло быть шафером, и ты успел выбрать драгоценности для невесты в Конгенс-Ниторре, но в Шлезвиг-Гольштейне началась война, и мой гвардейский батальон был спешно переброшен на фронт, куда я отправился, скажу откровенно, не особенно сожалея о разлуке с невестой; по правде сказать, мы оба были не очень-то рады этой помолвке и совершенно не подходили друг другу. У нас и секунды не обходилось без колкостей, холодности, даже ссор, как ни старались мы придать своим лицам скучающее выражение.
Я был с генералом Крогом, когда произошло решающее сражение при Идштедте между нашими войсками и немецкими войсками гольштейнцев под командованием генерала Виллинсена. Мой гвардейский батальон сняли с правого фланга, приказав двинуться от Сальбро в тыл гольштейнцам, в то время как главные силы противника предполагалось атаковать и смять в центре, разметав в штыковой атаке его батареи. Вся эта операция была проведена отлично. Но я, командир роты, получил приказ: рассыпаться цепью и атаковать противника, расположившегося в зарослях кустарника, на невысоком холме, увенчанном руинами величественного здания – старинного монастыря с уединенным кладбищем.
Только мы собрались открыть огонь, как мимо нас вдруг двинулась похоронная процессия. Хоронили, судя по всему, знатную даму, и я приказал своим людям посторониться, чтобы освободить путь открытому катафалку, на котором стоял гроб, усыпанный белыми цветами и серебряными венками. Позади следовали служанки, закутанные по обычаю в черные плащи; они несли венки белых цветов и бессмертника, с тем чтоб возложить их на могилу. Я желал только, чтобы скорбящие прибавили шагу, иначе им грозило оказаться под пушечным и мушкетным огнем, который буквально в шестистах ярдах отсюда открыли по боевым порядкам гольштейнцев мои товарищи, а надо заметить, противник наступал с превеликим воодушевлением. Мы вели бой более часа в долгих, прозрачных июльских сумерках и постепенно, хотя со значительными потерями, вытесняли противника из зарослей и с холма, где находятся развалины. Вдруг осколочная пуля просвистела через отверстие в рассыпавшейся стене и ударила меня сзади в голову чуть ниже кивера. Мне почудилось, будто вспыхнули тысячи звезд, затем все померкло. Я зашатался и упал, полагая, что смертельно ранен; слова, обращенные к Богу, замерли на моих губах; стих грохот кровавой и далекой битвы, я потерял сознание.
Как долго я пролежал без чувств, мне неведомо, но когда сознание ко мне вернулось, я увидел, что лежу в красивой, хотя и довольно старомодной комнате, украшенной гобеленом и богатой драпировкой. Комнату освещал приглушенный свет, проникавший непонятно откуда. На буфете лежали моя сабля и коричневый кивер датского гвардейца. Ясно, что меня перенесли с поля боя, но когда и куда? Я был распростерт на мягком диване или кушетке, мундир мой расстегнут. Кто-то заботливо поддерживал мне голову – оказалось, женщина, одетая, как невеста, в белое, да такая юная и прелестная, что тщетно и пытаться описать ее.
Она казалась красавицей, сошедшей со сказочного полотна, какие иногда случается видеть, потому что... она была божественна, истинно так, как вдохновенная мечта или счастливейший из замыслов живописца. Глубокий вздох восхищения, восторга и боли исторгся из моей груди. Красота ее была утонченной. Нежная, бледная, стройная, обворожительно округлые формы, руки – само изящество и великолепные золотистые волосы, пышно вьющиеся вокруг лба и ниспадающие с плеч; и в шелковистом обрамлении локонов, будто из гнездышка, выглядывает прелестное личико. Никогда не забыть мне ее лица! Да мне и не дано забыть его, покуда я жив, – добавил он, при этом черты Карла странным образом исказились, выражая скорее ужас, нежели восторг. – Оно стоит передо мной во сне и наяву, оно запечатлелось и в сердце у меня, и в уме!
Я силился подняться, но девушка заботливым движением успокаивала или удерживала меня, словно мать свое дитя, глаза же ее, живые и лучистые, нежно улыбались мне; да, в них было, пожалуй, более нежности, чем любви. Во всем же облике ее чувствовались достоинство и уверенность в себе.
–Где я? – был мой первый вопрос.
–Со мной, – наивно ответила она, – разве этого недостаточно?
Я поцеловал ей руку и сказал:
–Помню, что пуля будто ранила меня на кладбище на Сальбро-роуд – вот странно!
– Почему странно?
Потому что, когда меня одолеют раздумья, я люблю бродить среди могил.
Среди могил? Но почему? – изумилась она.
–Они выглядят так мирно и покойно. Рассмешила ли ее моя необычная мрачность, но некий странный огонек заискрился в ее глазах, заиграл на губах и прелестном лице. Я снова поцеловал ей руки, и она не отняла их. Обожание и восхищение заполняли мое сердце и взор, губы невнятно пытались выразить переполнявшие меня чувства: необыкновенная красота девушки смущала и опьяняла; возможно, смелости мне придавали мои прежние победы. Она захотела освободить руку, промолвив с укоризною:
Не смотрите на меня так! Я знаю, как легко вы завоевали любовь одной особы.
Моей кузины Марии-Луизы? О! что с того! Я никогда, никогда, клянусь вам, не любил до сей минуты! – И сняв кольцо с ее пальчика, я надел вместо него свой прекрасный опал.
И вы любите меня? – прошептала она.
Да, тысячу раз да!
Но вы – солдат. Вы ранены! Боже! А если вдруг вы умрете прежде, чем мы встретимся вновь!







